
- •Глава 1 понятие культуры
- •Глава 2
- •Глава 3 культура и религия
- •Глава 4 культура и природа
- •Глава 5 культура и идеология
- •Глава 6 типология и периодизация культуры
- •Глава 1 культурология, традиционный и научный историзм
- •Глава 2
- •Глава 9
- •Глава 1 первобытная культура и современность
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 5
- •Глава 6 магия и магизм
- •Глава 1 монументализм древневосточной культуры
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4 душа древневосточного человека
- •Глава 5
- •Глава 1 античная культура и полис
- •Глава 2 тема судьбы в античности
- •Глава 3
- •Глава 4 древнегреческий эпос
- •Глава 5 возникновение философии
- •Глава 6
- •Глава 7 античная трагедия
- •Глава 8
- •Глава 9 римская античность
- •Глава 1 античные предпосылки средневековой культуры
- •Глава 2 средневековая культура и христианство
- •Глава 3
- •Глава 4 культура раннего средневековья
- •Глава 5
- •Глава 6 высокое средневековье. Бюргерская культура
- •Глава 7
- •Глава 8 кризис средневековой культуры
- •Глава 1
- •Глава 2 движение гуманистов
- •Глава 3 пополан, кондотьер, художник
- •Глава 4 кризис гуманизма
- •Глава 1
- •Глава 2 реформация как реакция на возрождение
- •Глава 3
- •Глава 1 новые основания антропоцентризма
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4 романтическое течение в культуре
- •Глава 5 западная культура XIX века
- •Глава 6
- •Часть 11
- •Глава 1
- •Глава 2 русская культура и природа
- •Глава 3 культура киевской руси
- •Глава 4 культура московской руси
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 1 понятие культуры 8
- •6 Бытие. 2:19, 20.
- •77Саксонское зерцало. — м., 1985. С. 44.
- •86М Песнь о Роладе. Clxxiv, 2370-2372. // Западноевропейский эпос. — ji, 1977. С. 662.
- •103 Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). — м., 1985. С. 219-220.
Глава 3
КУЛЬТУРА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Как и Ренессанс, Просвещение нередко называют эпохой в развитии культуры. Между тем говорить о Просвещении в качестве эпохи у нас еще меньше оснований, чем о Возрождении. Возникает Просвещение в конце XVII века в Англии. Своего расцвета оно достигает в середине XVIII века уже на французской почве. Именно в своем французском варианте Просвещение становится наиболее влиятельным в этот период течением в культуре. Но его относительная кратковременность, а главное то, что в середине XVIII века оно не было единственной реальностью западной культуры, не позволяет отнести Просвещение к эпохам культурного развития. Оно сосуществовало с такими течениями, как барокко, классицизм, рококо. Во второй половине XVIII века возникает сентиментализм, находившийся в сложных отношениях с Просвещением, от него зависимый и в то же время явно и скрыто с ним полемизировавший. Хотя Просвещение никогда не было периодом абсолютного преобладания в культуре, все же есть основания говорить о XVIII веке как веке Просвещения по преимуществу. Завершилось оно редко и для самих людей того времени неожиданно. Завершением его стала французская буржуазная революция, на чьих знаменах были написаны лозунги Просвещения. В каком-то смксле в революции Просвещение нашло свое воплощение, но в тоже время она стала его отрицанием. Об этом впечатляюще и вдохновенно сказал современник революционных событий во Франции, наш соотечественник Н. М. Карамзин: «Век восемнадцатый, век Просвещения, я не узнаю тебя, в крови и пламени я не узнаю тебя».
Просвещение стало первым влиятельным и доминирующим течением культуры Нового Времени, в котором нашла свое последовательное выражение ее секуляризация. Тем более показательно, что название течения, по сути своей антихристианского и уж во всяком случае антиклерикального, взято из христианской и церковной традиции. Ведь христианизация предполагает просвещенность и просвещение людей светом Христова учения. Образ света как божественной реальности пронизывает собой все христианство. Присутствует он, например, в главной вероучительной формулировке христианского вероучения, в «Символе веры»: «Верую... во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Свет от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Им же вся быша». Бог и есть свет, и в ипостаси (лице) Отца, и в ипостаси Сына (Иисуса Христа). Поэтому для христианства просвещение, пребывание в свете в пределе равно обожению, преображению человека в Боге. Оно преодолевает онтологическое неустройство человеческого существования, отменяет грехопадение и пад- шесть человеческой природы. Как это очень часто бывает с секулярной культурой, она, в лице Просвещения, в корне переиначила исходный и для него образ света. Теперь речь идет о просвещении людей светом естественного разума, который присутствует в мире и, в частности, в человеке. Просвещение -г- это естественный процесс перехода человека не просто на более высокую ступень развития, а скорее в свое собственно человеческое качество. В человеке, согласно доктринам Просвещения, изначально, самой природой заложена разумная способность. Далеко не сразу человек сумел ее проявить ^ необходимой полноте. По мере же реализации своей разумной способности человек переходит от тьмы или сумерек к свету. Сами деятели Просвещения длительное время предпочитали называть свою эпоху веком разума, веком философов, хотя термин «просвещение» встречается у таких видных его представителей, как Вольтер и Гердер. Окончательно утвердил его в правах гражданства и ввел в повседневный оборот И. Кант. На самом излете Просвещения, в 1784 году, он пишет небольшую статью «Что такое Просвещение?». Она интересна еще и в том отношении, что автор говорит о Просвещении прежде всего как о процессе и перспективе развития человечества, а не о достигнутом результате как просвещенности. В статье Канта содержится характерный призыв к читателю: «Имейте мужество пользоваться собственным умом». По мысли автора, Просвещение и разумность совпадают именно тогда, когда последняя исходит от самого человека, чье неуклонно последовательное мышление ведет к преобразованию действительности от тьмы к свету.
Возвращаясь к вопросу о том, что Просвещение стало первым последовательно секуляр- ным течением в культуре, необходимо отметить, что секуляризация и десакрализация в Просвещении носили вполне осознанный и целенаправленный характер. Если Ренессанс вел дело к секуляризации как своему результату, то Просвещение было чрезвычайно озабочено тем, чтобы Церковь и христианское вероучение были дискредитированы в качестве реальностей, несовместимых с разумом. Оно их неустанно разоблачало и низвергало (так, по крайнем мере, казалось деятелям Просвещения) в прах. Причем здесь не было никакого особого религиозного беспокойства или вызова Богу. Бог медленно и незаметно умирал в душах множества европейцев. С наступлением Просвещения религиозное беспокойство улеглось и начались усилия по дехристианиации европейской культуры. Христианство вдруг предстало как нечто странное, несообразное и опасное своей неразумностью. Верховным законодателем и непререкаемым авторитетом в делах религии на длительное время стал Вольтер. Для него с христианством и Церковью вопрос был решен, они подлежали радикальной и непримиримой критике и устранению. Несколько иначе Вольтер относился к Богу и религии как таковым. При всем своем блеске и остроумии, глубоким мыслителем и, тем более, философом Вольтер не был, поэтому его взгляд на Бога и религию, взгляд, разделяемый ведущими деятелями Просвещения, может быть представлен несколькими фрагментами из вольтеровского сочинения:
«Знание Бога вовсе не запечатлено в наших умах рукою природы, ибо в этом случае все люди обладали бы одним и тем же о Нем представлением, а ведь ни одна идея не рождается
a
i
я
s
к
![]()
![]()
вместе с нами. Идея вовсе не приходит к нам как восприятие света, облика Земли и т. д., получаемые нами с того момента, как раскрываются наши глаза и наше сознание. Но философская ли это идея? Нет. Люди допустили существование богов до того, как среди них появились философы.
Откуда, однако, взялась эта идея? Она вытекает из чувства и той естественной логики, что развивается с годами у самых простых людей. Люди наблюдают поразительные эффекты природы, урожаи и бесплодие, ясные дни и непогоду, благодеяния и бедствия и чувствуют за всем этим господина. Для управления обществами требовались вожди, а потому возникла необходимость допустить существование хозяев этих новых хозяев, коих создала себе людская слабость, — существ, чье могущество заставляло бы трепетать людей, способных угнетать своих ближних. Первые суверены, в свою очередь, использовали эти понятия для укрепления своей власти. В том-то и заключались первые шаги, и потому-то любое небольшое общество имело своего Бога. Понятия эти были грубыми, ибо грубым тогда было все...
Между тем, в больших государствах появились священники, маги, философы, ибо усовершенствовавшееся общество могло уже там выделять из себя праздных людей, занятых умозрениями.
Некоторые из этих людей изощрили свой разум до возможности тайного признания единого и всеобщего Бога...
У нас нет никакого адекватного понятия о божестве, мы можем только переходить от предположения к предположению, от правдоподобия к вероятности » 17
Сегодня разбирать вольтеровские положения о Боге и религии с точки зрения их соответствия истине значило бы ломиться в давно открытые двери. Слишком очевидна их непоследовательность н легковесность. Другое дело, что Вольтер отталкивается в своих настроениях от реалий, которые казались в его эпоху вполне очевидными и, следовательно, могут свидетельствовать о самой эпохе. В частности, Вольеру представляется самоочевидным, что некогда, во времена первобытности, существовали люди, которые постепенно пришли к идее Бога путем наблюдения за явлениями природы и соответствующих умозаключений. Тем самым для Вольтера единственно возможным становится представить себе человека, прежде всего соотнесенного с природой и только затем соотносящего себя с Богом. Как будто изначально человек существовал подобно Робинзону Крузо на необитаемом острове, приходящему к мыслям о Боге. Робинзона создала творческая фантазия Д. Дефо, Вольтер же принимал за Робинзона все человечество. В его лице наиболее влиятельное течение в новоевропейской культуре ХУП1 века подсЛпло к той черте, за которой представить себе отношение человека к Богу можно только по аналогии отношения философа или ученого к окружающему его миру. Религиозный опыт так мало говорит о чем-либо Просвещению, что оно с легкостью отождествляет его с человеческим познанием. И оказывается, что на пути познания Бога никак не прийти не то чтобы к знанию о Боге, но даже к его существованию. Очень забавно утверждение Вольтера о том, что «знание Бога вовсе не запечатлено в наших умах рукою природы». Для него настолько само собой разумеется, что природа первична по отношению к Богу, что ему не приходит на ум более привычная, скажем, для XVII века формулировка «Бог запечатлевается в наших умах благодаря познанию природы». Уже и эта последняя формулировка носит пантеистический характер, растворяя Бога в природе. Еще менее внятна Вольтеру тема Откровения, того, что Вог открывает Себя людям помимо всякой природы в Священном Писании. А уж Воговоплощение и Вочеловечивание Бога, по Вольтеру, полный абсурд, несовместимый ни с опытом, ни с размышлениями. Дороги к Богу, полагает Вольтер, для человека нет. Тем более не приходится говорить о реальной, живой связи человека с Богом. Единственное, перед чем останавливается Вольтер, — это перед полным отрицанием Бога. Он не чистопородный атеист только потому, что признает за Богом существование.
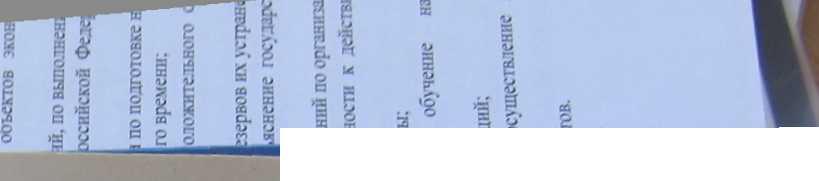
Все же, касающееся Бога более конкретно относится Вольтером к сфере гипотетического и вероятностного. Позиция Вольтера — предел секуляризации культуры, так как он оставляет человека всецело предоставленным самому себе. По Вольтеру, человек ориентируется в мире исключительно исходя из собственного разумения, никакой соотнесенности с Богом у него нет. Когда же такая соотнесенность имеет место, для Вольтера она всегда мнима и иллюзорна, имеет под собой социальные причины. Не случайно у него Бог всегда обслуживает чьи-то интересы, за Его сколько-нибудь конкретным образом стоит чья-то корысть. Как это ни поразительно, Вольтеру уже недостаточно разорвать религию и Церковь. Эту работу до него проделали протестанты, сведя последнюю до роли внешнего религии социального института. Он, по существу, настаивает на разрыве между Богом и религией. Религия также объявляется Вольтером чисто человеческим установлением, решающим человеческие дела. И здесь Вольтеру и Просвещению в целом почву подготовили, разумеется, сами о том не ведая, Реформация и протестантизм. Мы уже видели, что и у вымышленного Робинзона, и у реального Франклина связь человека с Богом, т. е. религия, всегда заключалась в чисто мирских делах. Робинзон устраивал под себя свой остров, Франклин последовательно и упорно наживал себе состояние, но оба они в то же время служили своим неустанным трудом во благо себя своему Богу. Вольтер уже не видит никакого смысла в том, чтобы человек соотносил свои исключительно мирские дела с Богом. Проще, понятнее, естественнее соотнести их с самим человеком, оставив в покое Бога, Его непознаваемость и чуждость человеку.
Трактовка Вольтером Бога и религии, при всей его власти над умами современников, все-таки была слишком радикальной для большинства из них. Преобладало не полное устранение религии и сведение Бога до почти не различимой точечности, а их... секуляризация. Да, именно секуляризация, так как Бог и религия сближались и отождествлялись Просвещением с совершенно мирскими реалиями. Чтобы сделать сказанное более очевидным, обратимся к одному из очень красноречивых документов того времени — написанному в 1770 году утопическому роману J1. С. Мерсье «Год две тысячи четыреста сороковой». Роман этот, в отличие от утопий Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона и других, относит идеальное устройство общества не в отдаленное пространство, а в далекое будущее. Он посвящен описанию Парижа в те времена, когда в нем восторжествовали и воплотились в жизнь главные идеи Просвещения. Среди других глав романа нас будет интересовать глава с названием «Причащение тайн двух бесконечных миров». В ней описан якобы наблюдаемый автором обряд причастия юноши. Оно не имеет ничего общего, кроме названия, с причастием христиан и состоит в приобщении человека к двум мирам: макро- и микромиру. В одном случае причащающемуся юноше дают возможность созерцать Вселенную в телескоп, в другом — глядеть в микроскоп. Хотя бы частично он заглядывает в те бездны, о которых так проникновенно говорил Паскаль и которые вызывали у него ощущение затерянности в глухом углу Вселенной. У нашего юноши реакция на созерцание двух бездн совсем иная:
«Юноша взволнован, поражен, он находится под двумя этими впечатлениями... он плачет от восторга, он не может насытить пылкую свою любознательность, все более разгорающуюся по мере того, как перед ним открывается на каждом шагу в обоих мирах нечто новое... Отныне единственное его стремление — бесконечно черпать из этой небесной сокровищницы чудес... Он говорит себе: «Бог явил мне Себя, я видел Сатурн, Сириус, созвездия Млечного пути. Я чувствую себя выше с тех пор, как Бог соблаговолил протянуть некую нить между Своим величием и моим ничтожеством. О как же я счастлив, что мне дарованы жизнь и разум».18
Откуда же эти юношеские восторги и почему они так противоречат завороженности Паскаля не одной только своей ходульностью и безвкусицей? Дело здесь в том, что у Мерсье потеряно всякое представление о Боге в Его надмирном внутрибожественном бытии, для

него Бог и мир совпадают, так как Он являет себя в мире без остатка. «Что такое бесчисленные звезды, рассеянные в пространстве, — восклицает Мерсье, — как не священные письмена, внятные каждому и зримо возвещающие о Боге, который обнаруживает Себя в них!»18Но там, где Бог и есть мир, природа, там и становится возможным восторженное созерцание бесконечности.
Наш автор силится представить, что открывающаяся человеку в природе безграничность сама по себе божественна, она не противостоит человеческой малости и ничтожеству, а вызывает в человеке благоговение. Паскаль отменяется с легкостью потому, что человек понимается теперь как чисто природное существо. Собственно человеческое в нем — не душа, не дух, не личность, а разумное начало. Разум же осуществляет себя в познавии и знании существа вещей. А это существо, в свою очередь, состоит в разумности природы. Разум человека устремляется во вселенную и обнаруживает свое родство с ней ввиду царящего повсюду разумного начала. Это начало можно осмыслять как законосообразность природы, и только. Так смотрит на мир XIX век. Человек же Просвещения еще как-то остаточ- но был соотнесен с Богом. Он совсем потерял восприимчивость к христианству, но от Бога как такового не был готов отказаться даже Вольтер. Для него и, тем более, для Мерсье вопрос стоял вполне определенно: если мир существует в соответствии с определенными законами, значит, у него есть законодатель. Таковым и является Бог как мировой разум. Он отличим от мира в качестве его упорядочивающего и гармонизирующего начала. Если так можно выразиться. Бог Просвещения мыслит законами природы, они же формируют и направляют природу. Никакой другой роли у Бога в мире нет. Он разум и только разум, являющийся источником природных законов.
Когда человек обращает свое природное разумное начало к природе в целом, то есть ко Вселенной, и, постигая свое родство с ней, испытывает восторг благоговения, у него возникает некоторое подобие религиозного мироотношения. Люди Просвещения называли его естественной религией, в противоположность сверхъестественности христианства. Она естественна потому, что для нее существует одна только природа с ее естественно-разумными законами.
У этой религии даже Бог — естественное существо. По словам Мерсье, вполне расхожим в век Просвещения, «Вселенная — вот храм ее». Человек же «религиозен, если разумен*. Последние слова, ничуть не меняя их смысла, можно переиначить и так: для человека религия состоит в познании. Познании естественном, исходящем из человеческого разума как познавательной способности. Окончательно проговаривая существо вопроса, остается сказать, что религиозное мироотношение совпадает с научным познанием, религия и есть наука. Наука же совпадает с религией тогда, когда касается общих вопросов мироздания. Не случайно в простодушной утопии Мерсье, человека достаточно заурядного, живущего общепринятыми взглядами Просвещения и тем для нас более всего интересного, в его утопии в : дни, когда люди обращаются к Богу и совершают богослужение, «наши физики, наши астрономы спешат объявить нам о своих замечательных открытиях; провозвестники Бога, они I заставляют нас постигать Его в предметах, что кажутся нам неодушевленными: все проникнуто Богом, — говорят они нам, — Бог во всем обнаруживает Себя». 20
Перед нами очень откровенно выраженная неразличенность Бога и мира, физических исследований и служения Богу. Но неразличимы здесь наука и богослужение явно не в пользу богослужения. Не наука растворяется Мерсье и всем Просвещением в религии, а религия - I в науке. Последняя приобретает себе достоинство, никогда ей ранее не принадлежавшее, | быть для человека высшей реальностью.
Сводя свои счеты с христианством, Просвещение, так ему по крайней мере представ^*' : лось, выполняло достаточно простую с точки зрения разума задачу. Сложности здесь могл* j
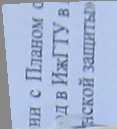
быть чисто внешние: цензура, противодействие государственных и духовных властей и т. п. Гораздо более насущной, увлекательной и трудной деятелям Просвещения представлялась задача борьбы с Церковью. Для себя им решать что-либо по поводу Бога и христианского вероучения нечего. Все ясно и очевидно, никакой проблемы, заслуживающей длительного обсуждения, самой по себе не было. Проблема христианства только в том, что христианские представления о Боге, религии, Церкви не изжиты другими. Другие же — это непросвещенные или обманутые люди и те, кто более или менее сознательно держит их в темноте. За первых и нужно бороться со вторыми, за темных людей — с мракобесами. Мракобесы — это прежде всего Церковь. Она держится за христианство как за истину, для нее есть вещи поважнее всякой истины, и это прежде всего корысть. Как и во времена герцога де Ларошфуко, она по-прежнему понимается как определяющая человека в его существе страсть. Если же корысть Церкви состоит в том, чтобы держаться за христианство, то никакие разоблачения вероучения Просвещению не помогут. Необходимо разоблачить самое Церковь, скрытые от посторонних глаз пружины ее действия на верующих. В цитировавшемся уже отрывке из Вольтера он утверждает, что Бог и религия нужны верхам и низам общества. Первым — чтобы держать в повиновении простых людей, вторым — чтобы утешать себя сознанием, что над их властителями тоже есть господин. Если подобную истину довести до широкой публики, то сами основания Церкви будут подорваны, считали деятели Просвещения. Просвещенные люди откажутся принимать Церковь всерьез. В самом главном борьба с Церковью, ее разоблачения свелись к бесчисленному использованию двух сформулированных Вольтером (впрочем, не им одним) расхожих аргументов. Они дополнялись разнообразной фактурой из жизни Церкви, свидетельствами всякого рода непотребств и пороков, царящих в церковной среде. Обыкновенно антиклерикализм Просвещения был не лишен остроумия. Но оно изменило тем не менее даже самому остроумному просвещенцу Вольтеру. Ему принадлежит знаменитый призыв к ниспровержению Церкви: «Раздавите гадину!» Когда до такого хрипящего и задыхающегося неистовства доходит, казалось бы, бесконечно ироничный человек, очевидно, что Церковь для него — камень преткновения, она глубоко несовместима со всем миром Просвещения, который олицетворялся Вольтером.
У Вольтера подобная несовместимость, возможно, была подкреплена какими-то личными счетами и обстоятельствами, но она укоренена и в самих основаниях нового мировоззрения, того мировоззрения, для которого в принципе не очень важно, есть ли Бог, а если Он и существует, то ничем не отличим от природы. Когда для ренессансного человека Бог перестал быть чем-то жизненно важным, это произошло за счет того, что божественность он ощущал в себе. Человек был так наполнен и восхищен собой, что все другое становилось второстепенным. Он мог сказать о себе: «Надо же, каким божественным сотворил меня Бог!» Но тот, кто божествен сам, ни перед кем другим не благоговеет в своей обращенности и замкнутости на себя.
У человека Просвещения совсем нет ощущения своей божественности. Его замысел
о себе гораздо скромнее. Ему чужды ренессансная серединность и антропоцентризм, если под ними понимать открытость человеку дольнего и горнего, земного и небесного, профанного и сакрального миров. Ренессансный человек в своем восприятии — царь природы, но п перед Богом честь ему выше, чем у ангелов. Человек Просвещения ощущает и мыслит себя существом чисто природным. Не потому, что он чужд божественному и небесному, оторван от него. Природа и есть высшая и последняя реальность. Никакой сверхприродно- сакральной реальности не существует, ее исходя из своих корыстных расчетов измыслили жрецы и священники, поддержанные как власть имущими, так и низами. Если в основе природы и есть Бог, то лишь в качестве первопричины и первосущности, а не Всеблагого Творца, не Абсолютной личности. Как мы могли убедиться на примере стремящегося в Просвещении быть с веком наравне Мерсье, для Просвещения Бог — это та же самая природа в ее средоточии и все собой определяющем центре. Этот центр — разум. Он может быть
назван Верховным Разумом, в отличие от обычного человеческого разума. Их объединяет самое главное — природность, различия же между ними — это различия в степени, они количественные. Можно, конечно, и в рамках Просвещения назвать человека божественным. Как-никак в силу своей разумности он одноприроден Верховному Разуму, т. е. Богу. Но в данном случае обожествление человека будет пустой игрой в слова, потому что полная однородность мира, его сплошная природность устраняет, по существу, исконное и, казалось бы, неотменимое расчленение реальности на сферы профанного и сакрального. Ренессанс в этом случае был гораздо менее последователен, чем Просвещение. Для Ренессанса самообожествление человека сближало его с Богом. Но весь остальной природный мир в результате не обожествлялся. Человек в качестве творца становился богом тварного мира, В такой позиции было свое противоречие и самоотрицание человеком своей божественности. В частности, потому, что человеческое творчество должно было преобразовать мир, наложить на него печать и образ человека. Однако такой путь очеловечивания мира невольно вел к его сакрализации. Ведь человеческое в ренессансном понимании и есть божественное, а значит, очеловечить мир и есть обожить его. Выходило так, что реальности и Бога, и человека, и мира (природы) в тенденции сакральны. Профанное преходяще и преодолимо. Совсем в другом направлении двигалось Просвещение. Оно устраняло разнокачественность профанного и сакрального не за счет сакрализации первого, а в пользу профанирования второго. Божеское и человеческое встречались в Просвещении на одной для них почве природности. Природа едина и однородна в своей основе, не говоря уже о том, что она всеобъемлюща. Но у нее есть полюса: человеческий и божественный. Оба они — полюса разума. Один из них соотнесен с природой в ее частичности, временности, ситуативности, другой же — с природой в ее целом, взятом на фоне всей полноты времен. Видимо, можно утверждать, что с наступлением Просвещения новоевропейский антропоцентризм, в свое время сменивший антропоцентризм ренессансный, претерпевает еще одно превращение. Теперь он означает не величие и достоинство человека и не его уединенную малость бытия на грани двух бездн, а антропоцентризм, тождественный природоцентризму. Человек в качестве природного и разумного существа осознает всю свою малость перед лицом необозримой и вовне, и вовнутрь природы. Но, с другой стороны, он ее частичка, сопричастная своим разумом средоточию бытия. Обладая разумом, человек содержит в себе самое сущностное начало природной реальности. Ему ни к чему преодолевать в себе свою человеческую природу, выходить за свои пределы в сверхчеловеческую реальность. Достаточно быть самим собой, т. е. человеком.
От других детей природы человека отличает его природная же способность, природная сила — разум. Он вырывает своего носителя из тьмы неведения как чисто животного состояния. У Паскаля разум противопоставлял человека Вселенной, возвышал его над ней и оставлял в ужасающем одиночестве. Для Просвещения такое отношение к разуму неприемлемо. Если он представляет собой природную силу, то и должен соединять человека с природой, а не разверзать между ними пропасть. Разум как природная сила способствует ориентации разумного существа в мире, его устроению в соответствии с законами природы. Ведь мир в своей основе законосообразен, т. е. разумен, разумен и человек, так почему бы человеческому и природному разуму не соответствовать друг другу. Они и соответствуют в соответствии с представлениями Просвещения. Предположим, мир — это некоторый аналог часового механизма и движется он, как заведенные часы. Движение колесиков, рычажков, шестеренок часов, их стрелок осуществляет собой устройство часов, их законосообразность и разумность. Человек отличается от других элементов часового механизма своей разумностью. ОЦ и состоит в знании устройства часов. Правда, отличие человека от винтика или шестеренки в том, что от него зависит более или менее успешное осуществление своей роли в часовом механизме, который от своей крошечной детальки практически независим. В остальном же образы часов-природы и разумного винтика-природы вполне подходящи.
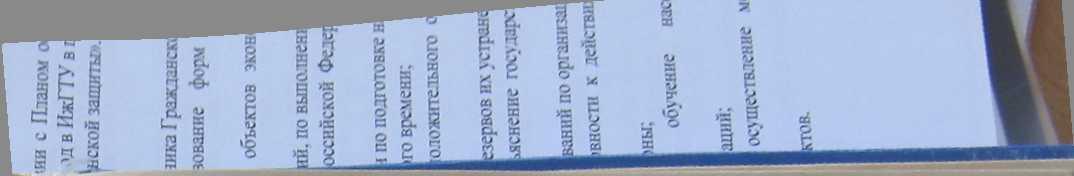
Быть разумным для человека — это всегда разуметь природу, постигать ее с тем, чтобы жить с ней в согласии. Но зададимся теперь вопросом, кем же все-таки является человек как носитель разума, какого рода оно, это существо? Ответ более или менее очевиден, хотя в своей обнаженной сути вряд ли устроил бы всех деятелей Просвещения. Человек представляет собой разумное животное. Скажем так: разумное, но животное, животное, но наделенное разумом. Поскольку человек остается животным, он стремится к удовлетворению своих животных потребностей. Он хочет быть сытым, согретым, ощущать себя в безопасности, не подвергаться угнетению со стороны других животных, удовлетворять свое половое влечение и т. д. Если же человек — животное, наделенное разумом, то разум в первую очередь предназначен для того, чтобы все перечисленные и другие однотипные им потребности удовлетворялись более успешно. Далее, он способен различить первоочередной ряд потребностей от менее насущных, необязательных или излишних. Наконец, в возможностях разума гармонизировать животные потребности, удовлетворять одни не во вред другим, избежать противоречий между ними и т. д. Во всех перечисленных случаях разум разумного животного человека выступал в качестве инструмента, обслуживающего его животную природу. Но поскольку человек — не только животное, йо и разумное существо, то у разума могут быть и свои собственные «возвышенные» потребности. Они не такие первоочередные и строго обязательные, как животные, и все же имеют свое законное право на удовлетворение. Поскольку разум — это мышление, оно стремится обмыслить все сущее, высветить для себя устройство всей природы. Здесь человек по необходимости бескорыстен, если, конечно, знание о подлинном устройстве Вселенной не вступит в противоречие с его более насущными и первоочередными животными потребностями и интересами. Вообще же говоря, выгода, польза, корысть прикреплены к человеку намертво, от них ему не оторваться ни при каких условиях. На то человек и животное, чтобы во всем преследовать свою корысть, быть эгоистом, замыкающим весь мир на свои потребности. Но как разумное животное человек еще и эгоист разумный.
Выражение «разумный эгоизм» принадлежит лексикону русских революционных де- мократов-шестидесятников. Его пустил в оборот их лидер Н. Г. Чернышевский своим романом «Что делать?». Этот роман, помимо полного отсутствия каких бы то ни было художественных достоинств, отличают еще и удивительная запоздалость и провинциализм мысли. Его автор победоносным тоном первооткрывателя проговорил как раз те истины о человеке, которые были общим местом за сто лет до написания романа. В чем же они состоят и что понимал Чернышевский под разумным эгоизмом в полном соответствии с духом Просвещения XVIII века? Человек как природное существо, удовлетворяющее свои животные потребности, замкнут только на себя. Он стремится к максимальному внутреннему и внешнему благополучию, т. е. счастью. В этом его стремлении человеку, по сути, до другого человека самого по себе никакого дела нет. Другой для него не более, чем средство достижения своих целей, удовлетворения своих потребностей. Человек по своей природе Робинзон, способный жить на необитаемом острове, но и среди людей так же уединенно замкнут на себе. Внешнюю надобность в людях испытывал и Робинзон, тем более необходимы они человеку просвещенческой выделки. Он прекрасно понимает, что среди людей и через них гораздо проще и легче достигнуть собственного счастья. В то же время человек, поскольку он разумен, не может не сознавать, что не только он единственная цель для самого себя, тогда как все остальные — средства, но и другие цель своей жизни видят в самих себе, его же самого готовы сделать средством. Потому по-настоящему, разумно понятый личный интерес одного индивида, его польза состоят в том, чтобы, обеспечивая свое собственное благополучие, не препятствовать, а в чем-то даже и способствовать счастью другого индивида. Короче, одному индивиду выгодно соблюдать до известного предела выгоду другого индивида. В результате мы приходим к тому, что разумный эгоизм включает в себя общественный интерес. На нем как на достаточно надежном фундаменте может быть построено здание общества. Вот
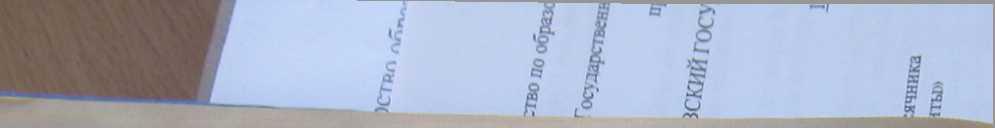
в своей основе и вся нехитрая премудрость просвещенческого учения о человеке. Его скудность и плоскость сразу бросается в глаза. Просвещенческому человеку представлялось иное. Он был уверен в том, что наконец-то живет в мире, освобожденном от невежества, обмана и иллюзий, и непредвзято смотрит на вещи в их истинном свете.
Если говорить о Просвещении в целом, то оно сознательно и радикально противопоставило себя всем предшествующим течениям и эпохой как Век Разума — векам, более или менее, но всегда нагруженным предрассудками. Эпоху предрассудков по преимуществу Просвещение видело в Средних Веках, для него это были темные века, временами освещаемые вспышками костров инквизиции. Зачатки разума и даже его внятные проявления, на взгляд Просвещения, знали Античность и Возрождение, хотя и они не были чужды варварства и предрассудков. Дихотомия разума (рассудка) и предрассудка, йожалуй, наиболее характерна для Просвещения. Все, что предстоит человеку, с чем он сталкивается, должно пройти проверку на разумность, считает Просвещение. Идущее от обычая, традиции, привычки подвергается сомнению и очень часто не выдерживает подобной проверки. Когда-то подобный пафос наблюдался у Сократа. Не случайно его деятельность некоторые историки культуры относили к греческому «просвещению*. Однако Сократ был изощреннейший диалектик. Просвещение же XVIII века берется судить обо всем с позиций прямо противоположных. Их можно обозначить как позиции здравого смысла. Здравый смысл или обыденный рассудок становится верховным арбитром во всех вопросах. Если нечто не укладывается в житейский опыт и исходящую из него логику ясных, простых, каждому понятных суждений и размышлений, оно отвергается в качестве предрассудка. Но что из себя в таком случае представляет здравый смысл, взявший вдруг на себя право выносить оценки и приговоры там, куда его ранее не пускали?
Исконно он принадлежал человеку «золотой середины» и выражал собой его познавательную ориентацию в мире. Здравый смысл — это мир, увиденный глазами человека постольку, поскольку он остается человеком и не выходит в сферу божественного в ритуале мистерии, богослужения, философствовании. Исконно человек «золотой середины» не претендовал на то, чтобы его мудрость, а ее носителем, как об этом уже шла речь, был мудрец, выходила за пределы человеческой реальности. Наряду с ней оставалась еще божественная реальность. Видимо, не будет большим искажением исторической перспективы и нарочитой модернизацией сказать, что человек Просвещения с его здравым смыслом — это тот же серединный человек, который, в отличие от своих античных предков, берет на себя смелость распространить человеческую мудрость повсеместно, вытеснив и заменив ею всякие другие реалии.
Человеческая мудрость здравого смысла, в частности, стала тем препятствием, которое сделало Просвещение, называвшее себя веком философов, самым нефилософичным течением, которое только знала новоевропейская культура. Действительно, ни одного великого философа, который был божеством Просвещения, это течение в своих рядах не числит. Те, кого Просвещение принимало за философов (Вольтера, Монтескье, Дидро), были на самом деле идеологами, а если и философами (Гольбах, Гельвеций, Кондорсэ), то очень малозначительными. Мысль Просвещения была преимущественно идеологична ввиду того, что она стремилась прежде всего к разъяснению и популяризации некоторого ограниченного набора идей или истин, которые являются достоянием здравого смысла, в своей основе ясны и очевидны, хотя и затуманены искусственно людскими предрассудками и прямой корыстью.
В этом разъяснении просветители могли быть энтузиастичны, философы остроумны, но к их интеллектуальному и, в частности, философскому творчеству их сочинения имели мало отношения. Философия ведь изначально, еще в момент своего возникновения в Древней Греции, тяготела к божественной мудрости, стремилась выйти за рамки человеческого знания, человеческая мудрость была ей не указ. Просвещение же как раз со своим здравым смыслом и настаивало на человеческом знании, всякий намек на выход в сферу божественного
ш
1
•1
8.
jU
1—I
я
1
8
§
I
111
в
II i||
it ii л
|| *
1
si ■?»
И 11 i
Р 1
I
Е.
§' Е й и 1
si
ё I 2 * I 1

им отвергался. По ту сторону человеческого знания для Просвещения начиналась тьма предрассудков, тогда как философия только и делала, что стремилась к вещам божественным, к тому, чтобы достигнуть точки зрения вечности, поставить познающего человека — философа — на место Бога и обозреть с Его «места» все сущее.
Помимо философии, Просвещение оказалось полностью невосприимчивым к христианству и его вероучению. И тоже потому, что, кроме мудрости здравого смысла, отказывалось считаться с какими-либо другими смыслами. Естественная религия целиком соответствует здравому смыслу, христианство же в него не укладывается, значит, первая религия истинна, тогда как вторая представляет собой скопище предрассудков. Просвещенцу, например, странной и дикой кажется христианская догматика. Для него, кроме абсурда, ничего не содержится в положении о том, что Бог един в трех лицах. Один и три, с точки зрения здравого смысла, не совпадают. Он готов какгто понять утверждение о единственности Бога, понятен ему и тезис о трех богах. Каждый из этих двух тезисов просвещенец готов хотя бы обсуждать, соглашаться с ним или его опровергать. А вот в утверждении о троичности и единстве Бога человек Просвещения скорее заподозрит глубочайшее невежество или какой-то злокозненный умысел священников. Стоя на позиции здравого смысла, он будет по-своему логичен и последователен. Другое дело, что христианское богословие, приняв положение о единстве и троичности Бога или богочеловеческой природе Иисуса Христа, вовсе не настаивает на их соответствии здравому смыслу. Как раз наоборот, они находятся до ту сторону здравого и вообще доступного человеку смысла. Эти положения открыты опыту Церкви и сформулированы на ее Соборах. Причем сформулированы в предположении того, что человеческий разум триединство Бога и богочеловеческую природу Христа постигнуть не в состоянии. Знание о них — это своего рода знание о незнании, данность абсолютного относительному, бесконечного конечному. Повторим, ничего такого здравый смысл Просвещения не воспринимает и не хочет воспринимать, собственные границы ему неведомы. Он уверен в себе и считает себя Разумом, единственно существующим способом познания. Но хорошо бы, если бы здравый смысл обнаруживал свое бессилие только в постижении вещей божественных. Их он по крайней мере чурался. Что же касается дел Человеческих, то здесь он судил и оценивал очень самоуверенно и безоглядно и в результате обнаруживал в пространстве и времени множество предрассудков, заслуживающих осмеяния или презрительного недоумения. Скажем, Просвещение хорошо относилось к Гомеру, видя в его поэмах массу достоинств. И все же человек Просвещения подозревал или проговаривал даже, что поход ахейцев под Трою и их девятилетняя война с троянцами — это величайшая глупость и предрассудок. Ну, как это можно — годами проливать свою и чужую кровь из-за того, что у одного из греческих царьков то ли сбежала, то ли украдена жена? А крестовые походы? • Разве не дикий предрассудок идти в далекую Палестину с очень незначительными шансами остаться в живых и биться там за могилу того, кто, скорее всего, вообще не существовал? Ничуть не больше смысла и в борьбе католиков с протестантами. Догматические различия между ними, несовместимость в понимании Бога и Церкви, жизненном укладе и т. п. просвещенец Дж. Свифт сводит к противостоянию остроконечников и тупоконечников, тех, кто разбивает яйцо с более острого или с тупого конца. Конечно, противостояние католиков с протестантами в какие-то моменты могло доходить до мелочности и абсурда, непримиримая вражда всегда чревата подобными вещами. Но сводить к мелочности и абсурду великий раскол в Католической Церкви можно только в ощущении своего неизмеримого превосходства над своим историческим прошлым. Такого рода превосходство сполна ощущало в себе Просвещение. Просвещенный человек никогда бы не поплыл под Трою, не отправился к Гробу Господню, не стал бы спорить по догматическим вопросам и т. д. У него другие заботы
и приоритеты.
Они заключаются в том, чтобы устроить свою жизнь на рациональных началах, в соответствии с требованиями разума. Этим требованиям соответствуют законы мироздания. Между

человеком и миром существует соответствие, в принципе они однородны. Поэтому, если преодолеть невежество и предрассудки, человек может сделать свою жизнь счастливой. В чем состоит человеческое счастье, к чему должен стремиться человек и человечество, Просвещение представляло себе довольно неопределенно. Сила его была вовсе не в мировоззренческом позитиве, а в критике культуры. Многое из того, что Просвещение поставило под вопрос или дискредитировало, давно заслужило своей участи. Совершенно неслучайно это буржуазное в своей основе течение стало течением, которое не имело сословных границ. Среди виднейших просветителей — множество дворян и даже представителей высшего слоя дворянства. Они искренне принимали Просвещение и становились его горячими сторонниками, несмотря на то, что оно предвещало скорый конец дворянской и полное торжество буржуазной культуры. Так, само наличие дворянства, аристократии и, тем более, монархии с позиций Просвещения лишено смысла. Оно покоится на предрассудках и невежестве. Правда, просветители приветствовали, скажем, просвещенный абсолютизм и просвещенных монархов. Таких, как Фридрих II в Пруссии, Иосиф II в Австрии или Екатерина П в России. В них они видели людей, способных быстро и успешно ввести Просвещение сверху. Более или менее сознательно закрывались глаза на то, что полное торжество Просвещения сделает ненужной и неуместной фигуру монарха. В какой-то степени это понимали и сами монархи. И тем не менее обаяние Просвещения было так велико и его действие на умы так неотразимо, что перед ним мало кто мог устоять. Парадокс этого течения культуры состоит в том, что оно, само по себе не обладая ни блеском, ни великолепием, ни глубиной, тем не менее вызывало у своих сторонников сегодня трудно объяснимый энтузиазм. В XVIII веке человечество бурно приветствовало подрыв и разрушение тех реалий жизни, которых в скором времени ему будет не хватать и по поводу которых у него возникнут ностальгические настроения.
