
08 Воропаев Е. - Психолого-педагогические факторы креативности воспитанников детских театральных студий
.pdf21
универсальность, амбивалентность (в данном случае — восприятие бытия в постоянном изменении, вечном движении от смерти к рождению, от старого к новому, от отрицания к утверждению), неофициальность, утопизм, бесстрашие. В
ряду обрядово-зрелищных форм народной средневековой культуры М. Бахтин называл празднества карнавального типа и сопровождающие их (а также и обыч-
ные гражданские церемониалы и обряды) смеховые улично-театральные действа: «праздник дураков», «праздник осла», «храмовые праздники» и т. д. Обилие пиршественных образов, гиперболическая телесность, символика плодородия,
могучей производительной силы и т.д. акцентировали бессмертие народа: «В
целом мира и народа нет места для страха; страх может проникнуть лишь в часть,
отделившуюся от целого, лишь в отмирающее звено, взятое в отрыве от рождающегося. Целое народа и мира торжествующе весело и бесстрашно» [там же, с. 48].
М. Бахтин раскрывает своеобразие народной смеховой культуры средневековья и Возрождения как значительной части общей культуры, «противостоящей официальной и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального средневековья» [там же, с. 22]. Ученый подчеркивает,
что, начиная с первобытных времен, серьезные и смеховые культы, ритуалы были
«одинаково священными и одинаково, так сказать, «официальными». Но, в связи с расслоением культуры в условиях классового и государственного строя – «все смеховые формы одни раньше, другие позже – переходят на положение неофициального аспекта, подвергаются известному переосмыслению,
осложнению, углублению и становятся основными формами выражения народного мироощущения, народной культуры» [там же, с. 23]. Если официальные праздники утверждали стабильность, неизменность и вечность существующего миропорядка, освящали торжество уже победившей,
господствующей, непререкаемой «правды», то карнавал «был как бы временной приостановкой действия всей официальной системы со всеми ее запретами и иерархическими барьерами»: в это время жизнь на короткий срок выходила из своей обычной колеи и вступала «в сферу утопической свободы». Поэтому
21
22
средневековый смех и карнавал – как вся богатая народно-праздничная жизнь средних веков и Возрождения – интерпретируется в книге М. Бахтина как «особая и притом положительная точка зрения на мир, как особый аспект мира в целом и любого его явления». «Отношение к смеху Ренессанса, можно… охарактеризовать так: смех имеет глубокое миросозерцательное значение. Это одна из существенных форм правды о мире в его целом, об истории, о человеке;
это особая универсальная точка зрения на мир; видящая мир по – иному, но не менее (если не более) существенно, чем серьезность; поэтому смех так же допустим в большой литературе (притом ставящей универсальные проблемы), как и серьезность, какие-то существенные стороны мира доступны только смеху»
[там же, с. 32].
С эстетической точки зрения, карнавальная культура представляет собой особую концепцию бытия и особый тип образности, в основе которых, по мнению М. Бахтина, «лежит особое представление о телесном целом и о границах этого целого» [там же, с. 54]. Это представление М. Бахтин определяет как гротескную концепцию тела, для которой характерно то, что с точки зрения «классической» эстетики («эстетики готового, завершенного бытия») кажется чудовищным и безобразным. Если классические образы индивидуализированы, отделены друг от друга, как бы очищены «от всех шлаков рождения и развития», то гротескные образы, напротив, показывают жизнь «в ее амбивалентном, внутренне противоречивом процессе», концентрируются вокруг моментов, обозначающих связь между различными телами, динамику, временную смену (совокупление,
беременность, родовой акт, акт телесного роста, старость, распадение тела и т. д.). «В отличие от канонов нового времени гротескное тело не отграничено от ос-
тального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого,
выходит за свои пределы. Акценты лежат на тех частях тела, где оно либо открыто для внешнего мира, то есть где мир входит в тело или выпирает из него,
либо оно само выпирает в мир, то есть на отверстиях, на выпуклостях, на всяких ответвлениях и отростках: разинутый рот, детородный орган, груди, фалл,
толстый живот, нос» [там же, с. 56].
22
23
Особый интерес для нашего исследования представляет трактовка катарсиса в работе Б. Бахтина. Так, анализируя творчество Н. Гоголя,
исследователь отмечает, что писатель в своих произведениях «создает своего рода к а т а р с и с пошлости» (разрядка Б. Бахтина) [там же, с. 536]. Б. Бахтин полагает, что явление, принадлежащее «малому времени», может быть только отрицательным, но в «большом времени» оно амбивалентно и всегда любо, как причастное бытию. Потому что такая причастность к вечно становящейся, но не умирающей жизни снимает серьезность разыгрываемых в произведениях Н.
Гоголя неприглядных положений.
Концепция карнавала, выдвинутая в книге М. Бахтина о Ф. Рабле, вызвала при своем появлении и публикации бурные споры, да и до сих пор далеко не явля-
ется общепризнанной. Для нас, в контексте данной работы, важно подчеркнуть следующее: М. Бахтин акцентирует стихийное, хаотическое начало в
«фундаменте» сценического искусства. Это помогает понять театр как балаган,
веселую артель бродячих артистов, известных детям по мультфильму
«Бременские музыканты». Таким образом, не только высокая трагедия и подражание одухотворенному космосу становятся содержанием сценических представлений. Пожалуй, именно от средневековых фаллических шествий тянутся нити к КВН-ам и капустникам, развлекательным представлениям и массовым театрализованным действам на площадях городов, а также – к
современным детским театрам.
1.1.2. Личностные качества режиссера как предмет философско-
культурологического осмысления
Первыми «исполняющими обязанности» режиссеров, как о том свидетельствует история, были разнообразные служители культа, жрецы,
руководящие Великими Дионисиями, драматурги, государственные чиновники,
активисты из народа, старшие, более опытные актеры, антрепренеры, дилетанты-
меценаты, и т. д. Поэтому в параграфе 1.1.2.1 мы подойдем к поставленному вопросу широко и рассмотрим мифологемы (или «начала») Ф. Ницше, в которых
23
24
мы усматриваем персонификации личностных качеств творца. В данном случае кажется уместным привести замечание А. Лосева о том, что античные боги – это законы природы, проявленные в космосе и человеке [90]. Содержание мифологем не удается выразить в системе четких научных понятий, но философы,
культурологи и театроведы охотно пользуются ими, поскольку с помощью данных «начал», по мнению философа Ф. Юнгера [188, с. 9], можно описать
«кентаврические» (это слово он позаимствовал у самого Ф. Ницше), то есть,
психологически трудносовместимые процессы, в которых вынужден пребывать творец – в данном случае – управляющий сценическим действом.
Параграф 1.1.2.2 представляет собой исторический очерк, где будут рассмотрены основные «роли», которые «исполняющий обязанности режиссера» брал на себя – по мере развития театра как вида искусства.
1.1.2.1 Представления Ф. Ницше о дионисийском, аполлоническом и
сократическом началах в театральном творчестве
Обращаясь к эстетической концепции автора работы «Рождение трагедии,
или эллинство и пессимизм» [112], считаем важным подчеркнуть, что часто упоминаемое противопоставление «дионисийского» и «аполлонического» –
думается, не есть основной пафос работы философа. В своей работе он прослеживает противостояние в искусстве «сократического» и «дионисийского» начал. Так, он фиксирует глубокий перелом в жизни античной Греции, где героический период сменяется таким же торжеством посредственности. Дело, по мнению Ф. Ницше, заключается в том, что изменился дух общества, а дух этот лучше всего выражен в искусстве. Героическому периоду, подвигам и великим деяниям героев соответствует великое искусство трагедии, выражавшее непосредственно полноту жизни. Трагедия произошла из посвященных Дионису хоров. Это было импровизационное искусство, оно порождалось к жизни озарением, экстатическим единением всех участников хора. Хор грезил наяву,
созерцая величественные картины борьбы Диониса с врагами, гибели его и возрождения.
24
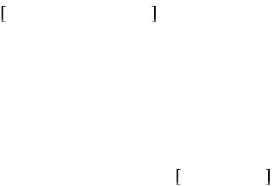
25
Но, как известно, трагедии, ставившиеся на Великих Дионисиях с VI века до н. э., сменились в V веке до н. э. комедиями. Почему великое искусство,
уступило место мелкому, мещанскому?, – задаѐт вопрос Ф. Ницше. Потому,
отвечает он, что в обществе распространился сократический дух, вытеснивший дух дионисийский. «Дионис – это священный экстаз, Сократ – это холодный разум. Дионисийский дух – это инстинктивный порыв, великий подвиг героя.
Сократический дух – это размышление без поступка, превратившееся в самоцель.
Дионисийский дух – это жизнь, жизненная энергия. Когда она уходит, ее место занимает мертвенно-холодный разум» там же, с. 298 . Итак, сущность дионисийского феномена, соотносимого, по мнению Ф. Ницше, с состоянием опьянения, ведущего к оргиальности, экстатизму, «пляске на краю пропасти» раскрывается нам в игре созидания и разрушения некой мирообразующей силы,
которая у Гераклита Темного «сравнивается с ребенком, который, играя,
расставляет шашки, насыпает кучу песку, и снова рассыпает их» 112, с. 163 .
Интересно, что феномен художественного вдохновения философ мыслит исключительно в дионисийском, стихийном ключе. Ф. Ницше, переживая это состояние, ощущает себя «мундштуком потусторонних императивов», «динамитом», человеком, «заглянувшим в глаза демону» и «ослепленным навеки». Сама собой напрашивается параллель: описание такого состояния мыслителем очень похоже на «исступления мелических поэтов», которые
«становятся вакхантами и одержимыми» о чем сказано у Платона (см. 1.1.1.1).
Понимание философом сократического и его отношения к категории эстетического весьма неоднозначно. С одной стороны, сократизм морали,
диалектика, довольство и радостность теоретического человека, по мнению мыслителя – признак падения, усталости, вырождения искусства. В то же время другие высказывания Ф. Ницше свидетельствуют об обратной оценке мифологемы. Так, в работе [114, с. 194] философ утверждает, что «познание даже и безобразной действительности прекрасно». Счастье познающего увеличивает красоту мира, познавание в своей сущности – эстетично (другими словами, не только Аполлон в союзе с Дионисом рождает красоту). А высшее счастье даже
25
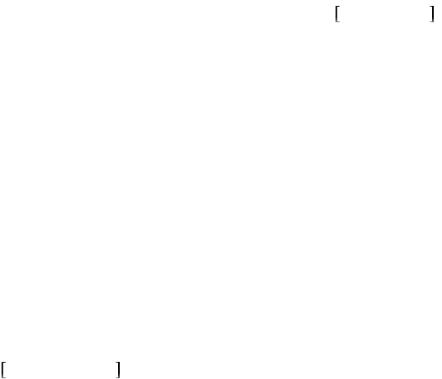
26
для блаженных богов – не только экстатический порыв, но и радостное озарение познающего, доступное именно теоретику – «эврика!».
Думается, что Ф. Ницше, как апологет Диониса, мог полемически заострять свои высказывания против сократического начала (так, в частности думает современный западногерманский философ П. Слотердайк см.: 114, с. 297 ), но как мыслитель Ф. Ницше не мог не видеть, что рядом с художником, как правило,
находится теоретик, который, зачастую самому творцу объясняет – в чем сущность обаяния его произведений. Так, «Поэтика» Аристотеля, где философ анализирует современное ему искусство трагедии – стала настольной книгой театральных деятелей всех времен, а воззрения Д. Дидро (как будет показано ниже) – до сих пор будоражат умы великих режиссеров современности.
Остановимся на понимании катарсиса Ф. Ницше. По мнению мыслителя,
данный феномен – плод совместного воздействия дионисийского и аполлонического начал в психике человека. «Трагический миф может быть понят лишь как воплощение в образах дионисической мудрости аполлоническими средствами искусства» там же, с. 145 .
Вокруг концепции Ф. Ницше по сей день ведутся споры. Подчеркнем распространенную тенденцию: теоретики вольно интерпретируют мифологемы мыслителя, зачастую выпускают из поля зрения сократическое начало и рассматривают только взаимоотношения дионисийского и аполлонического.
Например, русский религиозный философ Б. Вышеславцев при описании дионисийских творческих состояний использует аполлоническое «как во сне». В
то же время аполлоническое у него – скорее сократическое, потому что близко к теоретизированию. В частности «умная красота» – как выражение союза аполлонического и дионисийского начал по Б. Вышеславцеву – не содержит, как нам кажется, дионисийского начала, потому что «красота» – это воплощение аполлонического, дионисийское же не стремится к прекрасному. Экстаз может быть неприглядным для эстета. «Умная» – это, скорее, сократическое начало.
Думается, что причиной такого смешения является то, что на практике действительно сложно разделить «сферы влияния» мифологем (напомним, что
26
27
для нас они являются персонификацией личностных качества творца). Например,
в аполлоническом начале можно усмотреть большую долю сократического.
Кстати, если говорить о Сократе как исторической личности, то укажем на то, что целый ряд исследователей отмечают глубокое воздействие, которое оказывал на него Аполлон. Известно, что греческий мыслитель получил от Дельфийского храма Аполлона хвалебное свидетельство: пифия, спрошенная о том, как думает Аполлон относительно Сократа, отвечала: «нет человека более свободного, более справедливого и более разумного» [117]. Принцип аполлоновского очищения для Сократа есть сознание бессмертия, оттого он и не боится смерти – как и подобает философу – говорит он в диалоге Платона «Федон» [55, с. 83]. Сократ, готовясь к смерти, называет себя вместе с лебедями рабом Аполлона, соневольником лебедей [там же, с. 85] (лебедь – птица, символизирующая в греческой мифологии Аполлона [141]). Сократ верит, что Аполлон наделил его пророческим даром [55,
с. 85]. От сюда его предсмертная «лебединая песня» – пророчество гражданам Афин (Платон, «Апология Сократа» [55]). Перед смертью мудрец сочиняет гимн в честь Аполлона. Эти параллели могут свидетельствовать в пользу неразрывной связи между гармонией (аполлоническое) и теорией (сократическое) или качествами личности, «отвечающими» за работу с этими категориями.
Аполлоническое как рассудочное (но не как «дивная иллюзия», «гармония», «сон» – по Ф. Ницше) трактует Вяч. Иванов. Говоря об интересе режиссера Эйзенштейна к образам Аполлона и Диониса, Вяч. Иванов определяет их двуединство следующим образом: «Дионис пралогика, Аполлон логика.
Диффузное и отчетливое. Сумеречное и ясное. Животно-стихийное и солнечно-
мудрое etc.» [64]. Но ведь Аполлон – владыка майи, обмана, прекрасной иллюзии,
скрывающей правду реальности – с точки зрения Ф. Ницше! Аполлонический
«сон» не обязательно отчетлив, а прорицания Пифии не должны быть логичными.
Эти спорные, с нашей точки зрения, рассуждения Вяч. Иванова, тем ни менее,
тоже подчеркивают близость «алгебры» и «гармонии».
В контексте нашего исследования заслуживает особое внимание идея Вяч.
Иванова о синтезе дионисийского и аполлонического в Орфее, – артисте, певце и
27
28
отце искусств. Об этом же говорит А. Лосев в [91]: «С именем Орфея связана система религиозно-философских взглядов (орфизм), возникшая на основе аполлоно-дионисовского синтеза в VI в. до н.э. в Аттике». Это еще одна параллель, выявляющая нерасторжимость ницшеанских мифологем. Ведь первый музыкант, по мнению А. Малера – есть и первый философ, поскольку Пифагор,
первый назвавший себя «философом», т.е. «любящим мудрость» — опирался в своем учении именно на орфическую традицию [94].
В то же время, по мнению интерпретаторов теории Ф. Ницше, бесспорно и размежевание между «началами» философа. Так, для Ф. Юнгера [188] творчество Ф. Ницше в целом представляется таким, как назвал свою первую книгу сам Ф.
Ницше, а именно «кентаврическим» – соединением несоединимого. Связь между философией и поэзией, анализом и прозрением напряжена в ней до предела, –
полагает Ф. Юнгер. Исходя из такой внутренней раздвоенности, исследователь стремится понять и проблематичное, неудавшееся в творчестве Ф. Ницше. Он усматривает их главным образом в том, «что мыслитель и художник не могут объединиться в одном лице и, тем не менее, как свидетельствует, прежде всего
«Заратустра», вынуждены объединиться». Ф. Юнгер полагает, что Ф. Ницше,
желая быть сразу и «женихом истины» и, одновременно, «только шутом, только поэтом», делает неизбежный шаг от философии к поэзии, однако, выполняя задачу поэта, терпит неудачу, поскольку наука выражает «отвращение интеллекта к хаосу». Тем ни менее, в работах автора «Рождения трагедии» становится ощутимым влечение противоположных, противоречащих друг другу склонностей.
И такой, «ненаучный энтузиазм» – весьма полезен для самой науки – по мнению Ф. Юнгера.
Этому же автору принадлежит идея, которая поможет нам интерпретировать истоки соревновательного духа, царящего в детском театральном сообществе и проявляющегося, порой, в нежелательных формах
(подробнее об этом см. параграф 3.1.2). Ф. Юнгер полагает, что одним из проявлений аполлонического начала есть учение об иерархии ценностей, рангах.
Ибо порядком, «выступающим в мерах и границах», правит Аполлон. Это
28
29
суждение может устанавливать взаимосвязь между ницшеанскими мифологемами и идеями Й. Хейзинга [171], который находил игровые – в данном случае,
соревновательные (то есть, устанавливающие иерархию) истоки театрального искусства: «и трагедия и комедия зачинаются в сфере состязания… Поэты в соперничестве создают свои произведения для дионисийских состязаний» [там же, с. 236]. Продолжая мысль ученого, можно предположить, что культура, если на нее посмотреть как бы «с точки зрения» мифологического Аполлона,
предстала бы игрой-иллюзией, игрой-майей (ср. игровая «мнимая ситуация» Л.
Выготского); но такой взгляд эстета сразу бы обнаружил присутствие двух других начал, дионисийского и сократического, которые, тем ни менее, были бы интерпретированы в терминологии эллинской, игровой культуры. Ведь, по мнению Й. Хейзинга, «если проанализировать любую человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она покажется не более чем игрой» [там же,
с. 5].
Раскрывая идеи Ф. Ницше о том, каким должен быть философ, Ж. Делез пишет о нынешней утрате «единства мысли и жизни», которое существовало, по мнению исследователя, в досократический период [50]. Истинный мудрец, по мнению Ж. Делеза – это законодатель жизни, или Заратустра-танцор, мыслитель и художник в одном лице. Другими словами, личностные качества, которые стоят за мифологемами, действительно не просто совместить в одном человеке, но также непреодолимо тяготение друг к другу артиста и философа.
Для нашей работы особое значение имеют параллели, которые обнаруживают некоторые ученые между идеями Ф. Ницше и М. Бахтиным. Так,
противопоставление официальной культуры, где «побеждают тенденции к постоянству и завершенности» – народной, карнавальной, сущность которого ученый определяет как отражение явления «в состоянии его изменения,
незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления» [14, с. 213], исследователь Махлин В. [101, с. 208] уподобляет противоставлению аполлонического постоянства и дионисийской текучести.
Б. Гройс в работе [43] утверждает, что «карнавал у Бахтина соответствует
29
30
ницшеанской дионисийской мистерии, преодолевающей все индивидуальное». Б.
Гройс полагает, что, в отличие от интерпретации мистерии у Ф. Ницше, само это преодоление происходит в определенных культурно кодированных формах:
карнавал есть игра масок, в которой дионисийское опьянение не наступает фактически, а только инсценируется, симулируется в определенных рамках.
Поэтому, хотя тела участников улично-театрального действа и смешиваются,
единого сознания (или хора), на что указывал Ф. Ницше (см. параграф 1.1.2.1), в
результате не возникает. Такой карнавал, по мнению Б. Гройса, в качестве нового варианта ницшеанского дионисийского начала становится потом у М. Бахтина источником «карнавализованного», или «полифонического» романа, имеющего определенного автора, способного изнутри своего сознания инсценировать карнавал идеологий.
Развивая эти идеи, Б. Гройс утверждает, что карнавальное единство мира противостоит у М. Бахтина другому единству, которое он называет
«монологическим», то есть единству, возникающему благодаря установлению фактического господства одной идеологии и определяющему «серьезную» действительность. Эти два единства, по мнению Б. Гройса, образуют у М. Бахтина не оппозицию, а «дуализм, подобный ницшеанскому дуализму аполлоновского и дионисийского начал, обнаруживая внутреннюю зависимость друг от друга» [43].
Итак, «Вся эта концепция Ницше, несмотря на явный импрессионизм и шопенгауэрианство, является замечательным явлением человеческой мысли, с
небывалой глубиной проникшей в затаенные истоки и корни античной души»
[91]. По мнению А. Лосева, учение Ф. Ницше перекликается со многими эстетическими теориями, в частности, концепциями Ф. Шиллера, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Предпосылки этого учения А. Лосев видит уже у неоплатоника Прокла.
Мифологемы Ф. Ницше мы встречаем в работах А. Маслоу, К. Хорни, к ним часто обращаются исследователи психологии художественного творчества (ниже, в
разделе «Психологические аспекты» мы коснемся психологического содержания ницшеанских мифологем).
Интерес к мифологемам Ф. Ницше, думается, подчеркивает следующее:
30
