
10027
.pdf
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
В конечном итоге это означает ориентацию на аристократическую модель всего общественного устройства. В данной связи представляет интерес вопрос, который поставил на конференции «Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия» (Москва. 2006) профессор Принстонского университета К. Л. Шеппели: «Возможно ли в принципе аристократическое устройство демократии, в рамках которого суд становится главным носителем власти?»1. Между тем очевидно, что «аристократическое устройство демократии» — это, как справедливо отмечает В. Д. Зорькин, явное противоречие в понятии2. Поэтому соответствующий вопрос должен был бы звучать так: возможно ли либе- рально-аристократическое устройство общества, в рамках которого свобода для всех могла бы быть гарантирована неким профессиональным сообществом «аристократов духа», выступающим в качестве главного носителя власти? На мой взгляд, аристократический либерализм — это такое же противоречие в понятии как аристократическая демократия. Ведь принцип «равной свободы», лежащий
воснове современного либерализма3, не может быть привнесен
вобщественную жизнь «сверху» в результате соизволения некоего (пусть даже высокопрофессионального и высоконравственно-
1 См.: Лапаева В. В. Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия: материалы девятой Международной конференции по конституционному правосудию // Росс. правосудие. 2007. № 1.
2 Зорькин В. Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации
и Европейского Суда по правам человека в контексте современного миропорядка: Доклад на XIII Международном Форуме по конституционному правосудию. СПб., 18–20 ноября 2010 г
3 Политическая философия современного либерализма, которая, как замечает в предисловии к русскому изданию своей монографии «Демократия в Европе» Л .Зидентроп, отнюдь не сводится к узкому экономическому либерализму, построена «на внутреннем нравственном убеждении, что в конечном счете самоконтроль, самоуважение и самоуправление должны идти рука об руку. В этом состоит величайшее значение приверженности принципу «равной свободы», лежащему в основе современного либерализма» (См.: Зидентроп Л. Демократия в Европе. М., 2001. Авторское предисловие к русскому изданию. Режим доступа: http://politstudies.ru›universum…12_07_2001.htm.
411
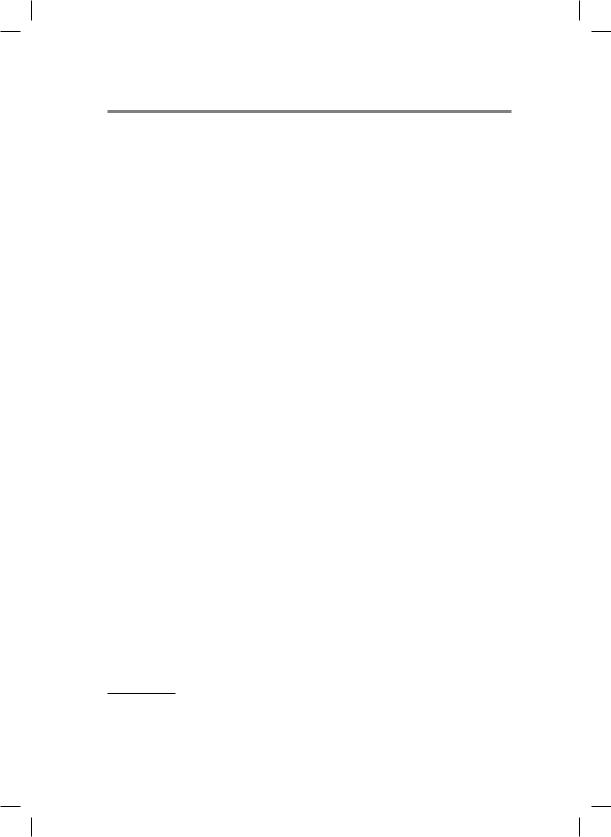
Глава 6. Правопонимание в России
го) синклита мудрецов в мантиях. Он может пробить себе дорогу только снизу, захватывая все, даже самые низшие, слои общества и пробиваясь на вершину государственной власти через систему представительства широкого спектра социальных интерсов и, в конечном итоге, — интересов каждого отдельного человека.
Представления о том, что суд является лучшим (по сравнению с парламентом) гарантом индивидуальной свободы — это иллюзия.
Встране, где нет хорошего (то есть способного адекватно выразить в законе общую волю) законодателя, нет и в принципе не может быть хорошего (то есть независимого, некоррумпированного, профессионального и т.д.) судейского корпуса. Такой судейский корпус формируется веками, а важнейшим условием его формирования является наличие парламента, способного, как это сделал английский парламент еще в 1604 г. сказать носителю верховной власти: «Его Величество было бы введено в заблуждение, если бы кто-ли- бо убедил его, что король Англии имеет какую-либо абсолютную власть сам по себе, либо — что король может единолично изменить существующие законы страны»1. Именно независимость парламента от других структур власти служит основой независимости суда.
Вэтом плане представляют интерес следующий фрагмент одной из парламентских петиций рассматриваемого периода, характеризующий борьбу английского парламента против клерикального давления на судебную систему. «Власть духовенства, — говорится в петиции, — является главной причиной многих бедствий, притеснений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу подданных… Судьи страны запуганы властью и могуществом прелатов, и людям негде искать от них защиты…(курсив мой. — В. Л.)»2. Исторический опыт показывает, что в стране, где судьи «запуганы властью и могуществом» со стороны кого бы то ни было (духовенства, политической группировки, структур исполнительной власти,
1 Цит. по: Павлова Т. Кромвель. М., 1980. С. 31. 2 Там же. С. 67.
412
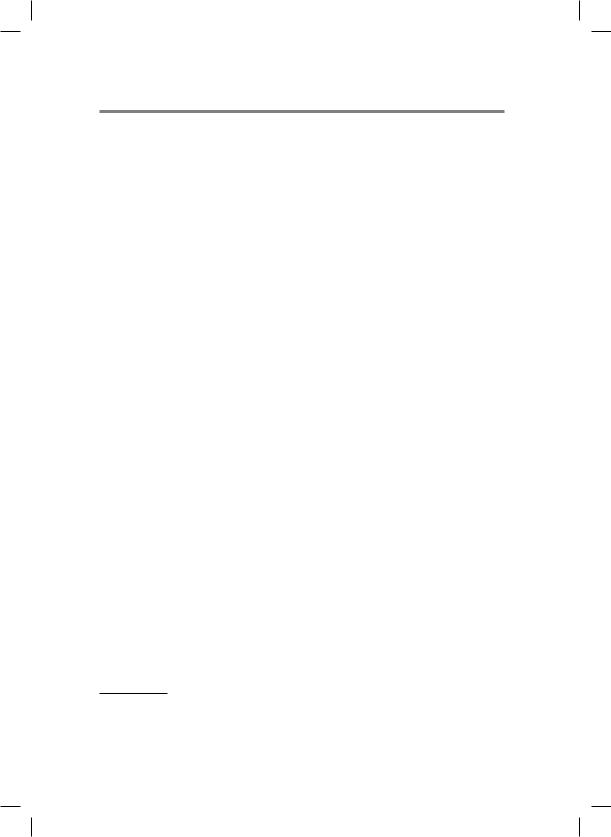
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
криминалитета и т.д.), только представительный орган, опирающийся на социальную поддержку, может ввести ситуацию в правовое русло, обеспечив нормальные условия для правосудия.
Аналогичной иллюзией являются и представления о том, что состязательность сторон в рамках судебной процедуры способна обеспечить правовой характер принимаемого решения лучше, чем политическая конкуренция в парламенте. В этой связи представляет интерес дискуссия по проблеме состязательности сторон в судебном процессе между участниками Круглого стола, проведенного в рамках международного исследовательского проекта «Верховенство права
ипроблемы его обеспечения в правоприменительной практике»1. Разговор на эту тему начал В. И. Лафитский, обративший внима-
ние на существенный внутренний дефект состязательности сторон
всудебном процессе, связанный с тем обстоятельством, что «суд, поскольку процесс состязательный, всегда будет выносить решение
впользу того, кто лучше смог защитить свое собственное право. А лучшая защита не всегда на стороне справедливости и правды». Ссылаясь на свой опыт изучения северо-американской и английской правовых систем и участия в судебных процессах в России, он сказал, что не стоит абсолютизировать принцип состязательности сторон. Необходимо, чтобы судьи, руководствуясь высшими ценностями права, «все-таки помогали в процессе тем, кто не может защитить свои права и законные интересы». Л. В. Головко увидел
втаком подходе смешение правоприменительной деятельности и деятельности социальной. Здесь надо отдавать себе отчет в том, сказал он, что «право не может решить все социальные проблемы. Более того, оно и не должно их решать (если не иметь, конечно,
ввиду право социального обеспечения как специальную отрасль права). ... Социальная функция должна быть функцией не дополнительной для правоприменителя, а специальной — возложенной
1 См.: Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. М., 2010. С. 319–322.
413
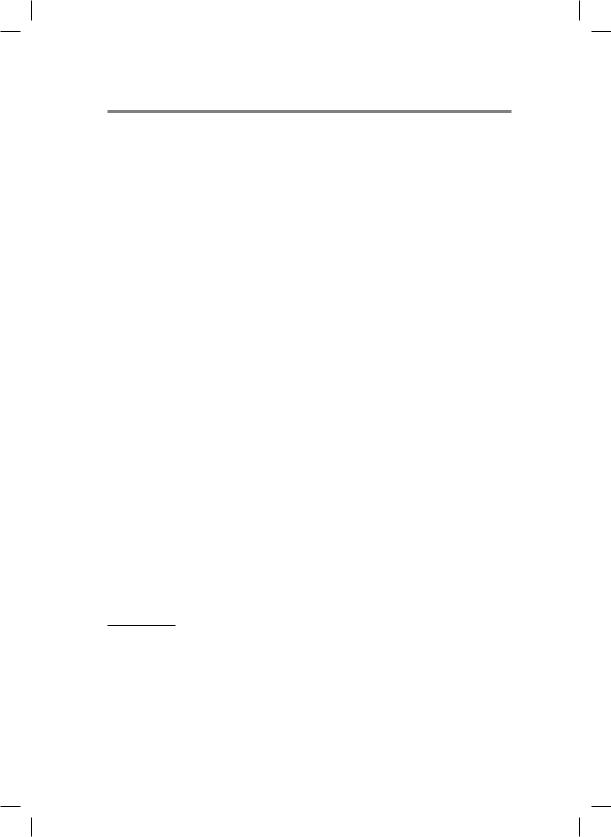
Глава 6. Правопонимание в России
на иные органы и службы… В этом смысле государство обязано создавать социальные службы, финансировать доступ к правосудию, финансировать юридическую помощь, причем финансировать опять-таки из бюджета, а не за счет адвокатов». Подчеркнув то обстоятельство, что «состязательность и защита слабой стороны совершенно непротиворечивые вещи», он резюмировал так: «Состязательность должна быть обеспечена, однако если одна из сторон «слаба», то ей надо оказывать социальную поддержку «извне», то есть с помощью социальных служб, а не «изнутри» процесса (с помощью суда)». В контесте дискуссии А. В. Рахмилович вспомнил рассказ одного известного дореволюционного адвоката, чьей блестящей речи в Кассационном департаменте Правительствующего сената оппонент (провинциальный частный поверенный) противопоставил лишь несколько слов — и выиграл процесс. Он сказал: «Господа сенаторы, я не могу тягаться с господином адвокатом. Я только хочу сказать: по-моему, так: ежели что чужое взял, так отдай». А выиграл он не только потому, что судьи были хорошие, но и потому, законодательство было на его стороне. «Если законодательство достаточно развито, — подчеркнул автор, — никаким красноречием, никаким профессиональным умением вы не сможете подвигнуть судей на ущемление прав вашего процессуального противника».
В контексте этой дискуссии обращает на себя внимание уязвимость позиции авторов, которые (как Н. В. Варламова), с одной стороны, уповают на правотворческие возможности суда, видя в состязательности сторон надежную гарантию реализации принципа формального равенства1, а с другой — отрицают правовую
1 Ведь, как верно замечает сама же Н. В. Варламова, «принцип формального равенства универсален в том, что определяет и требования к содержанию правовой нормы, и требования к позитивации, то есть к установлению правовой нормы». (Обсуждение доклада Н. А. Верещагина // Ежегодник либертар- но-юридической теории. М., 2009. Вып. 2. С. 28). Причем, именно соотвествие принципу равенства самой процедуры позитивации нормы как раз и предопределяет возможность достижения того равносправедливого баланса интересов,
414
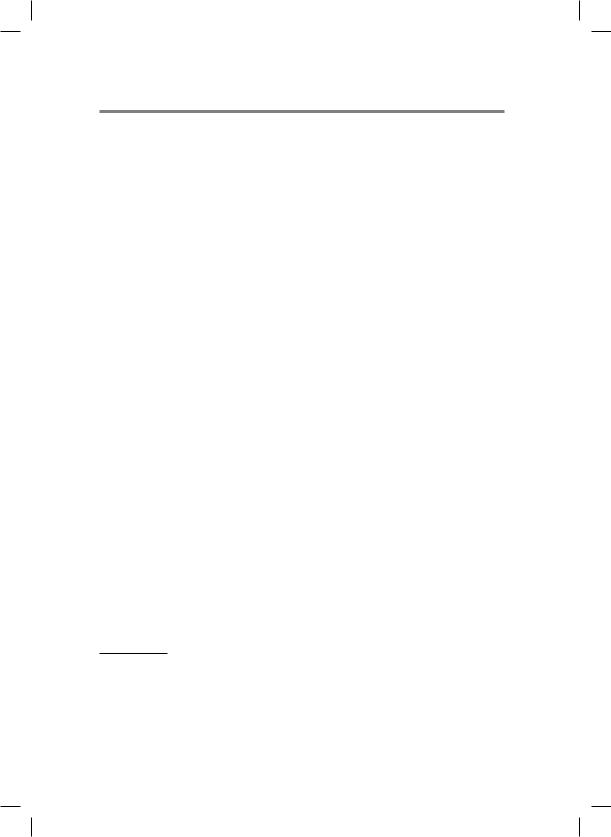
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
природу социальной функции государства. Как показывает судебная практика (а именно она в данном случае — критерий истины), без социальной поддержки «слабой» стороны состязательность сторон — это в значительной мере фикция. В данном случае подобная поддержка никак не может считаться государственной благотворительностью, не имеющей отношения к праву, поскольку она является необходимым условием обеспечения формального равенства сторон в судебном процессе. Очевидно, что создание условий для того, чтобы каждая сторона спора о праве имела бы равные со своим оппонентом шансы донести до судьи свою точку зрения (а именно в этом, а вовсе не в самой по себе возможности прийти
всуд и что-то сказать состоит формальное равенство сторон в судебном процессе), — это дело будущего. А поскольку пока такие условия не созданы, причем, не только в так называемых «молодых демократиях», но и в странах с развитой правовой системой, то мысль, высказанная В. И. Лафитским, остается актуальной. Дело
втом, что судья — это не спортивный арбитр, бесстрастно присуждающий победу сильнейшему. Поэтому задача судьи — суметь найти те правовые аргументы в пользу «слабой» стороны, которые она сама в силу своей слабости не способна сформулировать. Действуя таким образом, судья, по сути дела, компенсирует эту слабость, усиливая позицию «слабой» стороны своей профессиональной правовой поддержкой. Без этого судебный процесс превратится в спортивный поединок, в котором побеждает не правый, а сильный.
Применительно к современной России сказанное означает следующее. Даже если не брать в расчет вызывающую большую обеспокоенность в обществе проблему судебной коррупции, а также не
который составляет социальное содержание правовой нормы. В этом согласовании социальных интересов и воль, положенном в основу содержания правового решения, и состоит сущность права как формального равенства, а вовсе не в «чистом» равенстве перед законом, правовая природа которого социально не обусловлена.
415
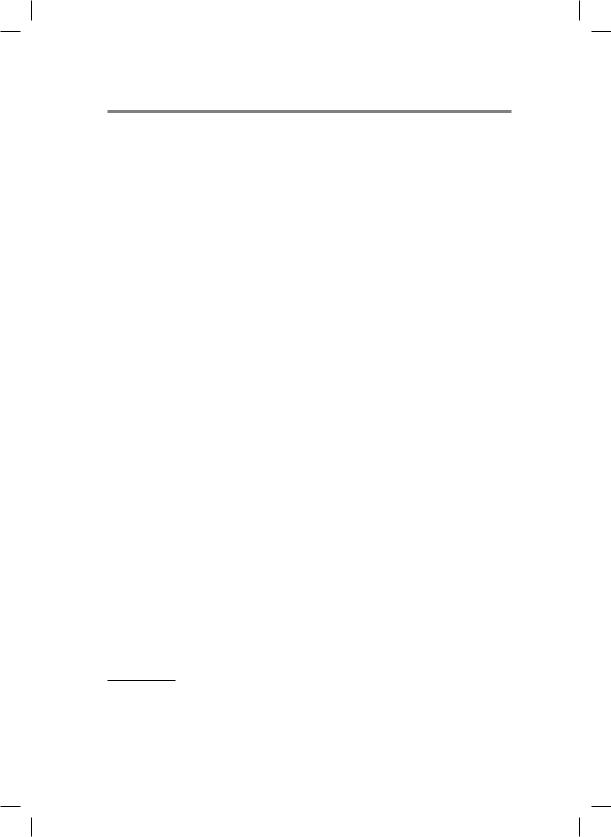
Глава 6. Правопонимание в России
столь шумно обсуждаемую, но (как заметил другой, весьма компетентный, участник дискуссии — В. М. Жуйков) более актуальную для нас проблему зависимости суда от иных ветвей власти1, даже если не учитывать здесь такие проблемы, как низкий профессиональный уровень судей, укоренившуюся в отечественной судебной практике тенденцию к обвинительному уклону и т.п., а принять во внимание лишь чрезмерно высокую степень загруженности российских судов, можем ли мы всерьез рассчитывать на то участливое (я бы даже сказала — трепетное) отношение судей к «слабой» стороне процесса, которое в современных условиях является необходимой предпосылкой принятия правового решения по делу?
В этой ситуации, несмотря на все хорошо известные дефекты нашего законодателя и принимаемых им законов, в деле правотворчества уповать приходится прежде всего на него. Хотя бы потому, что российский законодательный корпус, худо ли бедно, но открыт для взаимодействия с обществом, а законодательный процесс, так или иначе, но включает в себя научную и общественную экспертизу, ориентирующую законодателя на учет и согласование социальных интересов. Пока у нас не будет ответственного перед обществом парламента, способного расчистить правовое поле для правосудия, и пока не будет общества, осуществляющего постоянный социальный контроль за правосудием2, никакие реформы судебной системы (а уж тем более, наделение судей правотворческими полномочиями) не дадут позитивного результата. Рассчитывать на то, что закрытая от общественного воздействия судейская корпорация возьмет на себя нагрузку по выправлению накопленных веками правовых деформаций, по меньшей мере наивно.
Думаю, что аргументы, приведенные участниками рассмотренной выше дискуссии, позволяют сделать общий вывод о том, что в современном демократическом правовом государстве согласование
1 Там же. С. 332.
2См.: Лапаева В. В. Социология права: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008.
С.333.
416
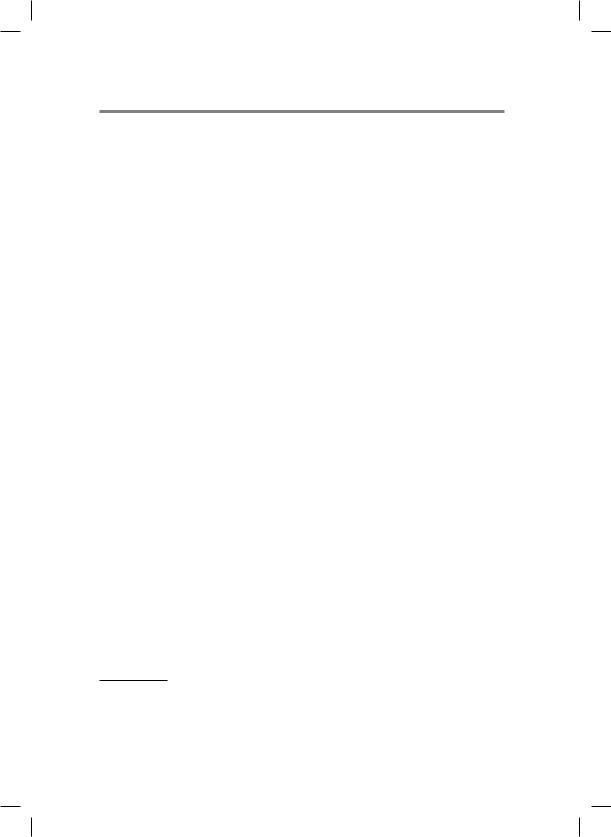
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
свободы сильных и слабых акторов социально-политического взаимодействия на началах формального равенства должно осуществляться прежде всего путем поиска баланса воль субъектов правового общения в рамках демократической политико-правовой системы с присущими ей политической конкуренцией, представительным характером законодательной власти, взаимодействием законодательной и судебной ветвей власти в системе разделения властей
ит.д. При этом каждая страна с учетом своей истории и своей правовой культуры по-разному выстраивает баланс законодательной
исудебной властей в рамках демократического механизма правотворчества, но в любом случае, как все-таки признает Н. В. Варламова, «профессиональное знание должно дополняться взвешиванием
исогласованием социальных интересов, которые дает парламент»1. Резюмируя, можно сказать, что с позиций либертарно-юриди-
ческого правопонимания В. С. Нерсесянца, основанного на концептуальном единстве права и государства, право — это норма свободы в правовом государстве, где есть соответствующий природе этого государства механизм выработки, легитимации и реализации правового закона и где «действительная и полная правосубъектность индивидов предполагает и их законотворческую правосубъектность, их соучастие (в той или иной форме) в законотворчестве, их право на участие в установлении правового закона»2. В современном правовом государстве решение о том, что есть мера свободы, принимает прежде всего парламент как орган, выражающий общую волю и действующий в рамках очерченных общей волей конституционных основ государственной и общественной жизни. А если он ошибается, то его решение может откорректировать суд либо сам народ как суверен на референдуме или в рамках избирательных процедур. Очевидно, что такое решение государства как надлежа-
1 Обсуждение доклада А. Н. Верещагина // Ежегодник либертарно-юриди- ческой теории. Вып. 2. 2009. С. 32.
2 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
417
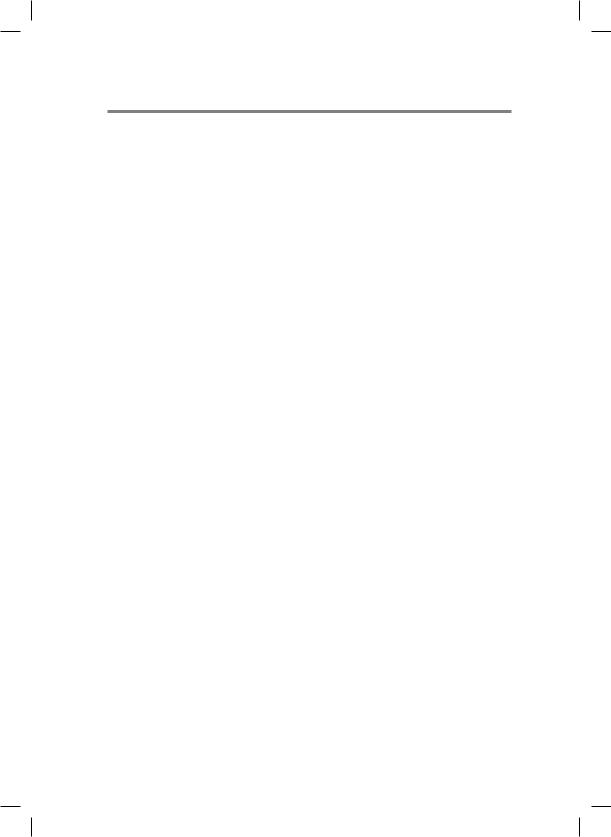
Глава 6. Правопонимание в России
щей институциональной формы свободы, в конечном итоге, не будет произвольным.
Конечно, аристократическая модель правотворчества (как, впрочем, и общественного устройства в целом) не может не импонировать многим либералам, в глубине души уважающим индивидуальную свободу сильной личности. Однако современный либерализм признает право на свободу любого( то есть каждого) разумного человека, причем именно на равную с другими свободу (в противном случае это будет уже не совсем свобода или совсем не свобода). Поэтому современные либералы — это те, кто смог поставить принцип равной свободы выше своих симпатий к сильной личности. Проблема отечественных либертарианцев, объединившихся вокруг В. А. Четвернина, заключается как раз в том, что они не сумели или не захотели этого сделать, оставшить сторонниками внутренне противоречивой парадигмы «аристократического либерализма». В основе их подхода лежит недоверие к демократии и демократическим институтам, которые, по их мнению, всегда чреваты подавлением личной свободы и подчинения ее интересам большинства. Однако без демократии не может быть личной свободы.
Вот что пишет по этому поводу такой авторитеный специалист, как З. Бауман: «Как ценность, демократия может порождать многие способы управления и организации совместных дел — многие и различные, иногда радикально отличающиеся друг от друга. … Что же их объединяет? По мнению Корнелиуса Касториадиса, это одна из характерных особенностей «автономного общества» (в отличие от «гетерономных обществ», институты которых базируются на идее о том, что они созданы, по крайней мере, не теми, кто живет в данный момент, и поэтому их нельзя ни разрушить, ни даже реформировать). «Альтернатив не существует» — любимая отговорка действующих, но, к счастью, не всесильных политиков. Суть автономного общества состоит в убеждении, что все его цели и средства подчинены воле составляющих его людей. Эта суть нашла воплощение в преамбуле, которой древние афиняне предваряли все законы,
418
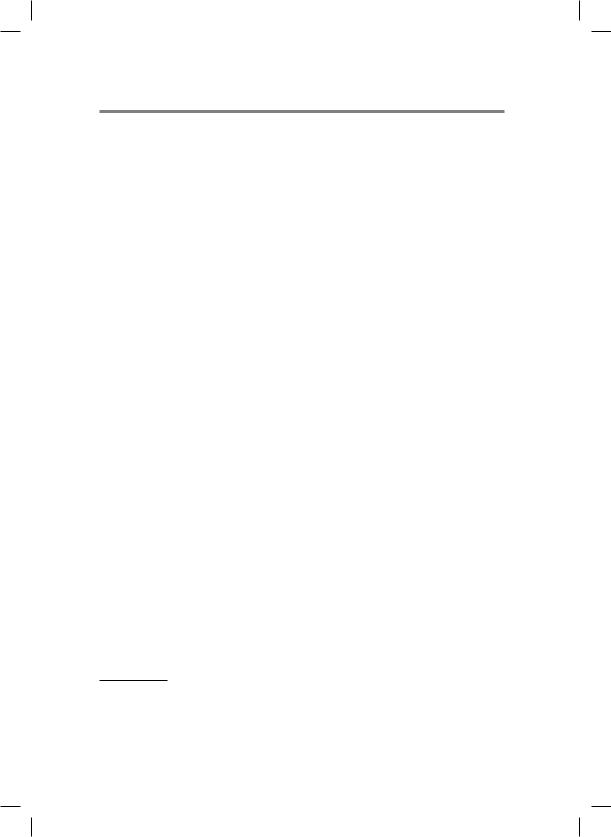
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
голосовавшиеся в агоре: «Еdoxe te boule kai to demo» («Собрание
инарод считают это благом»). В этой краткой, но не нуждающейся в дополнениях формуле заключены несколько важнейших положений: есть нечто, именуемое благом и признаваемое таковым; выбор этого блага, а не его альтернатив — меньшего блага или не блага вовсе — является целью общественного обсуждения, предшествующего принятию решения; дискуссии и споры, ведущие к принятию решения, — это верный путь к правильному выбору; когда выбор в конце концов сделан, все, кого он касается, должны помнить, что он был сделан только лишь потому, что его сочли благом собрание
инарод. «Сочли» — это значит, что даже если собрание и народ усердно искали общее решение, руководствуясь своими знаниями о том, что есть благо, эти знания могли быть неполными или совершенно ошибочными. Спорам нет и не может быть конца, если только демократия не перестанет быть таковой, а общество не лишится своей автономности. Демократия означает, что перед гражданами всегда стоит задача. Демократия существует благодаря упорному
инастойчивому участию граждан. Как только это участие замирает, демократия исчезает. Таким образом, не существует и не может существовать демократии, автономного общества без автономных граждан — граждан, наделенных личной свободой и индивидуальной ответственностью за то, что они делают. Эта свобода представляет собой еще одну ценность — хотя и невообразимую без демократии»1.
4.Концептуальное единство права и государства — эта теоретическая основа понимания права как правового закона. В советское время концепция права В. С. Нерсесянца, в основе которой лежит давняя философско-правовая традиция различения права
изакона, подвергалась жесткой и массированной критике прежде всего из-за того, что она, якобы, отрывает право от государства
1 Бауман З. Европейский путь к мировому порядку // Свободная Мысль — ХХI. Теоретический и политический журнал. 2004. № 9 (1547). Режим доступа: http://www.gumer.info.
419
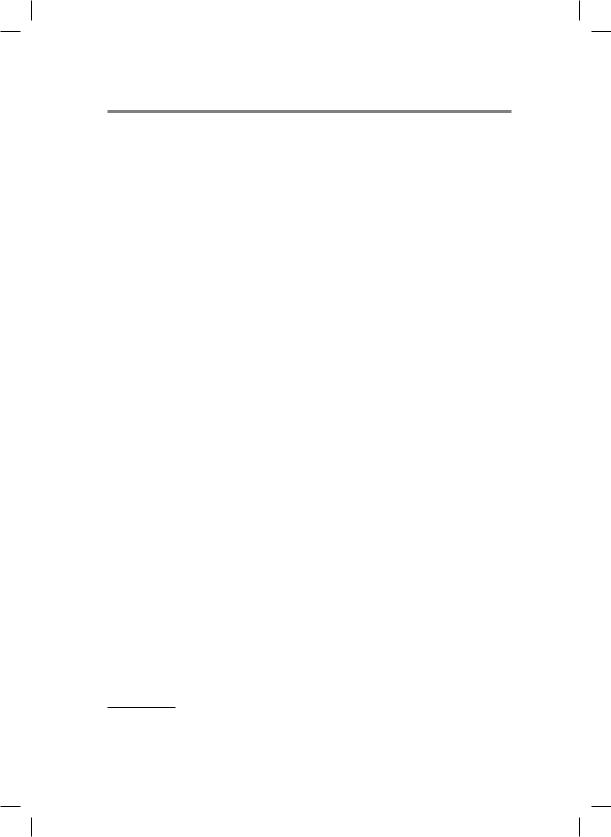
Глава 6. Правопонимание в России
иведет к подрыву законности, провоцируя граждан на игнорирование неправовых законов. Между тем для этой концепции как раз характерно концептуальное единство права и государства, что отличает ее не только от естественно-правовой доктрины, но и от иных версий отечественного либертаризма. Никакого права «до»
и«вне» государства данная концепция не предполагает. При этом государством В. С. Нерсесянц называет не любую организацию публичной власти, а только ту, которая является институциональной формой свободы людей в их общественных отношениях, а термином «закон» у него обозначается закон в собирательном смысле, то есть все то, что обладает законной силой, является официальнообязательным.
Понятийное единство права и государства — это принципиальный момент данной концепции, который лежит в основе всех ее ключевых положений и прежде всего — понимания права как правового закона, представляющего собой единство правовой сущности (формального равенства) и правового явления (правового закона). Эта необходимая взаимосвязь сущности и явления в праве, подчеркивает В. С. Нерсесянц, «демонстрирует понятийно-правовое единство права и государства, выявляет правовую природу и выражает правовую необходимость государства как всеобщей формы власти для установления и действия права в качестве общеобязательного закона»1. Такой подход к соотношению права и закона (права и государства) вытекает из трактовки В. С. Нерсесянцем предмета философии права как различения и соотношения сущности и явления в сфере права. «Научно постигаемая сущность права (право как сущность), — пишет он, — носит объективный характер, а право как явление носит официально-властный (и в этом смысле субъективный) характер, зависит от воли, усмотрения и возможного произвола субъектов официальной правоустнавливающей власти. Поэтому закон (позитивное право), то есть то, что в официально-властном
1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 55.
420
