
10027
.pdf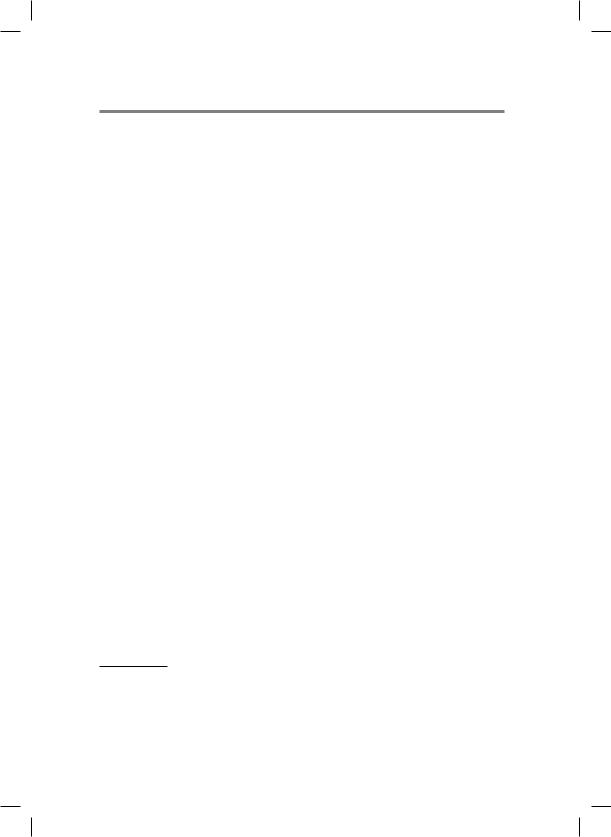
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
ет право жить так, как он считает нужным, если он не нарушает равные права других, таков: ни у кого нет права совершать агрессию в отношении человека или чьей-либо собственности»1. Этот, на первый взгляд, такой бесспорный тезис, звучит гораздо сомнительнее, если примерить его к нынешней политико-экономической ситуации в России, сложившейся по итогам присвоения большей части огромного социалистического наследства незначительной группой лиц, проявивших при этом не разумную волю, согласуемую с волей других, а качества совсем иного порядка. А если углубиться еще дальше в историю права, то уместно напомнить слова римского папы Григория VII, который в своей борьбе со светской властью обвинял ее представителей в том, что они «ведут свое происхождение от людей, не знавших Господа, которые возвысились над своими собратьями благодаря гордости, грабежу, предательству, убийству, короче, благодаря всевозможным преступлениям»2. И вряд ли можно считать эти упреки всего лишь полемическими преувеличениями.
Под этим углом зрения становится понятнее трактовка В. С. Нерсесянцем принципа формального равенства как триединства свободы, равной меры и справедливости, предполагающая, что в общественной жизни нет свободы без справедливости.
Однако, как показывает западный опыт, по мере правового развития человечества «право сильного» постепенно сдавало свои позиции под напором объективных процессов укрепления демократических (то есть правовых) начал государственности. По мере демократизации политической жизни право все в большей степени переставало быть только «правом сильного», поскольку в «договор о праве» включалось большее число социальных групп, бывших ранее аутсайдерами политического процесса. Это приводило
1Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004.
С.84.
2 Цит. по: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 115.
401
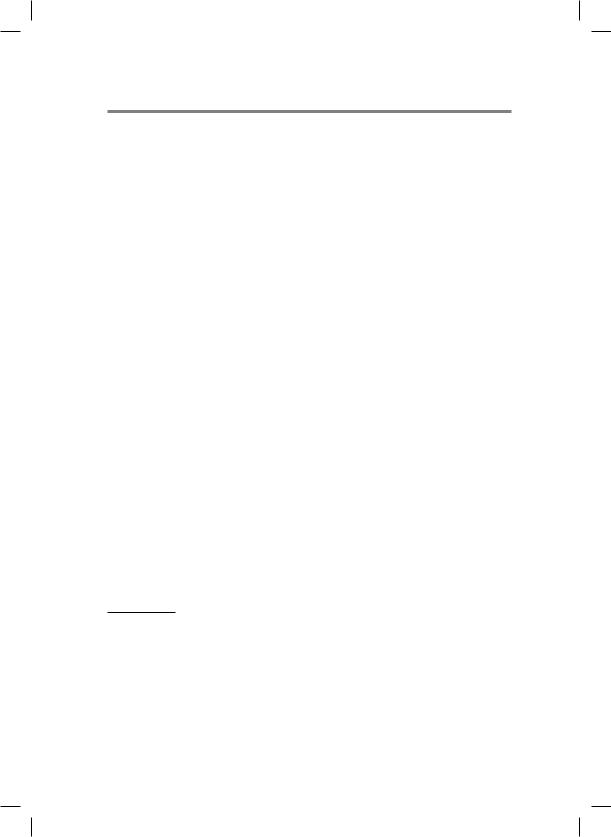
Глава 6. Правопонимание в России
к расширению пределов свободы по субъектному составу и увеличению объема свободы с точки зрения ее содержания, то есть возможности реализовать свободную волю человека без внешних (связанных с чужим произволом) и внутренних (обусловленных социобиологической слабостью самого индивида) ограничений. Современное правовое государство — это государство, в которое «включены все, кого это дело касается, а не только добродетельные или обладающие какими-то особыми признаками, делающими их пригодными для политического участия (как это было, например, у Аристотеля). Это и есть либеральный принцип равенства, который наполнялся содержанием в ходе истории либерализма, прогрессивно распространяясь на все новые группы людей, исключенные из политики на предыдущих этапах. Ясно, что такое распространение происходило посредством демократической борьбы против сложившихся ранее институциональных форм либерализма
сприсущими им механизмами дискриминации…»1. Отечественные сторонники либертарианства «застревают» на ис-
торически исчерпавшем себя гегелевско-чичеринском понимании свободы, характерном для эпохи раннего капитализма. Что же касается концепции В. С. Нерсесянца, то из его определения свободы человека как «возможности осознанного выбора и реализации того или иного варианта поведения»2, вовсе не следует та ограничительная трактовка, которую дает Н. А. Варламова, определяющая свободу (со ссылкой на В. С. Нерсесянца) как возможность совершать действия, обусловленные своей, а не чужой волей3. Показательно, что в другой работе она, процитировав определение свободы В. С. Нерсесянца,
1 Капустин Б. Г. Либерализм / Новая философская энциклопедия. С. 394. 2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 38.
3 См.: Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание диалектического снятия противоположности метафизических и позитивистских интерпретаций права. С. 39. Аналогичным образом трактует свободу В. А. Четвернин, который понимает под свободой человека лишь отсутствие агрессивного насилия по отношению к нему или его имуществу (См.: Проблемы общей теории права и государства. С. 526, 546 и др.).
402
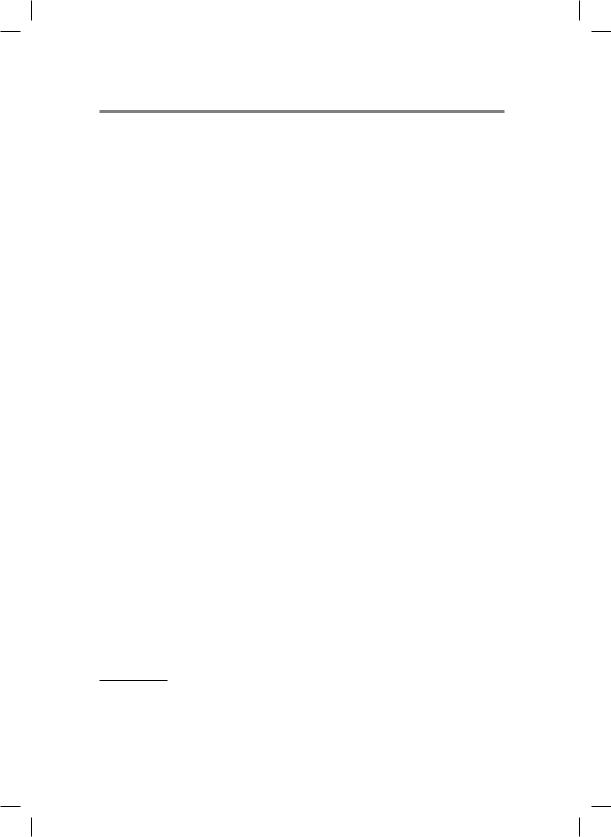
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
добавила к нему уже от себя слова «без внешнего принуждения»1, которые не только отсутствовуют в текстах самого В. С. Нерсесянца, но и не вписываются в логику его подхода. Общая логика построения либертарно-юридической концецпции В. С. Нерсесянца дает основания предположить, что, когда он говорит о возможности человека осуществить свою свободную волю без внешних ограничений, то имеет в виду ограничения, заданные не только чужой волей, но и теми качествами самого индивида (его физической или социальной слабостью), которые, будучи внешними по отношению к его разумной воле, выступают как барьеры на пути ее реализации.
С позиций такого подхода свобода воли предстает как возможность человека воспользоваться своими правами в меру личных волевых усилий, то есть в меру реализации человеком его сущности как разумного существа, обладающего свободной волей, когда эта воля не деформирована привнесенными обстоятельствами, связанными с давлением чужой воли или с социобиологической слабостью самого индивида. Такая трактовка свободы воли означает, что формальное равенство людей как разумных носителей свободной воли — это равенство тех возможностей индивидов в их разумном стремлении к благу, которые обусловлены их личными волевыми усилиями. Кстати, данный подход к пониманию свободы укладывается в ту специфически современную, по характеристике З.Баумана, коннотацию данного термина, которая означает «способность управлять собственной судьбой»2. Очевидно, что «способность управлять собственной судьбой» — это значительно более емкое понятие, нежели «возможность совершать действия, обусловленные своей, а не чужой волей».
Существует мнение, что спор между различными подходами к трактовке формального правового равенства является принципиально неразрешимым в силу «сущностной оспариваемости»
1 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знания / Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права. М., 2011. С. 61.
2 Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 20.
403
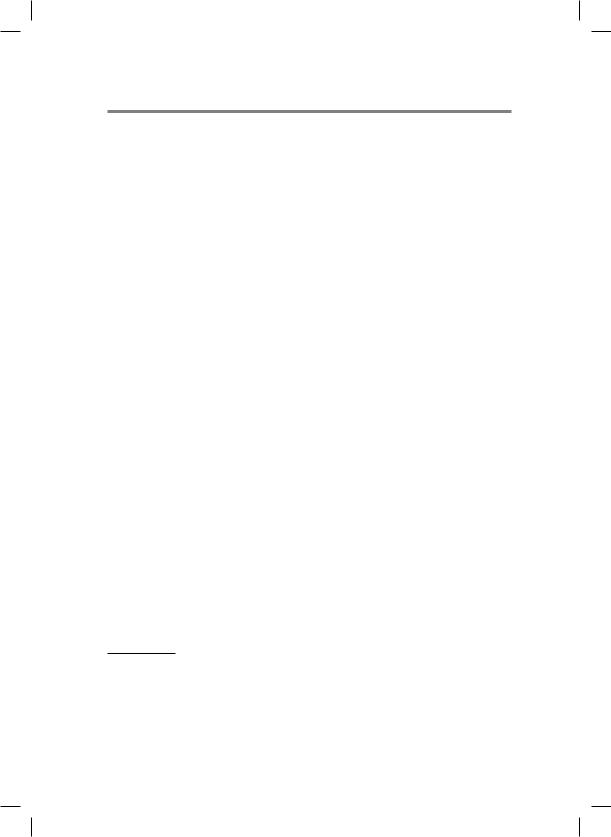
Глава 6. Правопонимание в России
категории «формальное равенство», которая не может быть рационально обоснована1. Однако полагаю, что можно с научной точки зрения (то есть на уровне научно-теоретической абстракции) доказать, что право как формальное равенство предполагает именно равенство возможностей, обусловленных личными усилиями и личной волей субъектов права.
В своих рассуждениях мы будем исходить из определения, согласно которому «право — это нормативная форма выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных отношениях»2. Отправной точкой для понимания права как формы свободы здесь является формальное равенство людей в их отношениях. То есть свобода — это то, что выражается посредством формального равенства ее носителей: никакой другой свободы в общественных отношениях нет. Отсюда следует, что право как выражение свободы — это правило взаимного поведения, о котором люди договариваются как равные. Разумный характер субъектов правового общения в силу известной регулятивности идеи разума, пишет В. С. Нерсесянц, предопределяет общую направленность действий людей, как если бы «они специально договорились о том же самом (в форме так называемого общественного договора)»3. Поэтому для моделирования процесса выработки права можно воспользоваться логической конструкцией договора. Подобная модель общественного договора о правилах взаимного поведения — это абстрактная квинтэссенция исторического процесса выработки оптимальных форм социального взаимодействия путем постепенного, осуществляемого на основе проб и ошибок, отбора приемлемых для всех и каждого (то есть всеобщих) принципов поведения людей по отношению друг к другу.
1 См.: Честнов И. Л. Перспективы либертарного правопонимания. Полемические размышления // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1. С. 51.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 33.
3 Там же. С. 624.
404
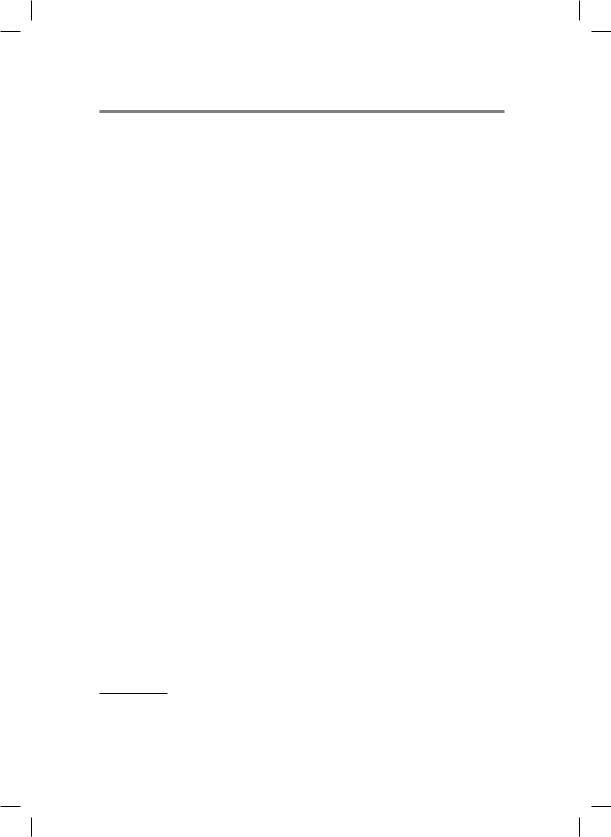
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
Именно такой гносеологический прием использует Д. Ролз для обоснования своей концепции «справедливости как честности». Чтобы понять, какие именно принципы справедливости соответствуют договорному характеру отношений между формально равными индивидами, он предлагает представить гипотетическую ситуацию, когда рационально мыслящие индивиды (то есть индивиды, имеющие рациональные и потому общие для всех представления о том, что является для него благом, преследующие свои интересы, вступают в договор по выработке принципов справедливости, полностью абстрагируясь от каких-либо своих индивидуальных качеств и характеристик. Это аналогично тому, как если бы каждый человек, вступающий в договор о правилах совместного поведения с другими людьми, не знал бы «своего места в обществе, своего классового положения или социального статуса, а также того, что предназначено ему при распределении природных дарований, умственных способностей силы и т. д.»1. Принципы, выработанные путем такой договоренности «за занавесом неведения» и будут, согласно Д. Ролзу, принципами справедливости. И хотя сам автор говорит о социальной справедливости, имея в виду не столько правовую, сколько морально-нравственную категорию, однако предлагаемые им условия выработки справедливого решения — это условия поиска именно правового решения как результата договора между абстрактными формально равными лицами. Ведь эта ситуация полностью соответствует сформулированному Гегелем велению праву: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц».
Д. Ролз полагает, что «социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно … ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших»2 и что люди в ситуации «занавеса неведения» договорятся о том, что все
1 Ролз Д. Теория справедливости. С. 26, 267.
2 Там же. С. 267.
405
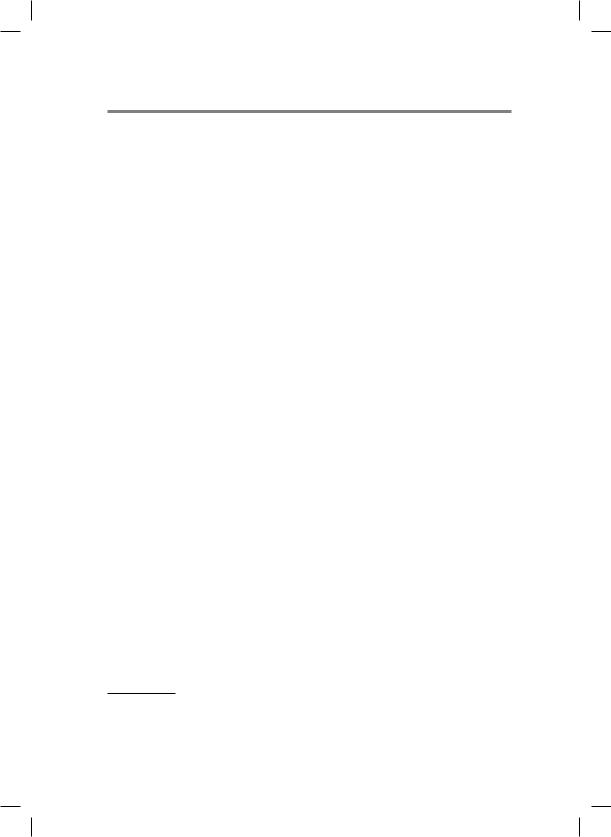
Глава 6. Правопонимание в России
социальные ценности «должны быть равно распределены, за исключением тех случаев, когда неравное распределение любой, или всех, из этих ценностей дает преимущество каждому»1. Интересно сравнить позицию Д. Ролза с принципиально иной версией такой «договоренности», которую предлагает Ф. Хайек, считающий, что люди согласны «принуждать к единообразному соблюдению тех правил, которые значительно увеличили шансы всех и каждого на удовлетворение своих нужд, но платить за это приходится риском незаслуженной неудачи для отдельных людей и групп»2.
Если перевести эти рассуждения на уровень здравого смысла, которым, по идее, и должен руководствоваться рядовой, обычный, среднестатистический человек в ситуации за «занавесом неведения», то речь пойдет о следующих альтернативах: страховка на случай своей слабости без шанса на успешную конкуренцию с более сильными индивидами (Д. Ролз) либо готовность действовать по принципу «все или ничего» (Ф. Хайек). Очевидно, что
впервом случае мы имеем дело с логикой человека, обладающего слабой волей, а во втором случае — с логикой сильного, но слишком рискового игрока, готового потерять все в погоне за крупным выигрышем. Что касается логики поведения, смоделированной Ф.Хайеком, то совершенно очевидно, что она не подходит для рядового обывателя, в меру разумного, а значит и в меру осторожного. С другой стороны, обычный человек с нормально развитой волей будет стремиться к равенству возможностей получения благ, которое дает ему максимальную возможность реализовать свою свободную волю.
Логичнее (и в этом смысле разумнее, т.е. ближе к природе человека как разумного существа) предположить, что каждый из тех, кто может оказаться в положении слабого и неуспешного
всилу обстоятельств, не зависящих от его волевых усилий, вряд
1 Там же. С. 61.
2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 239.
406
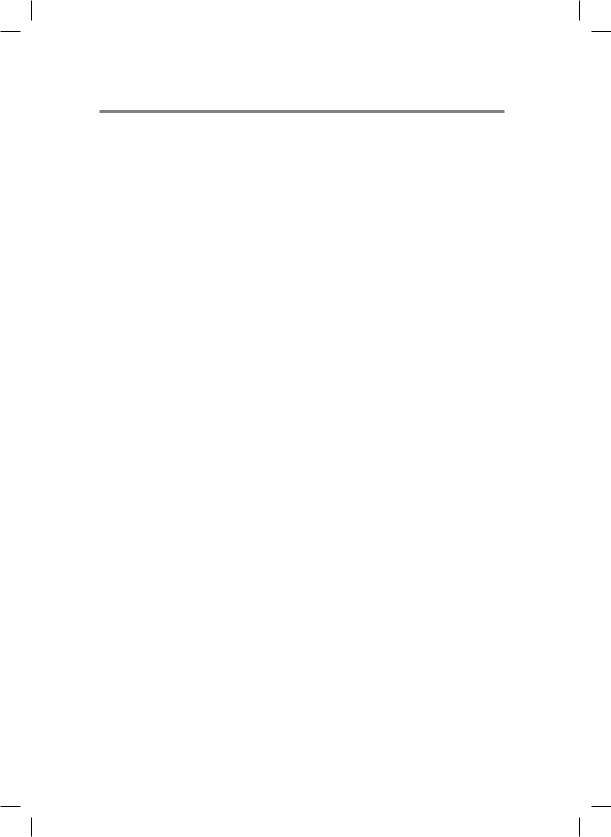
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
ли удовлетворится тем, что успехи более сильных позитивно отразятся и на его положении. Очевидно, что договаривающиеся «за занавесом неведения» разумные индивиды захотят иметь возможность компенсировать свою слабость, чтобы на равных вступить
всоциальную конкуренцию и добиться более высокого положения по сравнению с другими. Следовательно, они захотят подстраховаться, оговорив правила компенсации для себя на тот случай, если окажутся слабее других в своих социальных или физических характеристиках. Но это должна быть именно компенсация их слабости, которая позволила бы им конкурировать с другими на равных основаниях, а вовсе не гарантия того, что социальные и экономические успехи более удачливых членов общества приводут к некоторому улучшению их незавидного положения. Введение подобной компенсации переводит проблему справедливости из сферы морали, где действует принцип милосердия с присущей ему неопределенностью границ (безграничностью), в сферу права, где есть четко обозначенная мера справедливости в распределении социальных благ, опирающаяся на принцип равенства возможностей.
Таким образом, мы видим, что предельно абстрактный характер субъектов права как сторон договора порождает такую абстракцию самого предмета договора — правового правила поведения, — которая имеет определенное социальное содержание, связанное с тем или иным пониманием равенства возможностей людей в доступе к социальным благам.
То обстоятельство, что главным предметом «общественного договора» по поводу меры свободы и справедливости в общественной жизни до сих пор было распределение материальных и духовных благ, вовсе не означает, что так будет всегда. По мере того, как проблема выживания человечества как рода и сохранения человека как вида будет приобретать все более острый характер, акценты
вэтом «договоре» могут сместиться в иную сторону. Так, по мнению Ю.Хабермаса, расшифровка человеческого генома повлечет за собой целый ряд новых вызовов сформировавшемуся в эпоху
407

Глава 6. Правопонимание в России
модерна пониманию свободы1. В этой ситуации предметом условного «договора о праве» будет не только формальное равенства возможностей людей в доступе к получению социальных благ, но и формальное равенство в сохранении своего человеческого начала (человеческого достоинства в более широком — не только социальном, но и в антропологическом смысле этого понятия). Кроме того, современная цивилизация, как отмечает В. А. Лекторский, настолько сложна и становится все более сложной, что возникает необходимость такого контроля над тем, что делает человек, когда «сама граница между частной жизнью и жизнью не частной, публичной, постепенной размывается»2. Подобные вопросы тоже станут (и уже становятся) предметом таких договоренностей, которые могли бы обеспечить свободу человека в этих принципиально новых условиях.
3. Заключение «общественного договора» по поводу социального содержания свободы предполагает исходное имманентное единство права и правового государства. Далее встает вопрос:
окаком равенстве возможностей идет речь? Ведь такое равенство всегда будет неполным, ограниченным. Разумеется, концепция равенства возможностей (в отличие от идеологемы фактического равенства) и не обещает полного равенства в потреблении. Речь идет
омаксимально возможном равенстве возможностей (то есть о максимально возможной свободе каждого) на данный исторический момент времени в данных конкретно-исторических условиях. Противники такого подхода задают следующий (риторический, как они, по видимому, считают) вопрос: «А кто определяет, какое равенство возможно на данный момент времени?». На практике, считают они, решение этого вопроса «сводится к личному или институционально
1 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. Режим доступа: http:// www. antropolog.ru›doc.php?id=196. Р.Ш.
2 Лекторский В. А. Право не может противоречить идеалу справедливости /
Философия права в начале ХХI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики. М., 2010. С. 92.
408
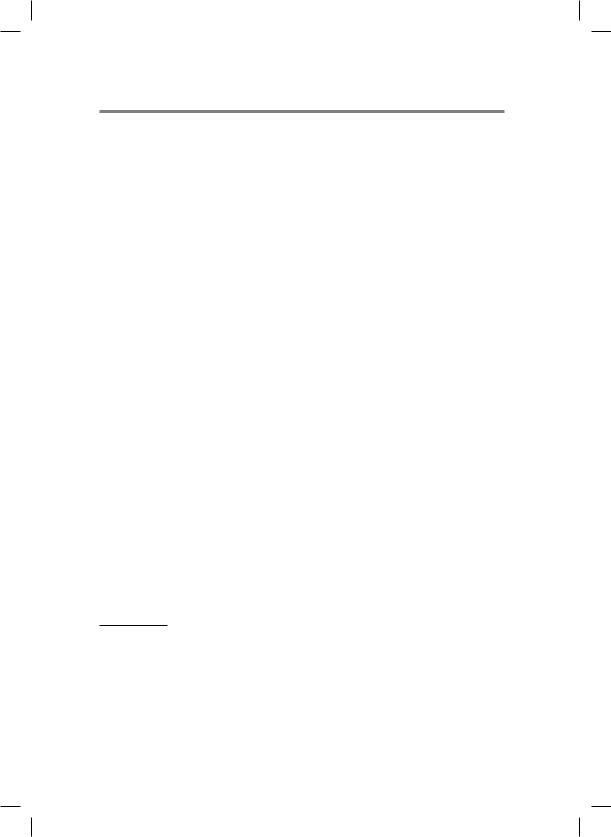
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
оформленному произволу, поскольку справедливым является то, что полагает таковым конкретное лицо или надлежащая властная инстанция»1. Приведу два характерных высказывания отечественных либертарианцев, в основе которых лежит отрицание (или непонимание) принципа концептуального единства права и государства
вконцепции В. С. Нерсесянца. Так, Н. В. Варламова обвиняет меня
втом, что моя трактовка социальной политики предполагает «постоянную (произвольно осуществляемую государством) корректировку имеющихся у человека возможностей пользования своей свободой»2. Другое высказывание принадлежит В. А. Четвернину, который пишет: «Перераспределение всегда произвольно — независимо от того, осуществляется ли оно авторитарно, вопреки воле большинства или же по решению некоего большинства, в целях ли еще большего обогащения или же в целях «компенсации» исходно ущербного фактического состояния неконкурентных»3.
Вприведенных выше высказываниях настойчиво звучит слово «произвольно», которое авторы применяют к характеристике деятельности правотворческого государственного органа. Определяя эту деятельность как произвольную, они, по сути дела, отказывают соответствующему государственному органу в правовом (то есть антипроизвольном) характере. Это означает, что их рассуждения относятся к ситуации неправового государства, которое по определению не может принимать правовые законы. Я же, вслед за В. С. Нерсесянцем, исхожу из того, что правовой закон — это результат деятельности правового государства. Такой закон не может быть принят «авторитарно, вопреки воле большинства или же по решению некоего большинства», а является результатом сложного
1 Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание диалектического снятия противоположности метафизических и политивистских интерпретаций права. С. 31.
2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. С. 76.
3Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.
С.593.
409
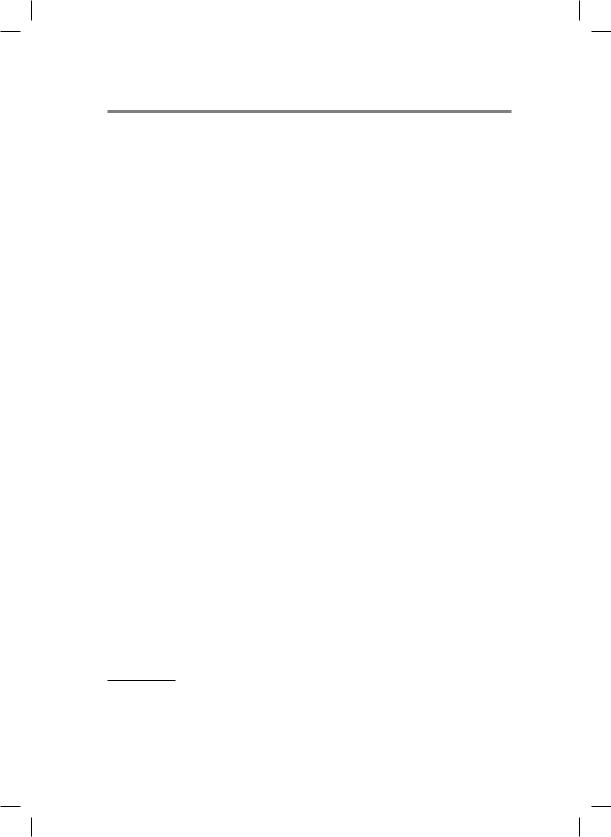
Глава 6. Правопонимание в России
процесса согласования интересов всех заинтересованных социальных групп на базе современного механизма демократического представительства социальных интересов в парламенте.
Типичным для приверженцев узкоэкономической формы либерализма, лишенного, по словам известного английского политолога Л.Зидентопа, его политических и моральных аспектов и основанного на «рыночной идеологией в глянцевой обертке а lа Хайек»1, является непонимание концептуальной взаимосвязи нормативной и институциональной форм свободы. Такое непонимание наглядно демонстрирует Д. Боуз, когда пишет, что для либертарианцев важнейшей «политической ценностью является свобода, а не демократия (курсив мой. — В. Л.). … Живя в обществе, где супруга выбирают большинством голосов всех граждан государства, мы жили б в условиях демократии, но у нас бы не было особой свободы»2. На самом деле, конечно же, подобная ситуация невозможна, потому что разумные индивиды, баланс свободных воль которых лежит
воснове правовой политики правового государства, никогда не допустят такого бессмысленного и произвольного попрания свободы
всфере своей частной жизни. Более того, именно демократическое устройство общества позволяет преодолевать те рудименты архаики, в силу которых свобода вступления в брак может быть ограничена, например, волей родителей. Это высказывание Д. Боуза хорошо демонстрирует точность замечания Л.Зидентопа о том, что «если политический либерализм без экономического бессилен, то экономический либерализм без политического слеп»3.
Авторы, называющие себя либералами и при этом в принципе отрицающие правовую природу законодательных актов представительного органа, являются сторонниками той или иной аристократической модели правотворчества, будь то судейское правотворчество или некое коллегиальное ворчество юристов-профессионалов.
1 Зидентроп Л. Демократия в Европе. М., 2001. С. 94.
2 Боуз Д. Либертарианство. История. Принципы. Политика. С. 16.
3 Зидентроп Л. Указ. соч. С. 96.
410
