
10027
.pdf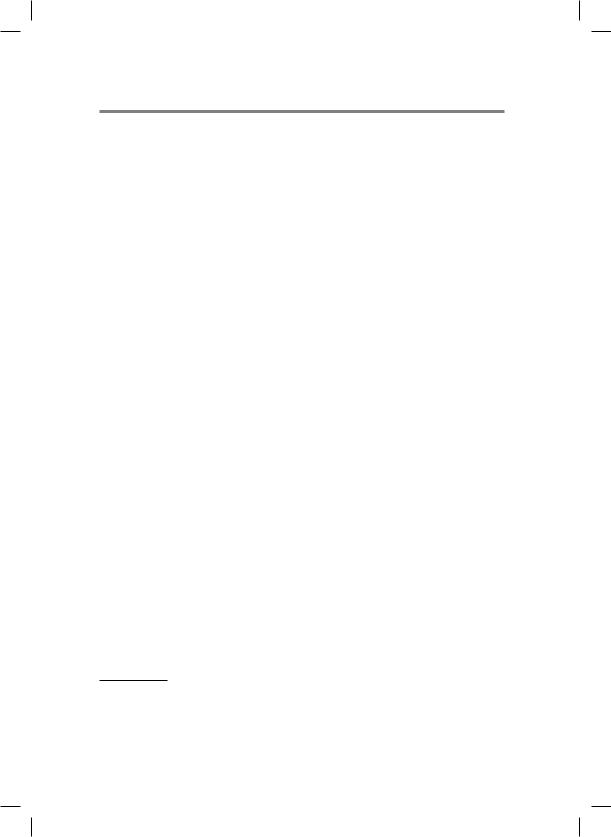
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
о том, что Россия обречена двигаться по авторитарной колее неопределенно долгое время, и что процесс ее радикальной модернизации невозможен из-за ментальности российского населения»1. При этом за рассуждениями приверженцев культурологического подхода,опирающегося на представления о традиционалистской ментальности русского народа, нередко скрывается стремление доказать изначальную обреченность всякой модернизаторской активности, в том числе и «бесперспективность борьбы с коррупцией и произволом чиновников, потому что «так всегда было» — удобнейшая позиция для обоснования конформизма и политической пассивности»2.
Активистская исследовательская парадигма, о которой говорит В.Шляпентох и которую точнее было бы обозначить как институциональную (поскольку активная трансформация социально-эко- номических и политических структур предполагает прежде всего формирование демократических политико-правовых институтов, способных обеспечить надлежащую инфраструктуру для рыночной экономики), была бы адекватным инструментом познания российской реальности только в том случае, если бы властные структуры действительно осуществляли институциональные преобразования. Однако новая российская бюрократия вовсе не стремилась к созданию либеральной демократии, а использовала антитоталитарный, либерально-демократический порыв общества лишь для изменения в своих интересах формы собственности. Выдвинутые ею на политическую авансцену либералы-приватизаторы — это вовсе не демократы, поскольку в ключевом моменте преобразований (в деле приватизации собственности) они продемонстрировали своекорыстную элитарность. В итоге дискредитированы и либерализм, который народ стал понимать как ограбление, и демократия, которую стали понимать как вакханалию. Главная задача, которая
1 Шляпентох В. Элиты, а не массы — главный мотор социальных изменений
вРоссии. Режим доступа: http://www.vladimirshlapentokhrussian.wordpress.com. 2 Там же.
331
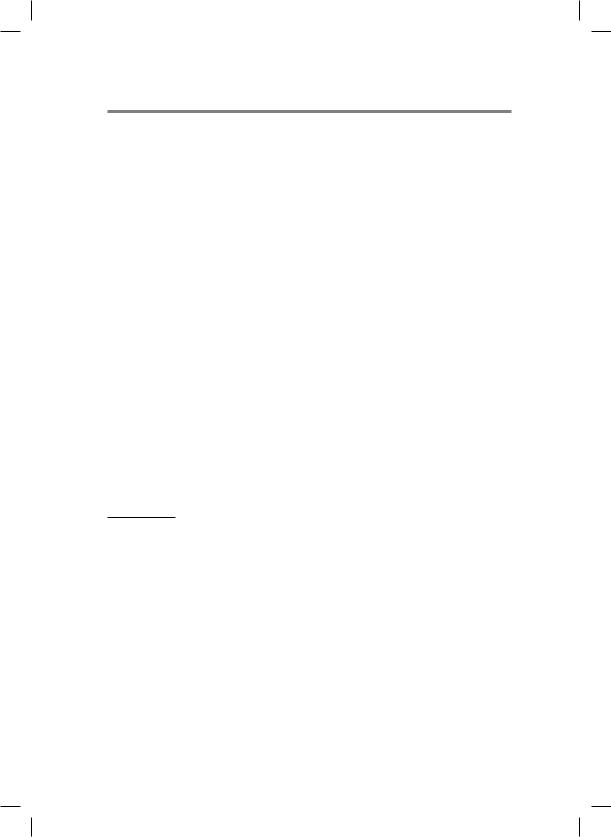
Глава 6. Правопонимание в России
стояла перед новой российской властью в 90-е гг. прошлого века, — найти стык либерализма и демократии в отношении собственности, власти, партий и т.д. — решена не была. Наш либерализм оказался верхушечным, недемократическим, ориентированным на свободу для некоторых и выросшим на обмане народа. Между тем история показывает, что либерализм без демократии, основанной на соотвествующих политико-правовых институтах, обречен на вырождение в авторитарный режим власти1.
В этих условиях часто встречающиеся в последнее время ссылки на то, что институциональная модель преобразований была изначально неадкватна российским реалиям, являются некорректными, поскольку эта модель фактически не была апробирована: начатое в начале 90-х гг. формирование новых политико-правовых институтов довольно скоро было подменено имитацией демократического правового развития. В целом же можно, по-видимому, согласиться с В. Г. Федотовой в том, что для России необходима сейчас комбинация институционального и культурцентристского подходов, поскольку «страна должна развиваться, входить в мировое сообщество, применяя общие и известные принципы развития (урок для почвенников), но она не может делать этого путем радикальной и быстрой переделки культуры народа, ее собственная
1 В этой связи надо сказать, что популярная у нас идея создания двух крупных партий по американскому образцу, то есть партий, выражающих идеологию либеральной демократии и демократического либерализма, обречена на провал. Дело в том, что в США демократия и либерализм зарождались и развивались на одной и той же основе в рамках одного и того же процесса формирования собственности и ее социально-исторической легитимации. В России же это разные процессы, которые привели к образованию сначала нелиберальной (большевистской) демократии, а потом недемократического либерализма. Соединение либерализма и демократии должно быть однородным, стыкуемым. Более того, в современной России они не только не однородны, но прямо противоположны: капиталистический либерализм и коммунистическая демократия. Между тем либерализм без демократии не может выжить даже в США, а уж тем более в обществе с социалистическим прошлым. Если либерализм не имеет опоры в демократии, то демократия приобретет нелиберальный характер и будет выражаться в неправовых формах.
332
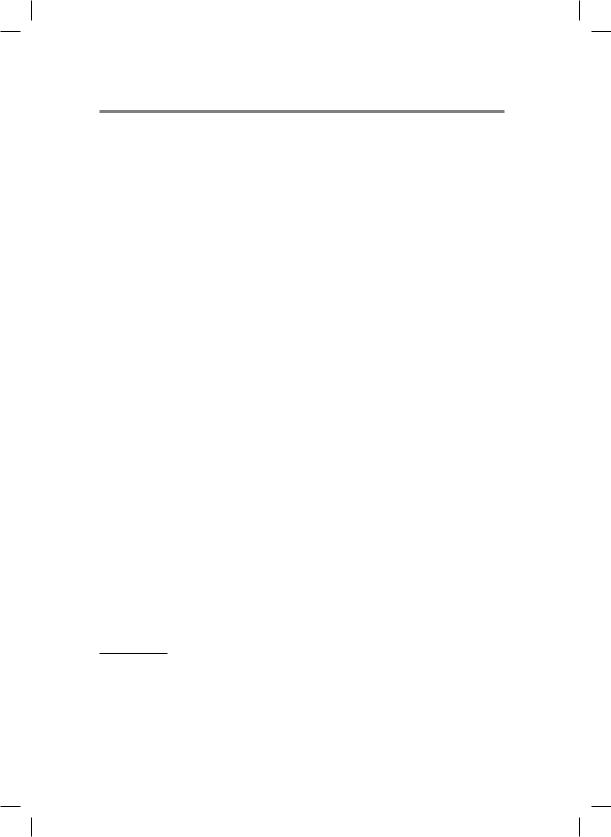
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
культура и традиции должны выступать предпосылкой развития (ответ западникам)1. Вместе с тем отсутствие на практике реального опыта серьезных институциональных преобразований порождает в исследовательском пространстве заметный перекос в сторону культурцентристской исследовательской парадигмы. В рамках правоведения этот всплеск интереса к культурологической трактовке современной социально-правовой реальности в целом означает возврат к традиционному для России системоцентристскому подходу, причем, как правило, в его легистской версии, для которой характерно представление о доминировании государственного начала над отдельным индивидом. А если сторонники правовой самобытности России не сводят право к закону, а предпочитают говорить о праве как о неком высшем, стоящем над законом начале, то понимают под правом ценности нравственного или религиозного порядка, также подчиняющие себе индивидуальную свободу человека.
Крайней формой проявления такого подхода являются клерикальные версии правопонимания. Выразительный образчик современного клерикализма представлен, в частности, в работах В. В. Сорокина, который исходит из противопоставления русского Права (автор пишет это слово исключительно в заглавной буквы, а то и вовсе заглавными буквами), сущность которого отражают «абсолютные духовные (православные и морально-нравственные) идеалы ИСТИНЫ (ЛЮБВИ), ДОБРА и КРАСОТЫ»2, и западного права, в основе которого лежит «свобода, понимаемая как нравственный и мировоззренческий произвол»3. Между тем, прежде чем рассуждать о праве как о вместилище нравственного совершенства, неплохо бы сначала самому соблюдать библейскую заповедь «не
1 Федотова В. Г. Необучаемые? «Вехи» и русская интеллигенция в реформах 1991–1998 годов // Независимая газета. 1999. 30 июня. С. 8.
2 Сорокин В. В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. 2007. С. 122.
3 Там же. С. 60.
333
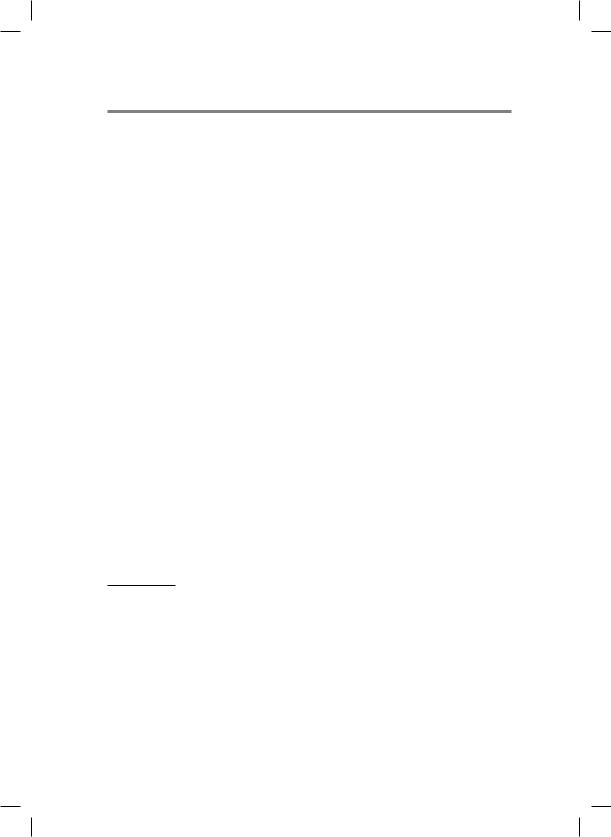
Глава 6. Правопонимание в России
укради», что применительно к профессиональной деятельности автора означает «не занимайся плагиатом». Ведь что иначе, как плагиат, нельзя рассматривать следующее, отнюдь не тривиальное, то есть не являющееся «предметом общего пользования», положение из книги автора, целиком (без сносок и кавычек) заимствованное из работ В. С. Нерсесянца: «В понятии права в научно-абстрактном (сжатом и концентрированном) виде содержится определенная теория права. Если понятие — это концентрированная правовая теория, то правовая теория есть развернутое, конкретизированное понятие права. Только вся система понятийного знания о праве
игосударстве и есть полное и конкретное раскрытие понятия права в виде определенной целостной теории»1.
Однако если у В. С. Нерсесянца юридическая теория, изложенная в его авторском учебнике, — это конкретизация понятия именно права, раскрывающая в процессе внутреннего саморазвития сущностный признак права как особого социального явления, отличного от иных социальных явлений (и прежде всего — от нравственности), то у В. В. Сорокина его так называемая «синтетическая теория права» — эта не теория, конкретизирующая то или иное понятие права, а несистематизированное описание (точнее — провозглашение) некоего расплывчатого набора нравственных
ирелигиозных максим, согласно которым, например, «понятие «свобода» соответствует понятию «Православие»2, а «ПРАВО — это победа совести в человеке, общая совесть всего общества; дух
1 Сорокин В. В. Указ. соч. С. 5. Сравни со словами В. С. Нерсесянца о том, что как в семени, которое в сжатом и концентрированном виде содержит в себе будущее растение, «так и в понятии права в научно-абстрактном (сжатом
иконцентрированном) виде содержится определенная юридическая теория…
Если, таким образом, понятие права — это сжатая юридическая теория, то юридическая теория — это развернутое понятие права. Ведь только юридическая наука в целом (как совокупное понятийно-теоретическое знание о праве и государстве) и есть систематическое и полное раскрытие понятия права» (см.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 27).
2 Сорокин В. В. Указ. соч. С. 19.
334
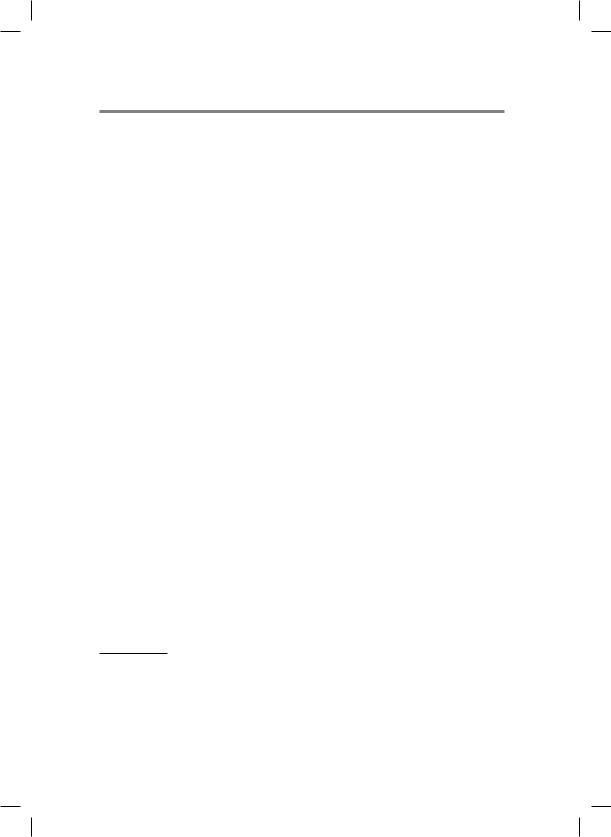
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
Абсолюта, явленный в Божьих заповедях»1 и т.п. Подобный клерикализм вовсе не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. При каком-то повороте событий сформулированная в рамках такого подхода идеологема, согласно которой «противостояние России и Запада неустранимо, как неустранима борьба добра и зла»2, может оказаться востребованной и в политической плоскости.
В приведенных выше высказываниях В. В. Сорокина нашла выражение (хотя и в гротескной форме) этико-религиозная трактовка права, традиционно занимавшая влиятельные позиции в русской философско-правовой мысли. Традиции этого подхода, прерванные в советский период, в последние десятилетия возрождаются усилиями ряда известных теоретиков права. Так, Г. В. Мальцев видит перспективы развития права в «грядущей конвергенции религии и права», в результате которой право «должно наполниться эмоциональной энергией религии»3. В. Н. Синюков считает, что «вклад России в правовую культуру состоит в открытии новых измерений правового феномена. Это — придание личному интересу надиндивидуального статуса, возвышающего утилитарную юридическую форму до смысла подлинно духовного явления»4. И хотя сам автор не раскрывает религиозный подтекст своего подхода, однако вне контекста православия понять смысл русского права (а он говорит именно о «русской правовой норме»5) как «подлинно духовного явления» русской жизни не представляется возможным. Православную составляющую в понятии права можно обнаружить и у многих других авторов.
Но гораздо более популярным в современной теории права стал подход к праву как выражению справедливости, трактуемой
1 Там же. С. 165.
2 Там же. С. 440.
3 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 534.
4 Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 488. 5 Там же. С. 218.
335
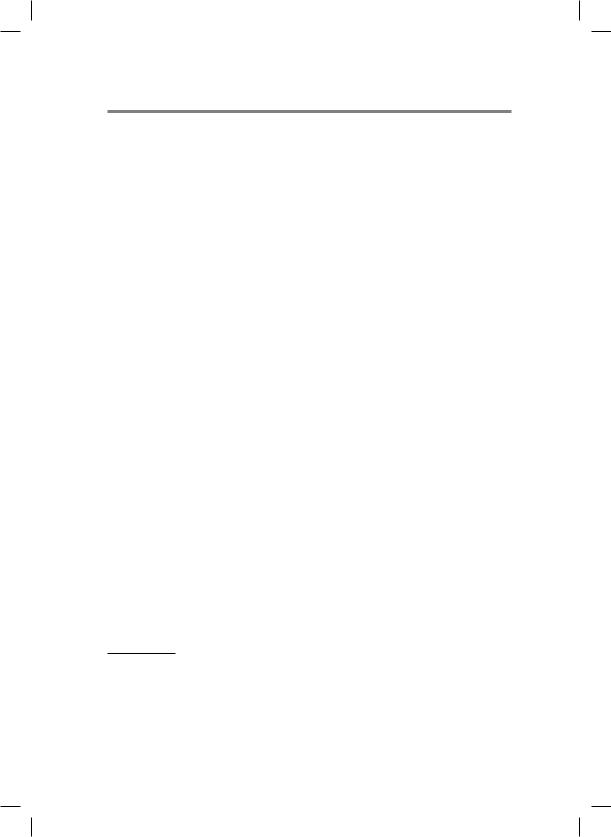
Глава 6. Правопонимание в России
в качестве не столько религиозной, сколько нравственной или нравственно-правовой категории. Одним из первых (если не первым) в постсоветской юриспруденции такой подход к праву обозначил Р. З. Лившиц. «Справедливость, — писал он, — шире права. Специфика права как социального явления заключается в том, что оно призвано внести порядок в общественные отношения и закрепить этот порядок. Иными словами, в нормативности, обязательности правовых положений, в возможности их принудительного проведения в жизнь. Те справедливые идеи, которые обрели нормативное закрепление в законе и были проведены в жизнь, стали правом. Те, которые не обрели, остались за пределами права. Право есть нормативно закрепленная и реализованная справедливость»1. И хотя при этом автор рассматривает право как «средство общественного компромисса»2, однако речь у него идет не о том компромиссе, который достигается в результате процедуры правообразования, позволяющей учитывать и согласовывать позиции всех субъектов правового регулирования, а всего лишь о социальной легитимации уже принятой нормы с позиций представлений общества о социальной справедливости. Признавая, что в рамках такой теоретической парадигмы не существует общего и однозначного критерия отличия правового закона от неправового, Р. З. Лившиц, как верно отмечает Н. В. Варламова, в итоге возвращается к классическому легизму. Переходя от философии права к его догме, он «либо воспроизводит традиционные позитивистские конструкции, либо предлагает довольно расплывчатые построения, которые не могут претендовать на категориальный статус. ... И, в конце концов, система права и норма права у него просто «исчезают», уступая место системе законодательства и норме закона»3.
1 Лившиц Р. З. Теория права. М., 2001. С. 67, 68.
2 Лившиц Р. З. Современная теория права. Краткий очерк. М., 1992. С. 34.
3 Варламова Н. В. Предметно-методологическое единство и дифференциация теоретического знания о праве // Современная либертарно-юридическая теория / Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1. С. 15.
336
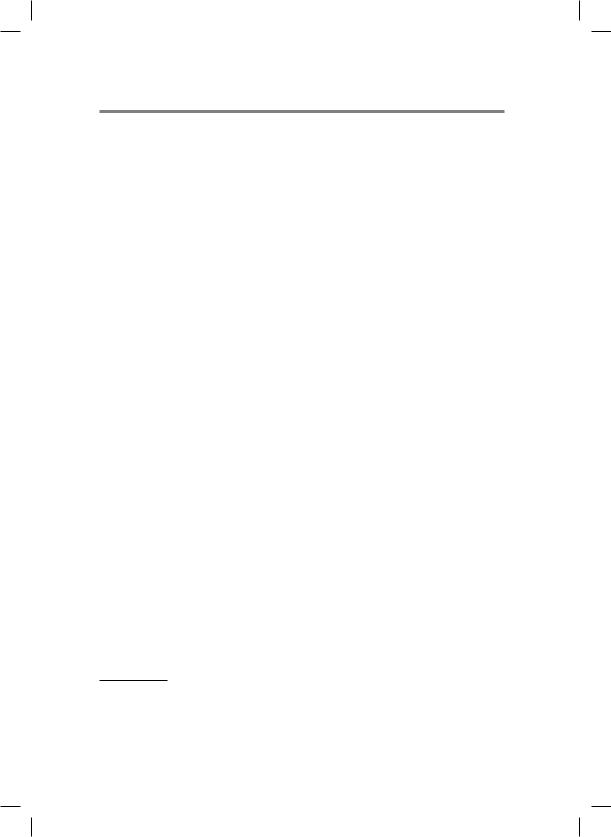
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
Взгляд на право как выражение некой морально-нравственной справедливости становится все более популярным в постсоветской юриспруденции. Так, Г. В. Мальцев в своей работе с характерным названием «Нравственные основания права» говорит о том, что «справедливость есть категория, общая для морали и права»1, и с этих позиций выступает против позитивистского, по его мнению, разграничения правового и морально-нравственного начал. Критикуя критерий такого разграничения, основанный на «принципе Милля», автор относит его к области утилитарной логики, отмечая при этом, что обращение к данному критерию «провоцирует бесконечные споры, чего больше в данном социальном явлении — пользы или вреда, выгод или потерь, добра или зла»2. Именно в этом суждении Г. В. Мальцева фокусируется суть его позиции, которая явно или неявно должна разделяться всеми приверженцами «нравственных оснований права». Здесь обращает на себя внимание два момента. Первый связан с содержанием самого «принципа Милля», который Г. В. Мальцев пренебрежительно называет утилитарным, а второй касается характеристики им в качестве назойливых «бесконечных споров» того социальнополитического дискурса, который составляет непременное условие выработки правового решения. Рассмотрим оба эти момента отдельно.
Согласно так называемому «принципу Милля», сформулированному Д.-С. Миллем в его известном эссе «О свободе», «единственное оправдание вмешательства в свободу действий любого человека — самозащита, предотвращение вреда, который может быть нанесен другим»3. Поясняя эту мысль, он далее пишет: «Собственное благо человека, физическое или моральное, не может стать поводом для вмешательства, коллективного или индивидуального. Не следует заставлять его делать что-либо или терпеть что-то из-за того, что,
1 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 108. 2 Там же.
3 Милль Д. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 11.
337
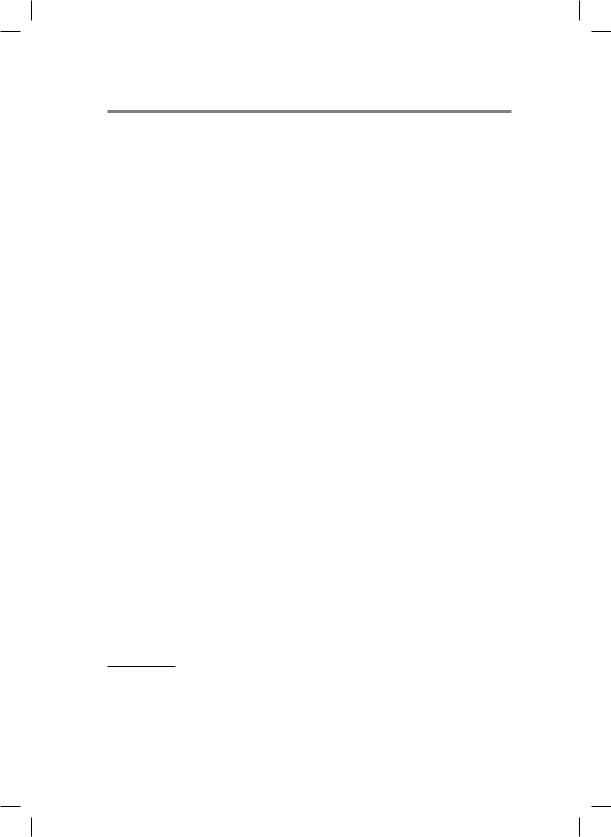
Глава 6. Правопонимание в России
по мнению общества, так будет умнее и справедливее. Можно увещевать, уговаривать, упрекать, но не принуждать и не угрожать. Чтобы оправдать вмешательство, нужно выяснить, причинит ли его поведение кому-нибудь вред. Человек ответственен только за ту часть своего поведения, которая касается других. В остальном — абсолютно независим. Над собой, своим телом и душой личность суверенна»1.
Мысль эта, как подчеркивает сам Д.-С. Милль, «ничуть не нова
инекоторым покажется трюизмом»2. Между тем при всей своей общеизвестности она отнюдь не является банальностью. Если переакцентировать ее и сказать, что человек не должен наносить вред другому человеку (имея в виду, что в противном случае он несет за это ответственность), то мы получим частный случай, охватываемый древним Золотым правилом нормативной регуляции — «Не делай другому того, чего ты не хотел бы иметь по отношению в себе». Эта мысль укладывается и в формулу категорического императива И.Канта, который гласит: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»3. Г. Гегель выразил данную мысль следующей емкой и лаконичной фразой: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц»4. В Конституции РФ соответствующий принцип сформулирован в ч. 3 ст. 17, согласно которой «осуществление прав и свобод человека
игражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Очевидно, что во всех перечисленных случаях мы имеем дело не с каким-то частным утилитарным принципом, а с обусловленным разумной природой человека фундаментальным принципом социальной регуляции, предписывающим человеку быть справедливым по отношению к каждому другому, то есть относиться
1 Там же.
2 Там же. С. 12.
3 Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 260. 4 Гегель Г. Философия права. С. 98.
338
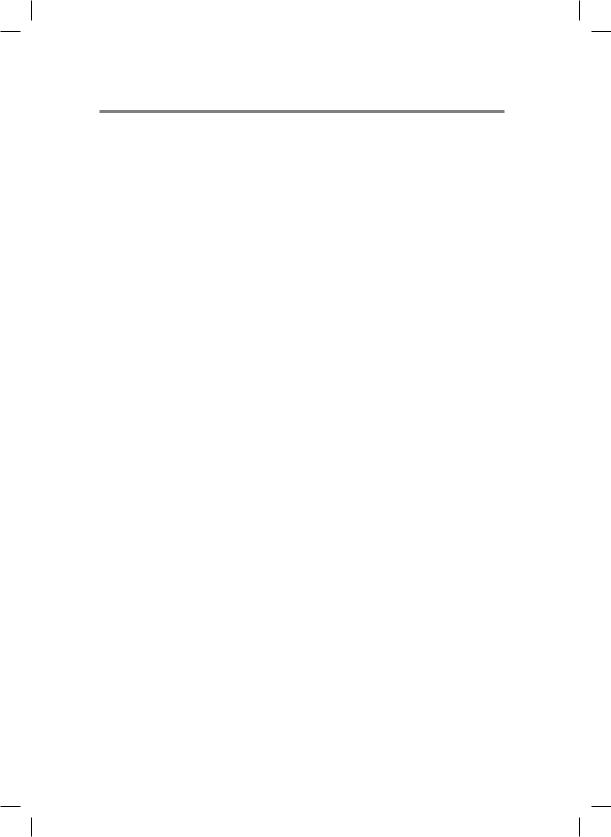
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
к нему как к свободному и равному себе субъекту правового общения. В либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца этот принцип трактуется как правовой принцип формального равенства, выраженный через триединство равной меры, свободы и справедливости.
Отрицание этого сущностного принципа права вполне логично для позиции Г. В. Мальцева, который, по сути дела, отождествляет право и нравственность, не признавая наличие у каждого из этих социальных феноменов самостоятельной сущности. Более того, в русле такой позиции он не просто отрицает наличие у права собственной сущности, но и отвергает ту процедуру поиска этой сущности, т.е. ту процедуру выработки правового решения, которая позволяет в каждом конкретном случае найти преломление абстрактного принципа формального равенства к той или иной спорной ситуации.
В современном правовом государстве основная функция выработки правового решения лежит на демократически избранном парламенте, который, находясь в постоянном перекрестном дискурсе как внутри себя (между различными парламентскими фракциями), так и вовне (в многоканальном взаимодействии со структурами гражданского общества, в том числе и с экспертным сообществом), может найти тот баланс социальных интересов, который должен лежать в основе равносправедливого, то есть соответствующего принципу формального равенства всех заинтересованных сторон, нормативно-правового решения социальной проблемы. Если бы человечество знало иные, более легкие и эффективные способы правотворчества, то оно не пошло бы по такому сложному и дорогостоящему пути, как формирование представительной демократии. Только в рамках демократической процедуры, обеспечивающей институциональные гарантии свободы, возможна выработка права как нормативной формы свободы. Что касается поиска так называемых нравственных оснований права, то он никак не вписывается в подобную процедуру, поэтому остается неясным, кто и каким
339
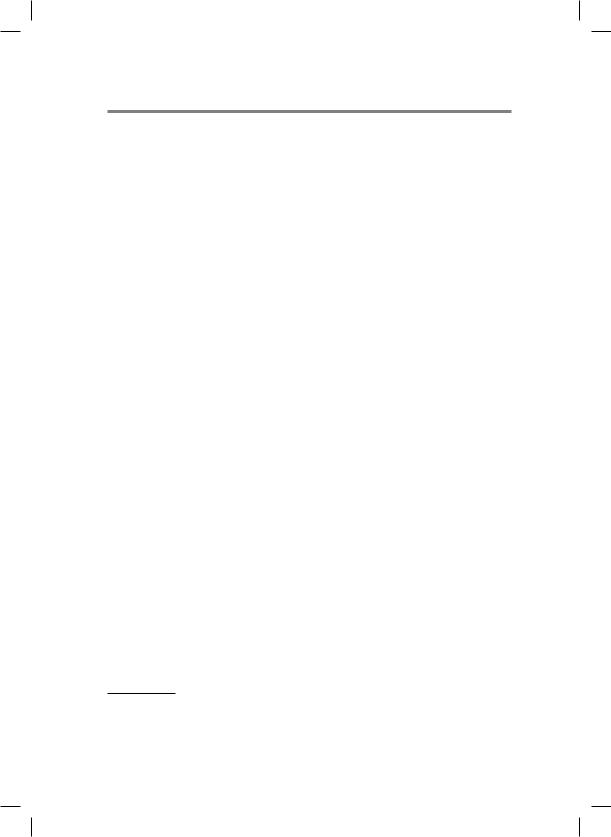
Глава 6. Правопонимание в России
образом будет определять, в чем состоят подобные нравственные основания.
Г. В. Мальцев, по-видимому, полагает, что эту функцию могут выполнить законодатель и судья, опирающиеся на свои собственные представления о сложившихся в обществе нравственных нормах. Чтобы не увязнуть в утилитарной логике, пишет он, «в расчетах и калькуляциях…, юрист и законодатель, не покидая, разумеется, практической почвы, не отрываясь от земли, должны обратиться к сфере ценностей, ценностной логике, попытаться именно там найти ключ к решению принципиальных проблем юридической теории и практики»1. Очевидно, что речь идет здесь о ценностях нравственного порядка, поскольку специфические правовые ценности автор отрицает. Даже оставляя в стороне вопрос о том, откуда законодатель может черпать свои представления об нравственных ценностях общества, нельзя не отметить тот факт, что эти ценности по своей природе носят партикулярный характер и не могут лежать
воснове всеобщего законодательства. Это хорошо понимал еще Д.-С. Милль: «Мораль страны, — писал он, — исходит из интересов класса, который в данное время на подъеме. Зато когда прежде господствовавший класс теряет свою власть, мораль общества часто преисполняется нетерпеливым отвращением к нему. Другой решающий принцип правил поведения, навязанный законом или общественным мнением, — рабское преклонение перед предполагаемым превосходством господ»2.
Кроме того, в России миссия по выражению тех нравственных начал, которые у нас традиционно принято называть справедливостью или правдой, никогда не лежала ни на государственных институтах, ни на духовных лидерах нации, ни на церкви, ни на социальной верхушке общества и т.д. Таким носителем правды-справедливости
вРоссии всегда являлся главный носитель государственной власти,
1 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. С. 367.
2 Милль Д. Указ. соч. С. 11.
340
