
10027
.pdf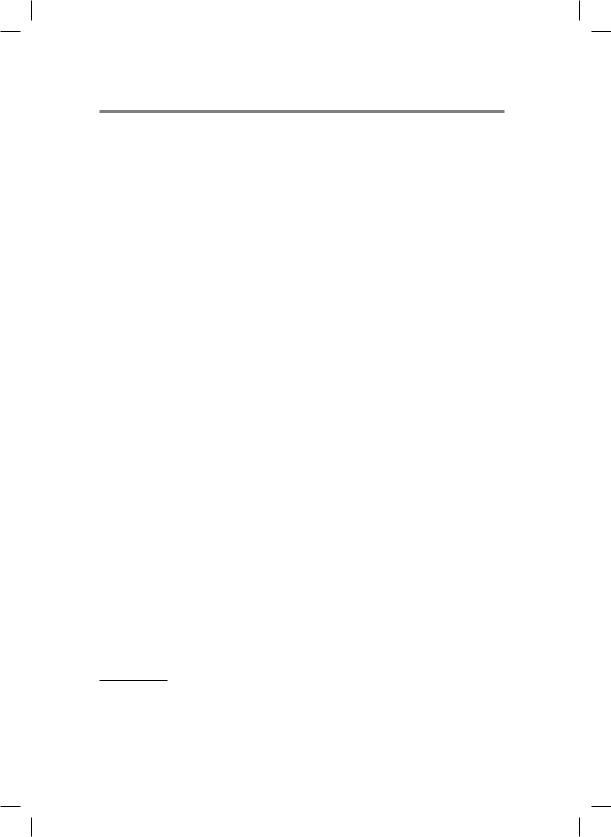
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
для либертаристов». Однако он вынужден признать, что встречается и нетипичная позиция, которая «представлена создателем теории, академиком В. С. Нерсесяцем»1. На самом деле нет нескольких (типичной и нетипичных) либертарно-юридических концепций права. Есть цельная и последовательная концепция В. С. Нерсесянца, в которой принцип формального правового равенства не только не исключает правовую природу социального государства, но и допускает в исторической перспективе возможность дополнения и обогащения этого принципа «качественно новым моментом — уже приобретенным реальным субъективным правом каждого на одинаковый для всех минимум собственности»2. И есть авторы, которые, соглашаясь с отдельными положениями либер- тарно-юридической теории, склоняются в целом к той или иной версии либертаризма.
Правда, в работах В. С. Нерсесянца проблеме, связанной с правовой оценкой социальной политики государства не уделено достаточного внимания. Возможно, автор не хотел полемизировать с немногочисленными союзниками по пониманию права как формы свободы, но главное, думаю, в том, что в свете его концепции цивилизма проблема правовой природы социального государства утратила для него свою актуальность. Тем не менее, из ряда его высказываний ясно, что он не только в принципе не отрицал правовую природу социального государства, но и наметил критерий для ее определения. «Те или иные требования так называемой социальной справедливости, — писал он, — с правовой точки зрения имеют рациональный смысл и могут быть признаны и удовлетворены лишь постольку, поскольку они согласуемы с правовой всеобщностью и равенством и их, следовательно, можно выразить в виде абстрактно-всеобщих требований самой правовой справедливости
всоответствующих областях социальной жизни. И то, что обычно
1 Мартышин О. В. О «либертарно-юридической теории права и государства» // Государство и право. М., 2002. № 10. С. 14.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 424.
391
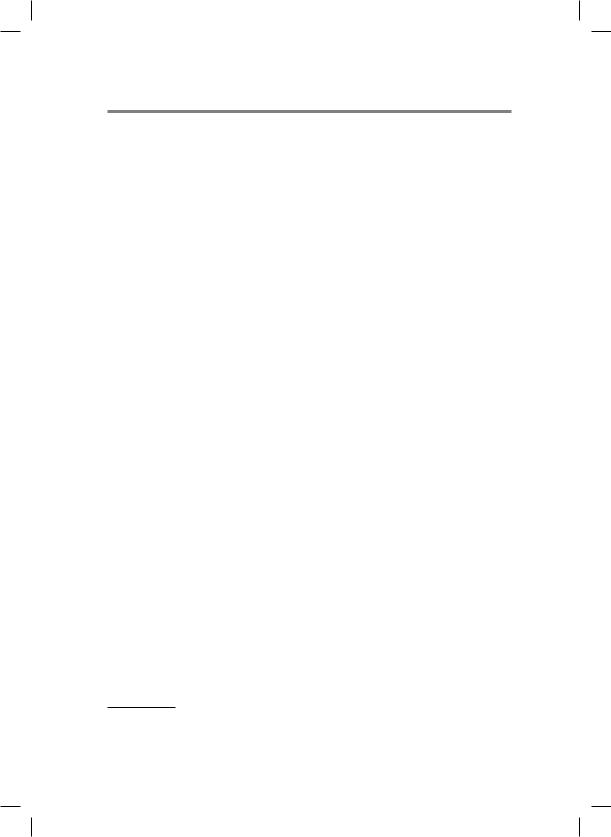
Глава 6. Правопонимание в России
именуется социальной справедливостью, может как соответствовать праву, так и отрицать его»1.
Но дело даже не в прямых высказываниях В. С. Нерсесянца, из которых ясно, что он различал правовую и неправовую (то есть произвольно-благотворительную) социальную политику государства. Гораздо важнее тот общий концептуальный подход автора к трактовке соотношения права и государства, который не только допускает, но и предполагает возможность правовой природы социальной политики современного правового государства. На этом подходе я хотела бы остановиться подробнее.
Для того чтобы понять тот смысл, который В. С. Нерсесянц вкладывал в понятие правового принципа формального равенства, необходимо прежде всего уяснить, чем правовое равенство (то есть равенство, маркированное определенным признаком) отличается от равенства вообще (то есть от равенства как чистой теоретической абстракции), с которым мы имеем дело в математике и в логике. Как известно, величины в математике или высказывания в логике (под которыми понимается совокупность символов и логических связок, рассматриваемых в связи с их оценкой) равны тогда и только тогда, когда эти высказывания и величины представляют собой один и тот же объект. Здесь равенство — это такое состояние объектов или высказываний, при котором они тождественны, то есть равенство — здесь просто тождество. В реальной жизни (где нет абстрактного равенства как тождества), говорил В. С. Нерсесянц, равенство — это «не состояние, а лишь средство перевода различий в неравенства», то есть форма упорядочивания различий по определенному основанию. Далее логика наших рассуждений будет строиться по схеме, предполагающей обоснование следующих тезисов.
1. Право — это система норм, позволяющих измерять и отмерять равную меру свободы (свободной воли) людей в их взаимодействиях друг с другом.
1 Там же. С. 48.
392
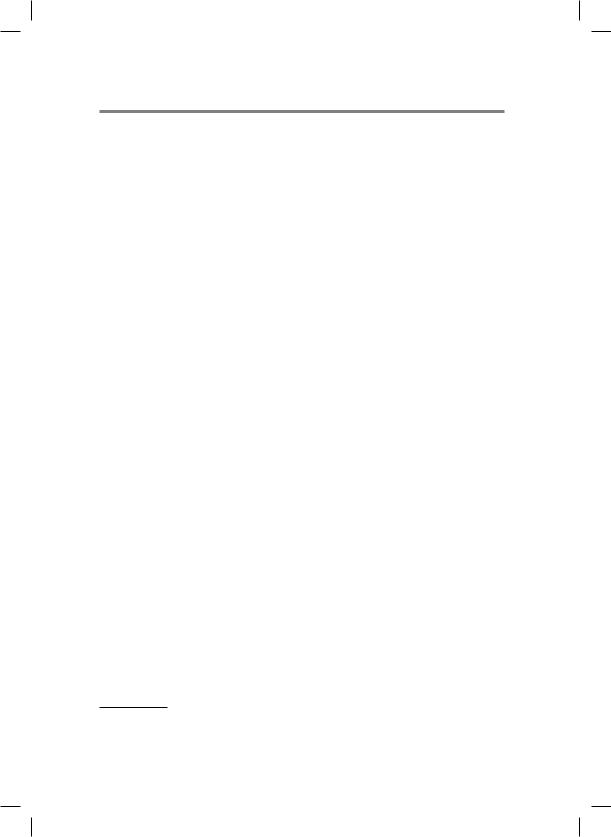
6.3.Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
2.Свободная воля, будучи наиболее абстрактной характеристикой человека, имеет тем не менее определенное социальное содержание, выявляемое в ходе условного «общественного договора» между участниками социальных взаимодействий.
3.Заключение такого «общественного договора» и соблюдение его условий обеспечивается соответствующими государственными институтами, что предполагает исходное имманентное единство права и правового государства.
4.Концептуальное единство права и государства — эта теоретическая основа понимания права как правового закона в концепции В. С. Нерсесянца.
5.Дальнейший прогресс права и государства на ближайшую историческую перспективу связан с развитием социальной политики государства
Рассмотрим каждую из выделенных позиций.
1.Право–- это система норм, позволяющих измерять и от-
мерять равную меру свободы людей в их взаимодействиях друг с другом. Поскольку люди — это разумные существа, обладающие свободной волей как способностью разума к самоопределению, то все они могут быть условно уравнены по этому общему для всех основанию, т.е. по возможности осуществления ими своей разумной свободной воли в той мере, в какой воля одного не нарушает волю другого (в чем и состоит разумность их воль). В этом смысле В. С. Нерсесянц определял право как «математику свободы». Право, говорил он, «уже исходно обладает собственным принципом равенства и само по себе является математикой (в смысле учения о равенствах и неравенствах) в специфической сфере своего бытия и действия»1. Причем, идея правового равенства, считал он, исторически предшествовала и, по сути дела, была первоисточником
1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 32.
393
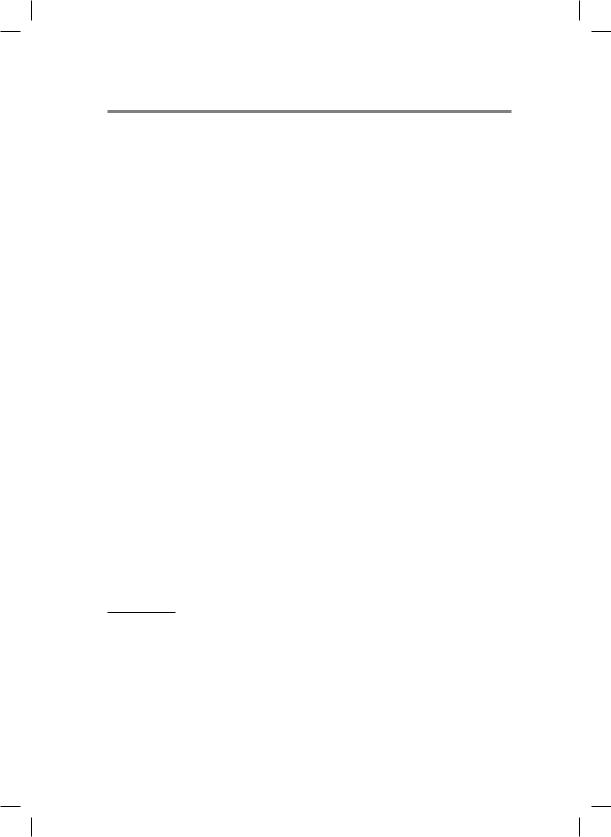
Глава 6. Правопонимание в России
значительно более поздней и потому более абстрактной идеи математического равенства1.
Чтобы понять, почему именно свобода и только свобода может быть объектом уравнивания людей в сфере общественных отношений (то есть уравнивания людей как членов общества, а не изолированных друг от друга индивидов) и каким образом происходит это уравнивание, мы будем исходить из определения общества как «общественного предприятия во имя взаимной выгоды»2, в рамках которого приняты определенные правила распределения выгод, полученных от сотрудничества, то есть распределения социальных (материальных и духовных) и природных благ. Если рассматривать общество как объединение людей в целях производства и распределения благ (понимая под благами все «то, чего хотят люди»3), то уравнивать людей как членов общества можно лишь по основанию их доступа к благам. При этом речь может идти либо о так называемом фактическом равенстве в обладании благами, либо о формальном равенстве возможностей доступа к ним, то есть о равенстве
всвободе как в форме доступа к благам, когда каждый волен (может
всоответствии со своей свободной волей) использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы для получения желаемого набора благ.
Что касается равенства людей в фактическом обладании благами,
то эта утопическая идея, сопровождавшая всю историю развития человеческих представлений о социальном равенстве, пережила, как известно, две волны свой исторической актуализации. Первый этап заметного возрастания общественного интереса к этой идее
1 Там же. С. 31.
2 Ролз Д. Теория справедливости. С. 20. Подобное понимание общества разделяет и такой авторитетный автор, как П.Рикер. «Мы можем считать общество обширной системой распределения, то есть дележа ролей, обязанностей, задач — далеко превосходящих простую раздачу ценностей, представляемых в денежном выражении в экономическом плане» (См.: Рикер П. Справедливое. М., 2005. С. 39).
3 Ролз Д. Теория справедливости. С. 10.
394
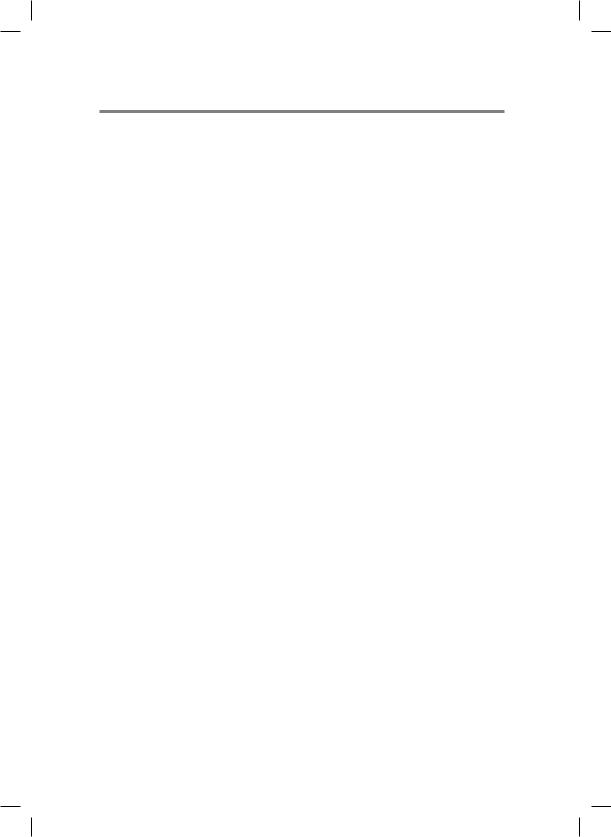
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
был связан с именем Ж.-Ж. Руссо, видевшего в первобытно-при- родном состоянии «золотой век» человечества, еще не знавшего социального неравенства. Несоответствие этих представлений результатам исследований современных юридико-антропологичес- ких исследований будет рассмотрено мною в заключительной главе работы при анализе проблематики генезиса права.
Следующий, гораздо более значительный взлет социальной значимости идеи фактического равенства пришелся на эпоху социалистического и коммунистического строительства, осуществлявшегося под знаменем именно этой идеи. Стагнация и последовавший за ней крах социалистического строя в полной мере продемонстрировали утопичность и этого варианта идеи фактического равенства, показав объективную невозможность не только перехода к общественному строю, основанному на так называемом коммунистическом принципе распределения благ «от каждого по способностям, каждому — по потребностям», но (что в контексте нашего анализа более важно) также и невозможность реализации социалистического принципа «от каждого по способностям, каждому — по труду». Основоположники коммунистической теории полагали, что социализму как переходному строю будет присуще равенство между трудом и потреблением, которое должно обеспечиваться с помощью сохраняющегося на этот период буржуазного права. Именно этот тезис (который, насколько мне известно, всерьез никем не оспаривался) В. С. Нерсесянц делает главным объектом свой критики при анализе того феномена, который обозначается обычно как «4 право».
По его мнению, так называемое буржуазное «равное право» при социализме — это вовсе не право, «а нечто другое, лишь по аналогии, метафорично, по сложившейся традиции словоупотребления и исторической преемственности именуемое правом». Ошибка К. Маркса в этом вопросе коренится, по мнению В. С. Нерсесянца, в представлении о том, что общество может напрямую обменивать известное количество произведенного труда на равное количество
395
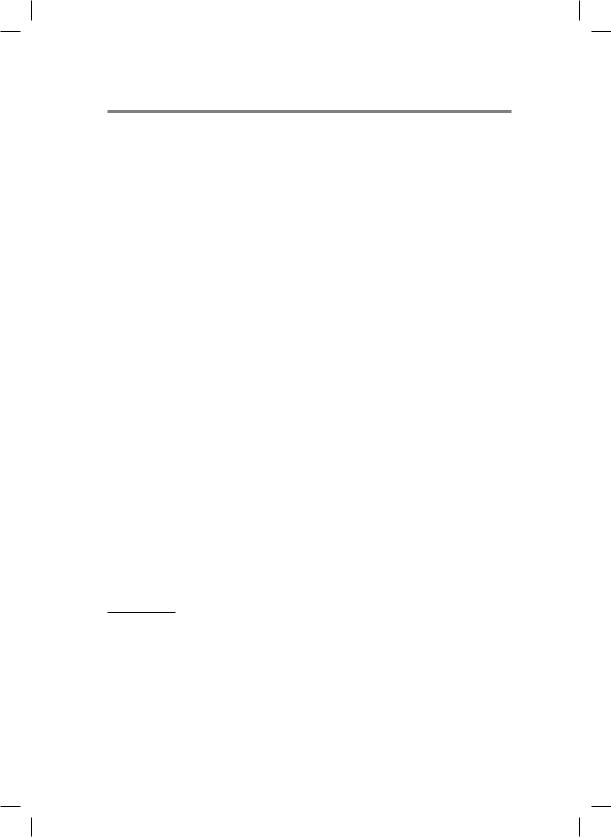
Глава 6. Правопонимание в России
труда в форме предметов потребления1, то есть может осуществлять процесс определения равной меры между трудом и потреблением без свободного согласования воль продавца и покупателя в процессе рыночного обмена. При социализме, говорил К. Маркс, каждый трудящийся имеет право на получение такого объема потребительских благ, который равен затраченному им труду; «равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой — трудом»2. Это, как считает В. С. Нерсесянц, позволяет достигать равенства меры труда и потребления в каждом конкретном случае (в отличие от рыночного механизма, при котором обмен эквивалентами существует лишь в среднестатистическом варианте). Однако, продолжает он, никакого равного (а значит, и правового) обмена труда производителя на предметы потребления при социализме не происходит и происходить не может в принципе, потому что труд сам по себе не может служить мерой своего исчисления. Труд — это «некая фактичность, фактический процесс, фактическое отношение, и он не может сам себя измерять и регулировать, не может быть собственной формой, принципом и нормой»3. Измерителем фактического как некоего фрагмента конкретной реальности может выступать не само фактическое4, а абстрактная форма его выражения, с помощью которой хаотичное многообразие фактичности может быть выражено системой равенств и неравенств.
В социальной жизни такое уравнивание фактического (в данном случае — труда) возможно лишь в форме права, которое «как регулятор и “измеритель” абстрагировано от самих этих регулируемых и “измеряемых” отношений, не совпадает с ними. Право регулирует
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 18, 19.
2 Там же. С. 19.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 193.
4 «Если бы “равенство”, “равная мера” и т.д. были бы непосредственными, внутренними свойствами самого труда, — отмечает в данной связи В. С. Нерсесянц, — то человечеству не надо было бы изобретать другие общезначимые средства и масштабы (весы, рынок, деньги, право и т.д.) для “измерения” и определения его количества и качества» (Там же).
396
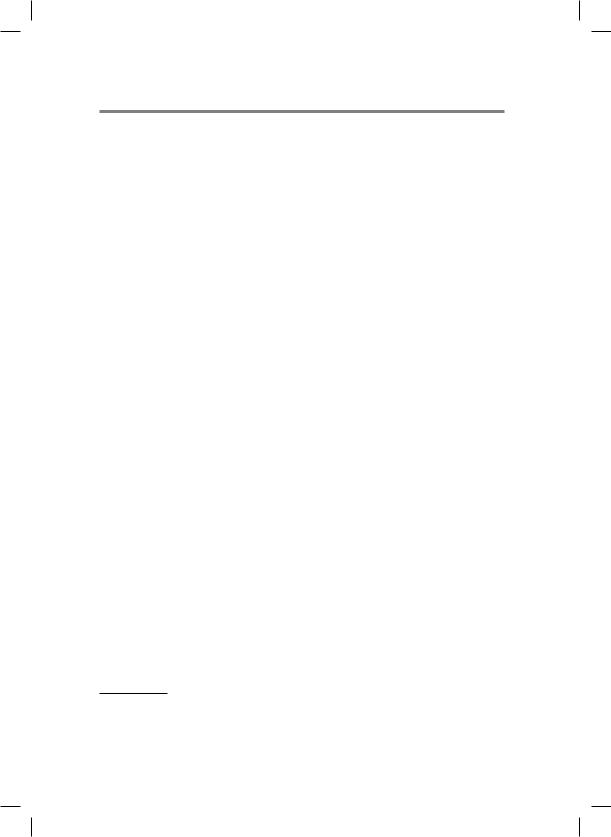
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
и“измеряет” не право, а, например, трудовые, распределительные
идругие отношения»1. При этом соотношение меры труда и потребления осуществляется в процессе рыночного товарообмена, когда денежный эквивалент труда производителя в соответствии с его свободным волеизъявлением обменивается на тот или иной набор предметов потребления, вынесенных на рынок другими свободными товаропроизводителями. В результате такого обмена принцип равенства может относиться лишь к балансу свободных воль продавца и покупателя, а вовсе к количеству труда, затраченного на производство обмениваемых товаров (так, в силу редкости или особой актуальности какого-то вида товара его цена может существенно превышать его реальную трудовую стоимость). Правила, согласно которым осуществляется поиск баланса воль продавцов
ипокупателей в условиях рынка — это и есть право как «нормативная форма выражения свободы»2, т.е. в данном случае — система норм, обеспечивающих формальное равенство воль субъектов рыночных отношений, при котором воля одного может быть реализована до тех пор, пока она не нарушает волю другого.
Таким образом, можно сказать, что право измеряет фактические общественные отношения абстрактными (формальными) мерами свободы и устанавливает порядок общественных отношений, основанный на равенстве в свободе. При этом формальное равенство субъектов права в свободе предстает как их равенство в правоспособности, т.е. в способности обладать набором субъективных прав, гарантирующих им приобщение к соответствующим социальным благам.
2.Свободная воля имеет социальное содержание, выявляемое в ходе «общественного договора» между участниками социальных взаимодействий. Далее важно понять следующий принципиальный (и, пожалуй, наиболее сложный) аспект
1 Там же. С. 193, 194.
2 Там же. С. 33.
397

Глава 6. Правопонимание в России
рассматриваемой теоретической конструкции, суть которого состоит в том, что максимально абстрактная характеристика человека как носителя свободной воли не означает, что в результате уравнивания людей по этому основанию мы получаем формальное равенство, лишенное социального содержания. Ведь уравнивание в праве — это не математическая абстракция, для которой не имеет значения основание уравнивания: если в математике мы говорим, что два равняется двум, то мы не привносим в эту формулу никакого дополнительного смысла. Но в праве уравнивание происходит по определенному основанию, в качестве которого выстпуает свобода, то есть разумная свободная воля. А это вовсе не некая сугубо абстрактная и единая на все времена категория. Данное понятие имеет исторически изменчивое социальное содержание, и в этом смысле оно условно: люди должны о нем условиться, то есть договориться или молчаливо согласиться. Когда мы уравниваем людей как носителей разума и свободной воли, это значит, что именно разумную свободную волю человека мы рассматриваем в качестве меры, позволяющей отмерять ему такой набор субъективных прав на получение социальных благ, который соответствует проявленной им свободной воле (в той мере, в какой это не препятствует свободной воле других людей). Однако в исходное понятие разумной свободной воли человека различные концепции либерализма вкладывают разный смысл.
Можно выделить две основные линии в трактовке данного понятия, согласно которым свободная воля индивида — это:
1)воля, не связанная давлением произвола со стороны другого индивида, социальной группы, публично-властных структур и т. д.;
2)воля, не связанная помимо чужого произвола также и иными внешними (по отношению к этой воле) обстоятельствами, обусловленными социально-биологической слабостью самого индивида1.
1 Здесь вполне уместно вспомнить слова из известной песни В.Высоцкого: «Воля волей, если сил невпроворот…».
398
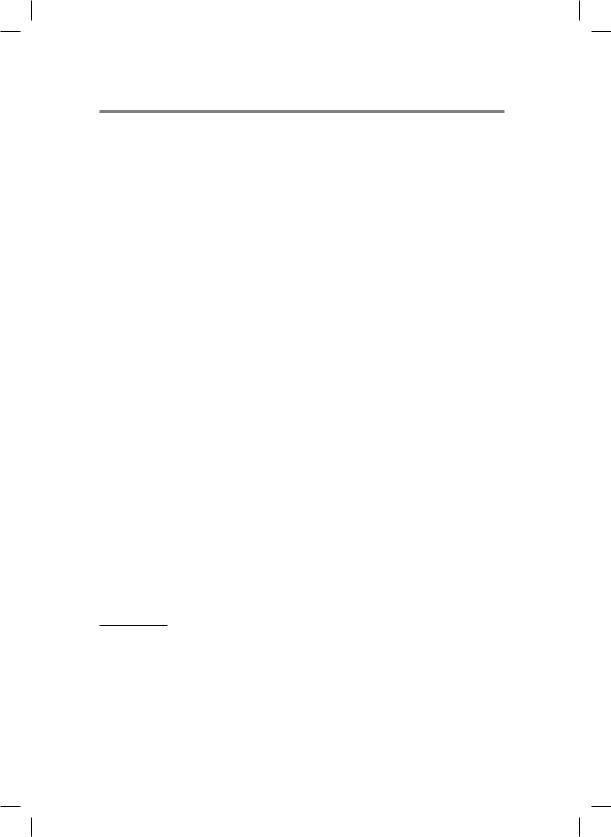
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
Названные позиции в целом укладываются в рамки двух разных подходов к пониманию формального равенства в свободе (их можно условно обозначить как либерально-аристократическое и либераль- но-демократическое), согласно которым: а) равенство предполагает отказ от идеи равенства стартовых возможностей и б) равенство корректирует (насколько это удается в данных исторических условиях) исходное фактическое неравенство до равенства стартовых возможностей1. Именно по этому основанию разделяются взгляды на природу правового принципа формального равенства среди сторонников либертарного правопонимания в российской теории права.
Во времена Г. Гегеля свободная воля индивида не могла трактоваться иначе как воля, не ограниченная внешним произволом. Подобное понимание свободной воли, не обремененное учетом таких ограничителей, как социальная или биологическая слабость носителя этой воли, означало формальное равенство всех перед нормой, которая не дифференцирована по социальным группам таким образом, чтобы учесть незаслуженную (если воспользоваться термином Ф. Хайека) слабость одних и силу других. Реализация этого принципа на практике вела к укреплению позиции наиболее сильных субъектов социального взаимодействия по логике накопляемого преимущества2. И если бы развитие демократии и права на этом закончилось, подойдя к логическому концу своей Истории, то пришлось бы согласиться с теми критиками правовой демократии, которые считают, что она «узаконила приобретения сильных и власть жестоких и сделала дальнейшее обсуждение миропорядка нелепым с правовой точки зрения»3. Гегелевская трактовка сво-
1 См.: Федотова В. Г. Равенство социальное / Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 394.
2 Именно такому подходу как раз и соответствует позиция В. А. Четвернина, которая особенно ярко проявляется в его трактовке проблем налогообложения.
3 Кантор М. К. Медленные челюсти демократии. М., 2008 С. 10. «Нет практически никаких сомнений в том, — продолжает эту мысль автор, — что в сорев-
399
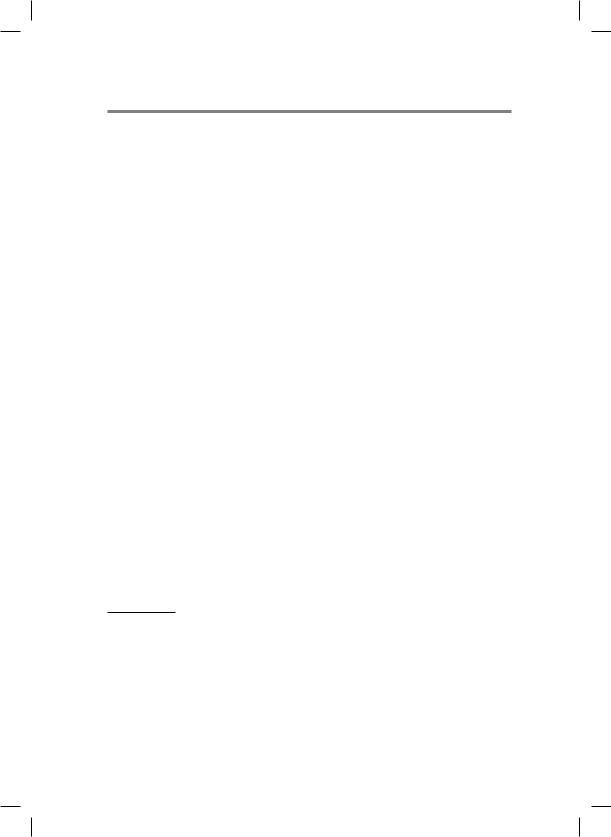
Глава 6. Правопонимание в России
бодной воли, которую в России затем воспроизвел отечественный классик юридического либерализма Б. Н. Чичерин, была адекватна эпохе первоначального накопления капитала, когда на арену политической жизни вышли энергичные, обладающие большим человеческим потенциалом представители зарождающейся буржуазии, которые отстаивали свое «право сильного» без скидок на социобиологическую слабость иных субъектов правового общения. Другого равенства и не могла обеспечить в то время публичная власть, еще не вышедшая из сословно-феодального состояния. Характерное для этого времени понимание существа права остроумно выразил Б. Франклин, который так сказал о демократии (а, по сути дела, о праве): «Демократия — это договор между хорошо вооруженными джентльменами»1.
Вооруженные джентльмены, поделившие между собой основную часть жизненного пространства и установившие приемлемую для себя меру свободы, не были заинтересованы в пересмотре сложившегося по итогам такого передела статуса-кво. Этого не было ни на Западе в эпоху первоначального накопления и развития капитала, нет этого и в современной России времен постсоветского передела
иосвоения собственности. Идеологию таких сильных, удачливых
иагрессивных акторов политической сцены и выражает либертарианство в духе Ф. Хайека, популярное изложение которых дано в манифесте отечественных либертариацев — книге Д. Боуза «Либертарианство: История, принципы, политика» (Челябинск, 2004). Квинтэссенцией этой книги является следующий тезис: «Вывод из либертарианского принципа, гласящего, что каждый человек име-
новании за власть (честном и законном) выиграет расположенный властвовать, и это будет с большой долей вероятности — жестокий человек. В соревновании за богатство, скорее всего, победит не добрый, но жадный. В соревновании за славу, разумеется, победит тщеславный. Однако эти победы, (которые произойдут в соответствии с равными возможностями) отныне будут вменены обществу как правовые достижения, но не как произвол» (Там же).
1 См.: Аузан А. Национальные ценности и конституционный строй // Новая газета. 2008. 14–16 января. С. 8).
400
