
10027
.pdf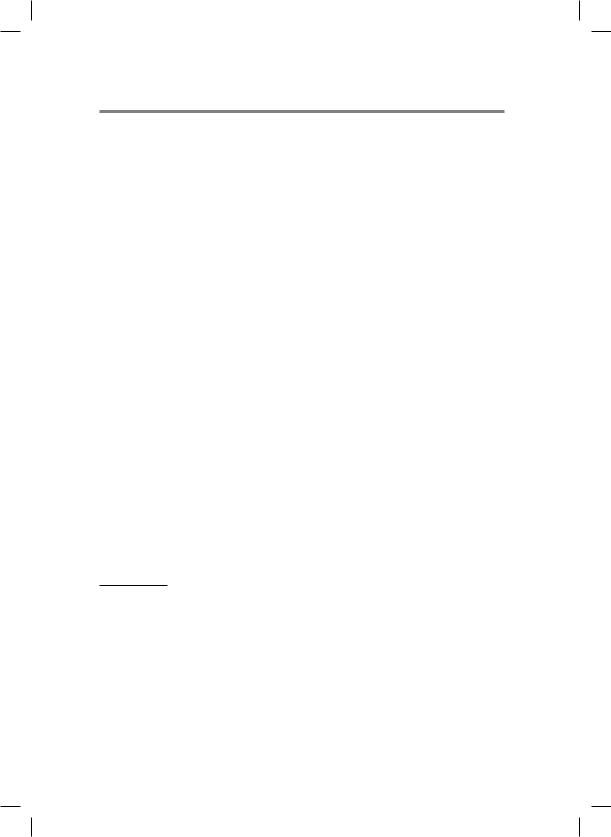
7.1. Генезис права как зарождение равенства в общественных отношениях
человеческого общества является родовая община1.. Однако более обоснованной представляется позиция, согласно которой готовым и сформировавшимся обществом следует считать не родовую общину как таковую, а эндогамную дуальную организацию двух экзогамных родовых общин2. Именно создание такой структурной организации стало главным движущим фактором социогенеза, поскольку оно обеспечило ту морфологическую основу, в рамках которой каждая из взаимодействующих родовых общин получила коллективный образ Другого, необходимый для формирования ее собственного группового самосознания, а также партнера по межкультурной коммуникации, в ходе которой приобретался и обогащался социальный опыт3.
Человеческое сознание устроено таким образом, что мы «не способны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других»4. В мире, где царит подражательность как основа группового поведения, для формирования сознания, лежащего в основе совместных и согласованных действий, обязательно должен быть другой коллектив, на который обращен взгляд человека. Сравнение и сопоставление моего и твоего идет через познание коллективных действий Другого. Не случайно первыми словами, которые дали толчок развитию человеческой речи, являлись слова, в которых проявляется социоразделительная функция речи, то есть слова, выражающие понятия «Мы» и «Они»5. Интерпретируя эту выявленную филологами закономерность, антропологи полагают, что если в понятие «Мы»
1 Семенов Ю. И. На заре человеческой истории. М., 1989. С. 10.
2 Тумурова А. Т. Теоретико-правовые вопросы происхождения родовой общины / Обычное право бурят: историко-правовое исследование: Дисс. … д-р. юрид.наук. М., 2010. С. 73–80.
3 См.: Тумурова А. Т. Теоретико-правовые вопросы социогенеза в контексте традиционного общества / Буряты в контексте современных этнокультурных и этносоциальных процессов: Сб. ст. В 3 т. Улан-Удэ, 2006. Т. 1. С. 55–64.
4 Эко У. Когда на сцену приходит Другой / Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 2000. С. 15; цит. по: Поляков А. В. Указ. соч. С. 215.
5 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. С. 457, 458.
461
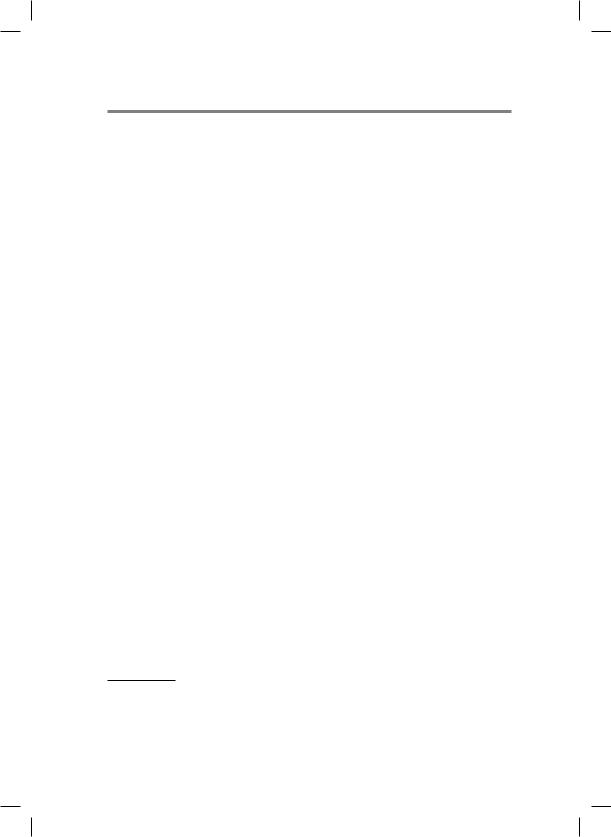
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
первобытный человек вкладывал вполне определенное содержание, то под «Они» он имел в виду неопределенный круг субъектов — всех, кто находился за пределами «Мы». Однако если принять во внимание дуальную структуру первичного социума, то становится очевидной ошибочность такой точки зрения. Эта дуальность предопределяет конкретный характер содержания понятия «Они» в той же степени, что и содержание понятия «Мы». Под «Они» первобытный человек понимал не всякое существо вне собственной родовой общины (вне «Мы»), а конкретных людей, составляющих вторую структурную часть дуальной организации. По представлениям первобытного человека вне «Мы» и «Они» нет социальной жизни, нет «людей». Только в такой связке можно понять единство
ислитность понятий «я» и «человек», «мы» и «люди», у древних людей и современных аборигенов1.
Не менее значима роль дуальной организации социума и на следующем этапе развития человеческого познания, связанном с предметной деятельностью человека, когда у него актуализируется потребность выразить в словах мир вещей. Эндогамность родовой общины создает ситуацию, когда любой язык существует как система кодирования. Им владеют только члены группы, но другим существам проникнуть в «тайные знаки» не дано. Исключение составляет дуальная община, с которой идет непрерывный обмен информацией. Только наличие дуальной организации дает возможность передать значение слова через другое слово. Если родовая община использует тот или иной звук или знак с одной определенной
итолько ей понятной связью с вещью или процессом, то слово с его функцией обозначать снятый с конкретной реальности внутренний образ родиться не может, поскольку определенный звук или знак будет нерасторжимо связан с самой объективной реальностью. Иначе обстоит дело, если есть другая община, на жизнедеятельность
1 См.: Лапаева В. В., Тумурова А. П. Процессы генезиса права с позиций принципа формального равенства / По материалам юридико-социологического исследования // История государства и права. 2009. № 17. С. 13, 14.
462
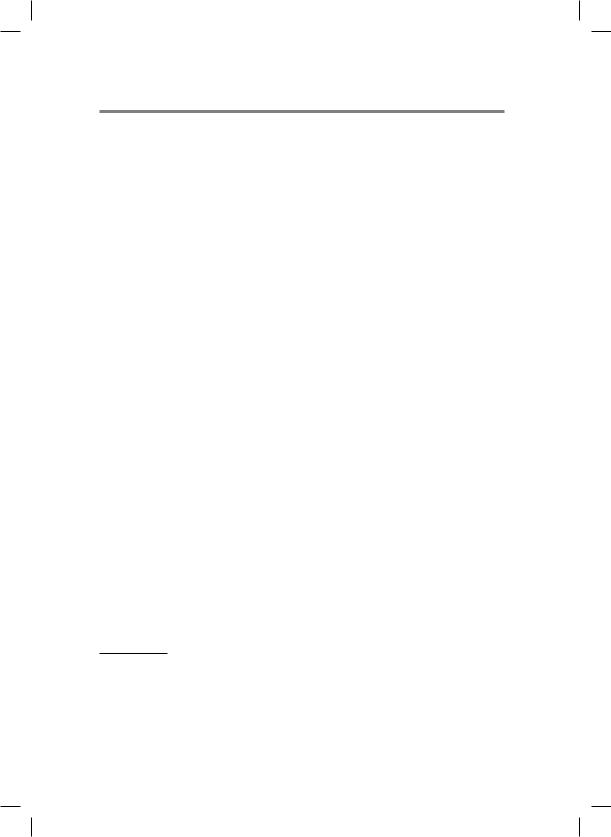
7.1. Генезис права как зарождение равенства в общественных отношениях
которой некто смотрит как бы со стороны, в отрыве от своего личного опыта. Тогда появляется мыслительный по своей природе процесс, связанный с осмыслением того, что звук или знак означает в моей общине одну реальность, а в другой общине — другую. Именно этот процесс называется рождением слова1.
Аккумулирование социальной информации в языке и возможность передать ее новому поколению начинают формировать информационную систему, которая не является прямым отражением объективного мира, данного в ощущениях, а включает знаки и символы, которые опосредуют предметную деятельность человека. Таким образом, появление дуальной организации первобытного социума запускает механизм формирования человеческого познания как основанного на разуме процесса «создания знаково-симво- лических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта»2. Дуальная организация, в рамках которой человек получил возможность усваивать чужой опыт через знаковую систему и язык, начав стремительно развиваться, не могла не продемонстрировать гораздо большую жизнеспособность по сравнению со всеми другими неорганизованными сообществами.
Поэтому дуальный характер первичного социума имел столь же всеобщий характер, как и лежащее в его основе табу на инцест, поскольку, в конечном итоге, речь шла об универсальном биологическом императиве выживания рода. В условиях жесточайшего естественного отбора выживали только те общины, которые смогли обеспечить должный уровень согласованности коллективных действий, поскольку социальное поведение было важнейшим (практически единственным) оружием древнего человека в его
1 См.: Тумурова А. Т. Морфология родовой общины // Вестник Бурятского гос.ун-та. Сер.: Философия, социология, политология, культурология. УланУдэ, 2009. Вып. 14а. С. 299–304.
2 Касавин И. Т. Познание / Новая философская энциклопедия. М., 2001. С. 259.
463
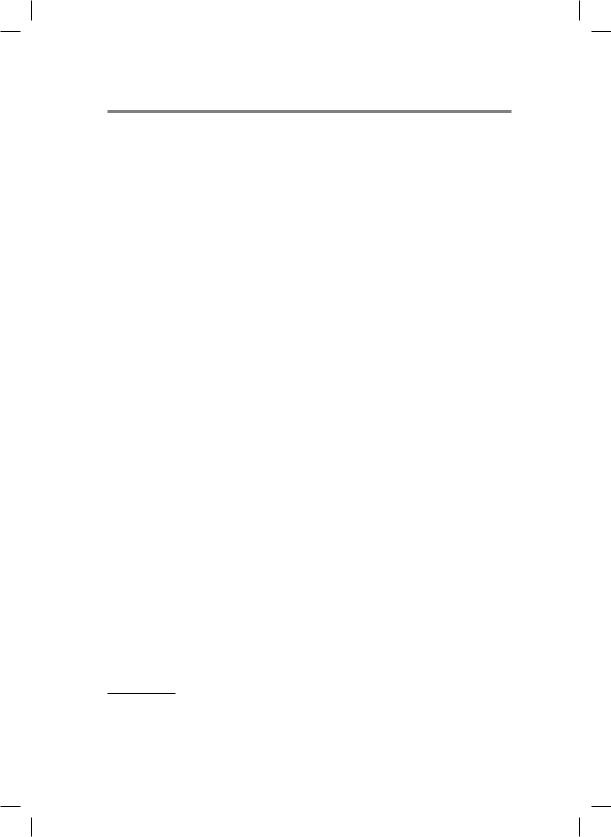
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
противостоянии суровым стихиям. «В процессе социализации человека, — пишет в этой связи В. С. Нерсесянц, — коллективное явно превалирует и безусловно доминирует над индивидуальным во всех сферах жизни и деятельности людей, обеспечивая тем самым выживание хрупких ростков социальности в стихии могучих естественных сил. Преодоление огромной силы естественного притяжения требовало жесткого и безусловного единства всех сил социализировавшегося первобытного коллектива. Этим продиктованы как абсолютно непререкаемый характер первобытных норм, так и суровость наказаний за их нарушение (вольное или невольное)»1.
Накопление первых обобщенных знаний об окружающем мире создает интеллектуальную основу для планирования предметной деятельности и формирования поведенческих стереотипов, характерных для человека социального, а не биологического. Эти первые ростки социального поведения легко могли быть уничтожены в результате разрыва в преемственности поколений. Только жесточайшая последовательность в родовой преемственности выковала первого человека как социальное существо. В этом сложном процессе, в котором непрерывность и стабильность общественных связей была гарантией социального развития, именно родовая община, обеспечивающая накопление и передачу информации, выступала в качестве первого субъекта истории. Она как единый коллектив была субъектом осознанного поведения: ставила цели, планировала, достигала цели, выбирала методы и пути их достижения на основе уже достаточно сложной системы знаний, полученных из совокупного опыта и переданных ей в совокупности абстрактных символов в ходе социальной эволюции, то есть от одного поколения к другому2.
При этом, что особенно важно в контексте нашего анализа, дуальная структура первобытного социума породила принципиально новое пространство социокультурной коммуникации, в рамках
1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 199.
2 См.: Лапаева В. В., Тумурова А. П. Указ. соч. С. 14
464
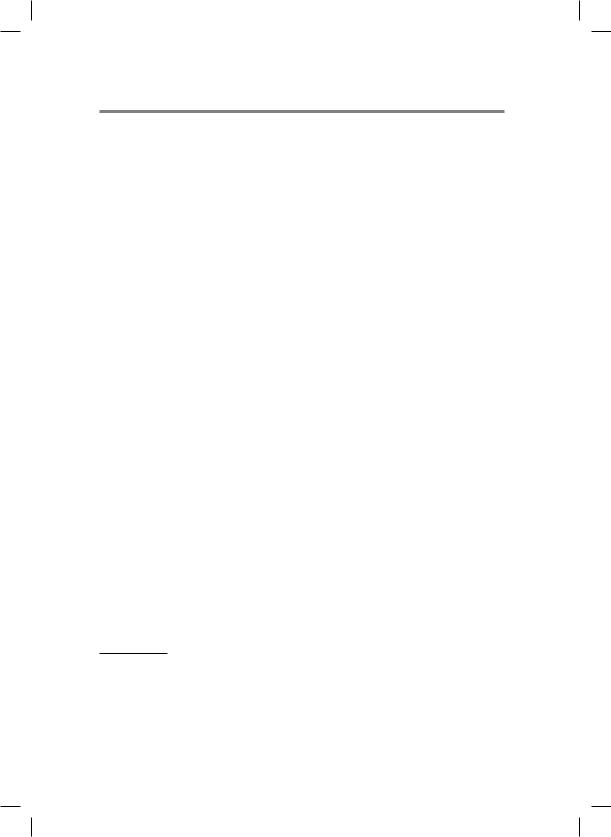
7.1. Генезис права как зарождение равенства в общественных отношениях
которой каждая из двух родовых общин функционировала как самостоятельный субъект, наделенный свободной волей. Отношения между структурными элементами дуальной организации складывались в условиях их полной автономии и независимости друг от друга (каждая община совершенно самостоятельно обеспечивала свою жизнедеятельность) и потому основывались на началах равенства. Равенство и независимость сторон такого брачного обмена и договорный характер отношений между ними определяли правовую природу этих отношений. «Дуально-родовой союз, — отмечает Ю. И. Семенов, — есть определенная социальная организация отношений между полами, которая дает определенные права и накладывает определенные обязательства на связанные этим союзом стороны»1.
Таким образом, в системе первобытнообщинных отношений равенство зарождается не как фактическое равенство в потреблении, основанное на братских кровнородственных связях, а как формальное равенство субъектов обмена, опосредующее социальные отношения в рамках дуальной организации. Поэтому принятые в этнологии представления о том, что «генетически первым и основным субъектом правоотношений на заре человеческой истории были родовые коллективы (родовые общины)»2, следует дополнить важным уточнением: речь идет о родовых общинах в рамках дуальной организации. Дуальная структура первичного человеческого социума стала первоисточником правовых отношений, возникших одновременно с выходом проточеловека из стадного состояния. Все дальнейшее развитие человечества было одновременно и его правовым развитием. Поэтому тезис о том, что, «человек, по природе своей, — существо правовое»3, является не образным выражением,
1 Там же.
2 Ломакина И. Б. Особенности субъектного состава обычно-правовых отношений в этнической среде (на примере коренных народов Сибири) // Правоведение. 2005. № 3. С. 144
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 62.
465
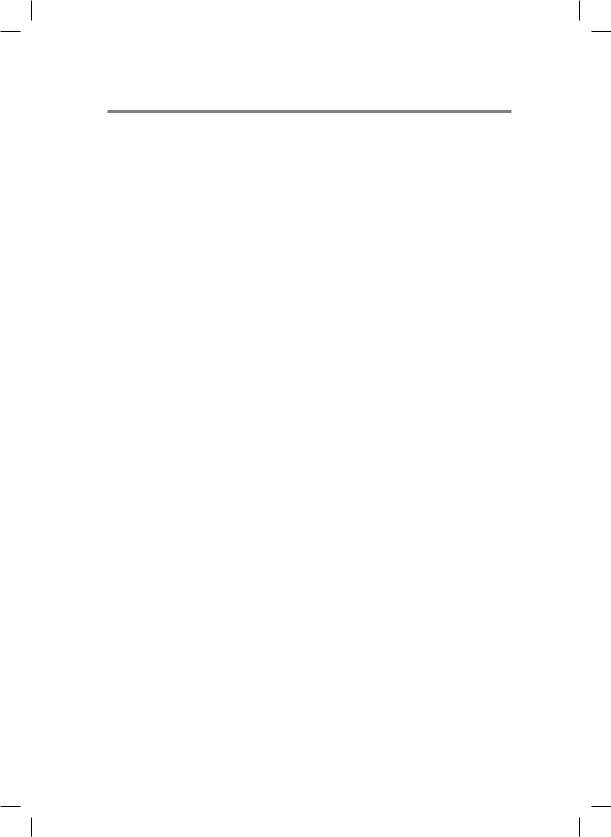
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
а формулой, адекватно отражающей суть процесса человеческого развития как исторического прогресса свободы в общественных отношениях.
Таким образом, с самых первых шагов своей социализации человек запустил механизм правообразования, который начал постепенно втягивать в правовые отношения все новые группы субъектов, расширяя таким образом сферу свободы в общественной жизни.
Здесь важно подчеркнуть, что нормы, опосредующие подобные отношения обмена между свободными и равными субъектами (общинами в рамках дуального союза), принципиально отличались от построенных по принципу братской солидарности внутриродовых обычаев, регулирующих распределение средств жизнеобеспечения внутри родовой общины. Эти обычаи, охраняемые властью старейшины, были направлены на то, чтобы обеспечить деление общего продукта, исходя из возможностей и потребностей участников общежития. Как и в современной семье, материальное содержание здесь носило алиментарный характер, не учитывающий материальный вклад члена семьи и, соответственно, не связывающий хорошее или плохое поведение с материальным вознаграждением или санкцией.
Показательно, что эти разные по своей природе регуляторы имели и разные санкции: внутриродовой обычай обеспечивался изгнанием из общины, реализуемым через институт изгоев, а право (правовой обычай) гарантировалось родовой местью по принципу талиона, замещенной впоследствии системой композиции из нескольких взаимодополняемых санкций. Не менее важно и то обстоятельство, что эти санкции, присущие разным формам нормативной регуляции, обеспечивались различными институтами власти: внутри общины главным гарантом реализации санкции являлся вождь, а санкции за нарушение внешних (правовых) связей общины межродовыми институтами власти, которые представляли собой, по сути дела, протогосударственные структуры.
466
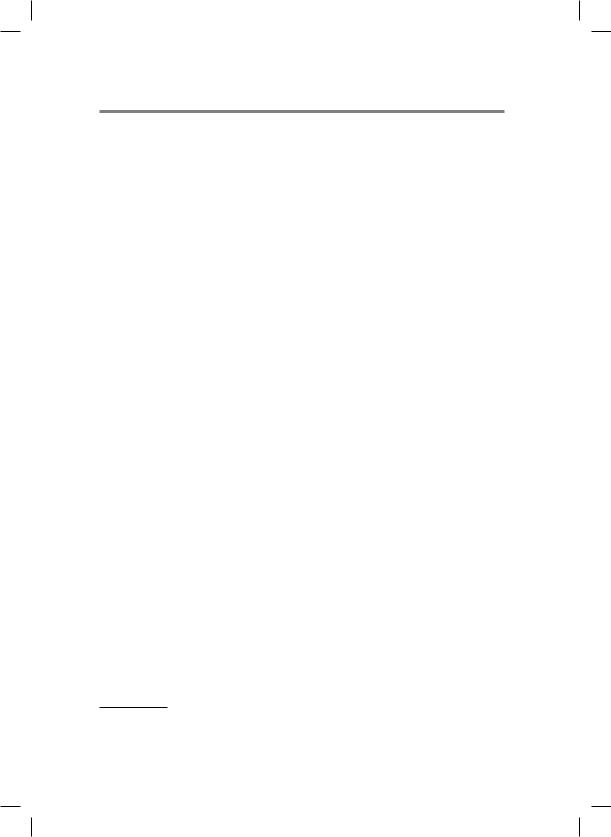
7.1.Генезис права как зарождение равенства в общественных отношениях
Вдальнейшем развитие сотрудничества между родами в рамках дуальной организации привело к появлению опыта социальных контактов, выходящих за рамки матримониального обмена. При однократных, возможно случайных, актах совместной охоты представителей разных общин, добыча делилась между участниками на принципиально иных началах, чем братское распределение внутри каждой из общин. Самостоятельность и независимость взаимодействующих родовых общин друг от друга лежали в основе возможности сотрудничества, предполагавшего равные условия: равное участие в совместном мероприятии и равные доли в его результатах. Такой обмен деятельностью и ее результатами строился на принципиально новых началах, отличных по своей природе от братских отношений внутри каждой из общин. Эффективность совместной охоты постепенно сделала ее основой жизнедеятельности родовых общин, что привело к развитию нормативной системы, регулирующей отношения за рамками кровного родства1.
Здесь мы подходим к принципиально важному моменту — к положению о концептуальном единстве права и государства, которое лежит в основе либертарной теории права В. С. Нерсесянца. Особая природа права как регулятора внешних для общины отношений, основанных на принципе формального равенства, уже на самых начальныхэтапахзарожденияматримониальногообменамеждудвумя родами в рамках дуальной организации обусловила формирование соответствующих протогосударственных структур — межродовых институтов власти, — ставших институциональной формой обеспечения этих равноправных отношений. Параллельно с развитием таких обменных отношений шел процесс институализации органов межродовой власти. В рассматриваемом нами регионе, охватывающем районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, важную роль в развитие этого процесса внесла охота на крупного зверя (загонная или облавная охота), в которой принимали участие
1 См.: Там же.
467
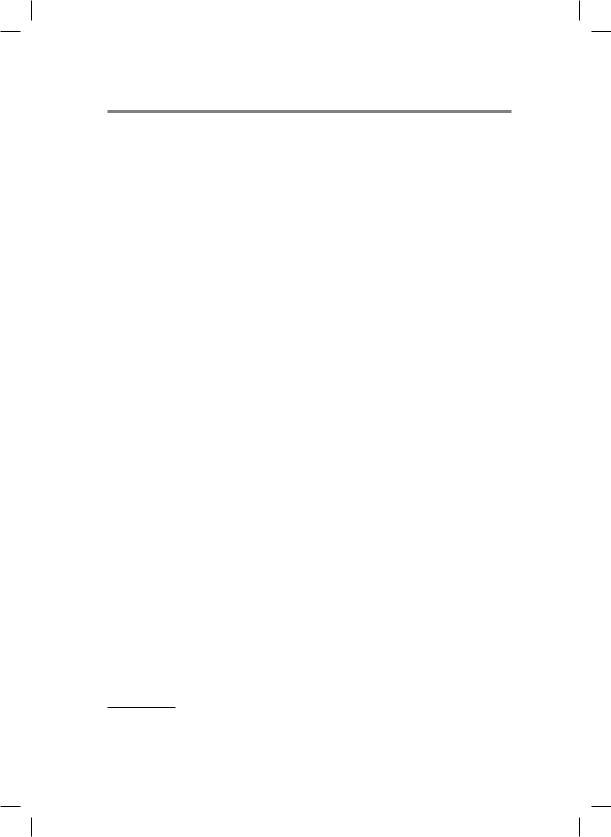
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
несколько родовых общин. Именно тогда начинают формироваться постоянные органы межродового управления. Первоначально это были руководители, выбираемые участвующими в коллективной охоте равноправными общинами на относительно короткий период совместных действий. С установлением регулярных контактов функционирование такого органа становится постоянным, все более заметны его распределительные функции, а вместе с ними упрочиваются его властные полномочия. В результате обособления органов межродовой власти социорегулятивная система получает новое качество наряду со стихийно складывающимися обычноправовыми нормами возникает действенный механизм преобразования общественных отношений на основе рациональных по своей природе правотворческих актов.
Одновременно с этим идут процессы формирования частной собственности, в результате которых владелец стада постепенно становится самостоятельным и независимым субъектом общественных отношений. На историческую арену выходит новая фигура, равная по своему правовому статусу с другими самостоятельно хозяйствующими субъектами. Дальнейшая история становления человека предстает уже как история его индивидуализации, в процессе которой право получает новый виток развития и вступает в фазу завершения стадии своего генезиса1.
На основании изложенного можно сделать вывод, что социогенез, правогенез и политогенез зародились практически одновременно и из одного источника, и этим источником, положившим начало истории развития человечества, была дуальная структура первичного первобытного социума. При этом право (в отличие от иных нормативных регуляторов) с самого начала возникло как форма выражения формального равенства, обеспеченная адекватной (то есть правовой по своей природе) институциональной формой публично-властной поддержки (сначала протогосударственной,
1 См.: Там же. С. 15.
468
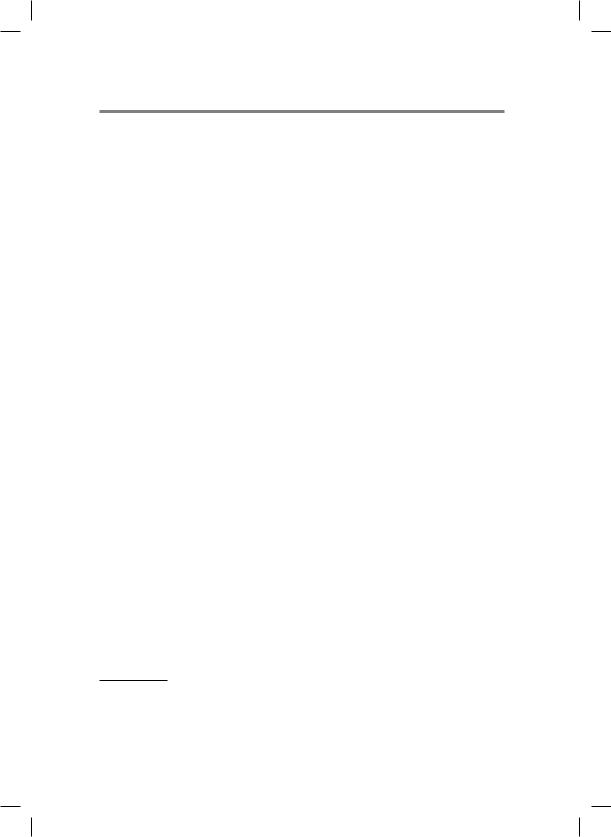
7.1. Генезис права как зарождение равенства в общественных отношениях
а затем государственной). С позиций такого подхода история развития человечества предстает как поступательный прогресс на пути к свободе, существующей в соответствующей политико-правовой форме.
Рассматриваемый нами регион, охватывающий районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, как известно не стал колыбелью права и правовой государственности. Конец первобытного строя, отмечает В. С. Нерсесянц, отнюдь не везде сопровождался возникновением права и государства. Напротив, на большей части обжитого человечеством пространство установились многообразные исторические формы деспотизма, то есть «строя без свободы, без права и без государства, строя, который держится на насилии властвующих (одного деспота или деспотической клики)»1. Формирование права и государства было, скорее, исключением, к числу которых «можно отнести историю возникновения права и государства у древних греков, римлян, германцев, заложивших основы … всего современного понимания того, что есть, собственно говоря, право и государство. Конечно, аристотелевское положение о человеке как по природе своей существе политическом (и правовом) относится ко всем этносам и народам, однако в реальном процессе истории многие из них надолго (а некоторые до сих пор) застряли в силовом поле деспотизма»2.
Исходя из понимания права и государства как «двух взаимосвязанных составных частей единого по своей сущности способа, порядка и формы бытия, признания, выражения и осуществления свободы людей в их социальной жизни»3, В. С. Нерсесянц увязывает появление свободы (свободных индивидов) в процессе разложения первобытнообщинного строя с дифференциацией его членов на свободных и рабов. Свобода появляется в социальной жизни одновременно со своей противоположностью — с несвободой,
1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 234. 2 Там же.
3 Там же. С. 233.
469
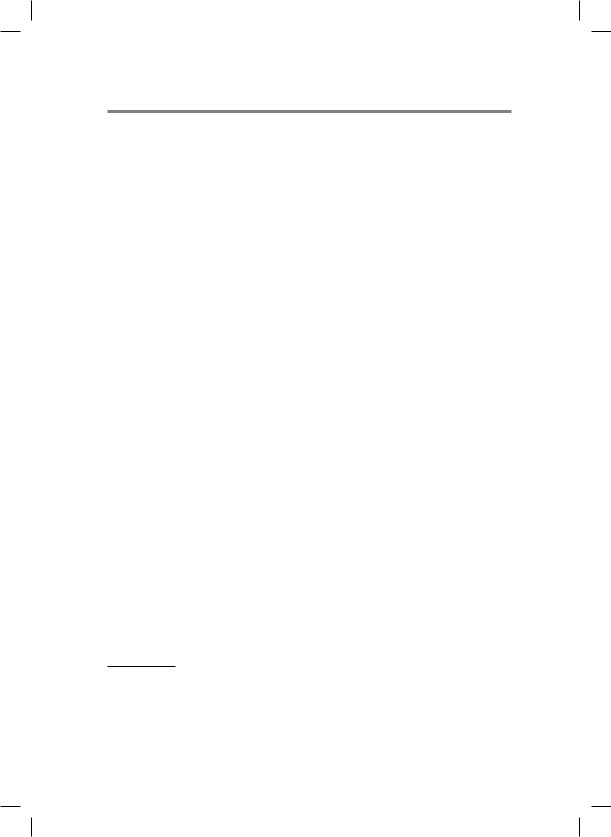
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
носителями которой выступали рабы. Именно наличие социально значимой группы свободных индивидов в их принципиальной противоположности к несвободным (рабам) является, по его мнению, необходимым условием возникновения права и государства как форм свободы1. Последующий всемирно-исторический прогресс свободы (от рабства к феодализму и капитализму, а затем и к постсоциалистическому и посткапиталистическому цивилизму) предстает у него как прогресс правовых и государственных форм бытия, закрепления и осуществления этой свободы.
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Внастоящее время к одним из наиболее актуальных направлений развития современной российской юриспруденции является разработка доктрины критериев ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Речь идет о конституцион- но-правовой доктрине, обеспечивающей концептуальную стыковку идей и конструкций общей теории прав человека с нормами Конституции РФ и прежде всего — с нормами, определяющими критерии законодательного ограничения основных прав и свобод. Проблема определения конституционных критериев ограничения прав человека — это важнейший аспект более широкой проблематики, связанной с выработкой теоретических критериев разграничения права как сферы индивидуальной свободы от властного произвола, облеченного в форму закона. О ее значении для современного правосудия говорит уже тот факт, что теме критериев ограничения прав человека был посвящен состоявшийся в мае 2005 г. ХIII
Конгресс Конференции европейских конституционных судов2,
1 Там же. С. 235.
2 См.: Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Ереван, 2005. Обзор некоторых высказанных здесь точек зрения см.: Пчелинцев С. Нормы международного
470
