
10027
.pdf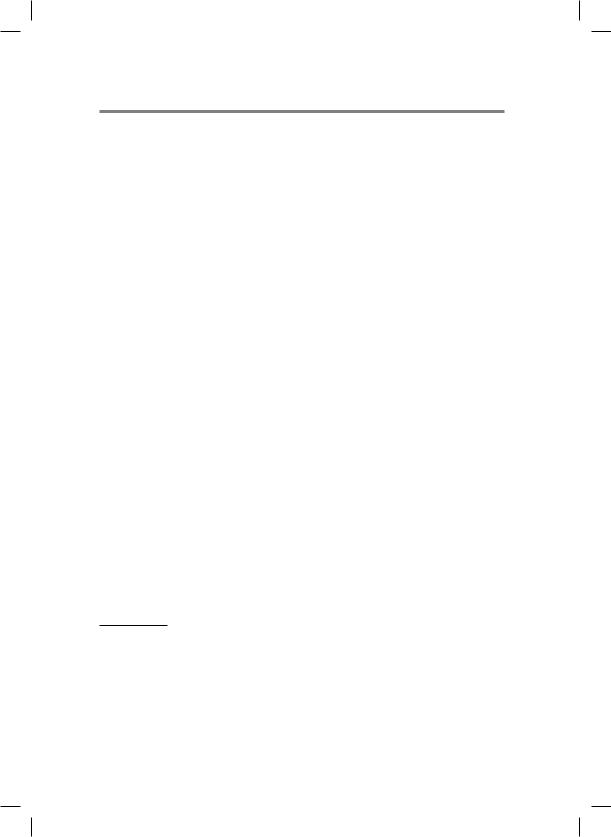
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
по поводу ограничения прав человека действиями государственных властей строится по схеме, включающей в себя следующие вопросыкритерии, ответы на которые обязательны для обоснования решения по делу1: 1) было ли вмешательство властей в осуществление гарантированного Конвенцией права предусмотрено законом; 2) преследовало ли данное вмешательство правомерную цель; 3) были ли действия властей необходимыми в демократическом обществе в данных конкретных обстоятельствах; 4) были ли эти действия соразмерны обстоятельства дела. При этом, как отмечает В. А. Туманов, если формулы «предусмотрено законом» и «необходимо в демократическом обществе» содержатся в тексте Конвенции, а формула «преследовало правомерную цель» логически легко выводится из нее, то требование соразмерности (пропорциональности) в значительной мере является результатом творчества самого Суда2.
На мой взгляд, введенное Европейским Судом требование соразмерности ограничений прав человека обстоятельствам дела — это своего рода суррогат принципа формального равенства, ориентация на который служит для Суда важной дополнительной гарантией против произвольных решений. Ведь если обстоятельства дела, требующие ограничения того или иного права человека, рассматривать в правовой плоскости, то эти обстоятельства должны быть представлены в виде других право человека, которые могут быть нарушены, если данное право не будет должным образом ограничено. Поскольку в Европейской конвенции (в отличие от Конституции РФ) нет нормы, прямо закрепляющей принцип формального равенства, то Европейский суд вынужден был проявить здесь творческую активность. Однако такая активность Суда не означает
1 См.: Туманов В. А. Избранное. М., 2011. С. 689.
2 Кроме того, понимая, что данные критерии допускают достаточно произвольное толкование, Европейский Суд сформулировал и некоторые прак- тико-прикладные установки, наиболее принципиальной из которых является правило о том, что, «когда встает вопрос об установленных Конвенцией ограничениях в осуществлении гарантируемых ею прав, такие ограничения должны толковаться ограничительно» (Там же. С. 690).
501
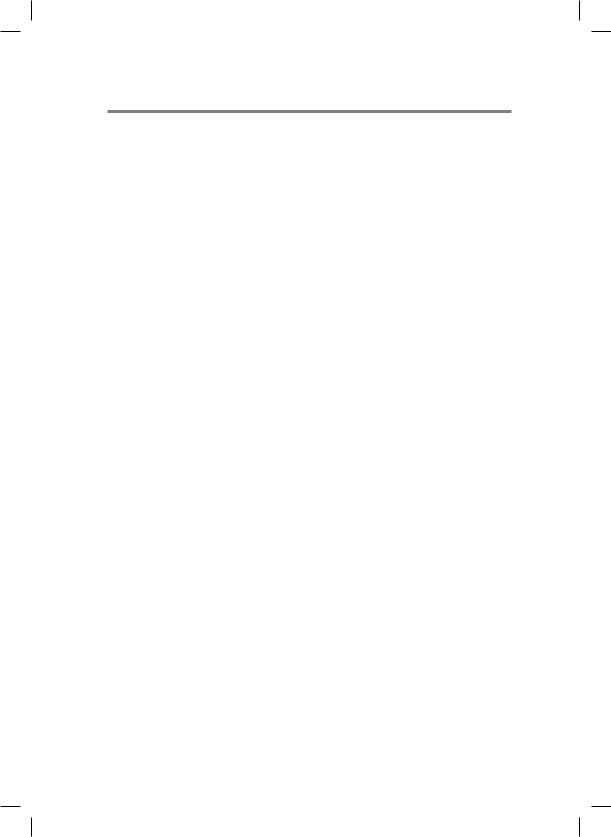
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
выход за рамки положений Европейской конвенции, поскольку (как следует из ее Преамбулы) правительства, подписавшие Конвенцию в 1950 г., принимали во внимание Всеобщую декларацию прав человека, в которой принцип правового равенства получил закрепление в ст. 1, где предусмотрено: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Кроме того, хотя Европейский Суд при выработке своих правовых позиций опирается прежде всего на естественно-правовую доктрину, не раскрывающую сущность права через принцип формального равенства, тем не менее укоренившаяся в западной правовой теории и практике человекоцентристская традиция либерализма прочно удерживает Суд в поле тяготения правового принципа равенства в деле защиты прав человека. Поэтому и Европейский Суд по правам человека, и национальные судебные системы демократически развитых стран могут эффективно защищать права человека без опоры на либер- тарно-юридическую концепцию правопонимания.
Однако для России с ее традицией властного подавления личности нужен такой тип правопонимания, который наиболее последовательно отстаивает человекоцентристскую модель правовой системы. В этих условиях доктрина защиты прав человека, основанная на либертарно-юридическом правопонимании, могла бы стать важным фактором укрепления правопорядка, обеспечения надлежащей защиты прав и свобод человека и гражданина. В контексте нашего анализа особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что либертарно-юридическая теория права в большей мере, нежели естественно-правовой подход, соответствует правопониманию, положенному в основу Конституции РФ. На первый взгляд (особенно с учетом положения ч. 2 ст. 17 о прирожденном и неотчуждаемом характере прав человека), может показаться, что теоретико-мето- дологическую основу Конституции РФ составляет доктрина юснатурализма. Между тем в Конституции РФ есть принципиально важное положение, позволяющее расширить теоретико-методоло- гические рамки конституционного правопонимания и преодолеть
502
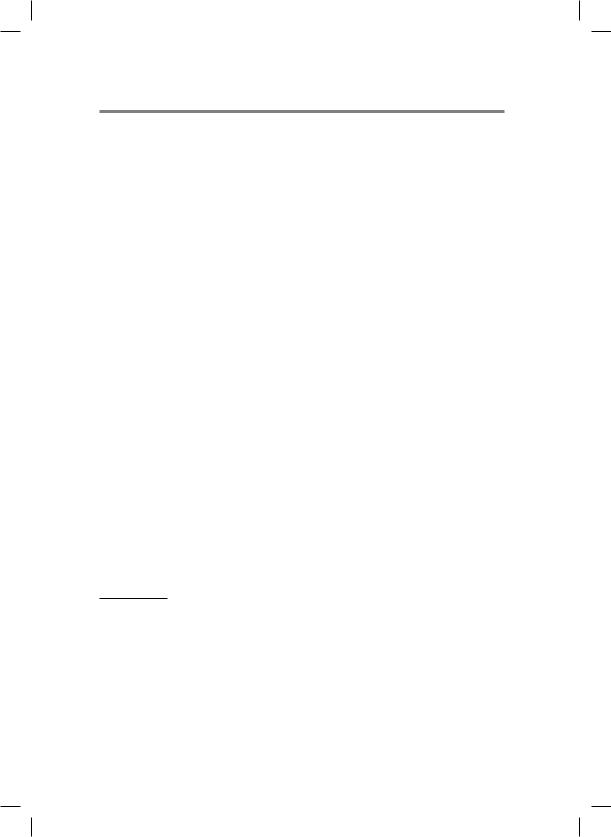
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
дефект юснатурализма, связанный с отсутствием в рамках данного подхода сущностного критерия права. Речь идет об упомянутой ранее ч. 3 ст. 17, в которой специально оговаривается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц1. Сформулированный здесь принцип формального правового равенства задает границы взаимосогласованного бытия различных прав и свобод, «определяет … их пределы, рамки их всеобщего признания и реализации»2, выход за которые означает выход за рамки права.
Конституционно-правовой конкретизацией этого принципа правового равенства, задающего пределы осуществления прав человека, являются содержащиеся в Конституции РФ дополнительные гарантии против злоупотребления правами человека (то есть против использования этих прав в ущерб правам других лиц и ценностям общего блага, являющимся необходимым условием осуществления прав человека), которые прямо или косвенно закреплены в целом ряде конституционных положений. Наиболее четко они сформулированы в ч. 5 ст. 13, в ч. 2 ст. 29 и в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, предусматривающих соответствующие запреты. Косвенным образом конституционные границы осуществления прав и свобод вводятся в тех случаях, когда конституционный законодатель говорит о том, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия (ст. 31), что владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде (ч. 2 ст. 36) и т.п. При этом важно отметить, что подобные
1 Нересянц В. С. Философия права. «Эта оговорка, — пишет В. С. Нерсесянц, — наглядно демонстрирует как коренные недостатки юснатурализма (в силу отсутствия у него концепции правого закона и т.д.) в качестве основы для надлежащего позитивного права, так и необходимость формализованного сущностно-правового критерия (принципа формального равенства) для оценки нормативно-правового значения естественноправовых положений о правах человека и стыковки естественного и позитивного права (приведения их к общему сущностно-правовому знаменателю)». (Там же. С. 26).
2 Там же. С. 462.
503
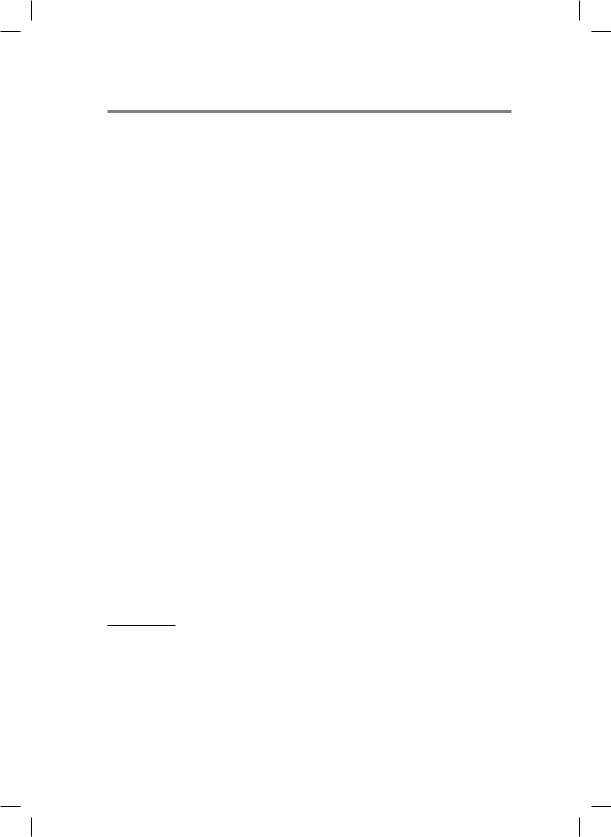
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
гарантии против злоупотребления правами человека одновременно содержат и гарантии против произвола законодателя, который не должен предъявлять к субъектам права какие-либо дополнительные требования. Так, федеральный закон не может запрещать политические партии лишь на основании того, что их деятельность нацелена на изменение основ конституционного строя, потому что
вч. 5 ст. 13 Конституции РФ, содержащей указание на пределы осуществления права на создание и деятельность общественных объединений, сказано только о насильственном изменении этих основ. Более того, федеральный закон не может вводить запрет на создание и деятельность общественных объединений по каким-то иным основаниям, кроме тех, которые указаны в данной норме.
Последний момент требует пояснений, которые лучше всего сделать на конкретном примере. В качестве такого примера я рассмотрю законодательный запрет на создание и деятельность региональных политических партий1 и решение Конституционного Суда РФ по данному вопросу, который был поднят в жалобе Балтийской республиканской партии2. Конституционный Суд, признавший конституционность такого запрета, обосновывал свою позицию ссылками на ч. 3 ст. 55, рассматривая запрет региональных партий как ограничение права на политическое объединение. Правда, Суд упомянул мимоходом и содержание ч. 5 ст. 13, не сославшись при этом на саму норму. Это было сделано
вконтексте следующей фразы: «Между тем в современных условиях, когда российское общество еще не приобрело прочный опыт демократического существования, при том что имеют место серьезные вызовы со стороны сепаратистских, националистических,
1 См.: Комментарий к Федеральному закону о политических партиях / Под ред. В. В. Лапаевай. М. 2001. С. 17, 18.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. по делу
о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой общественно-политической организации «Балтийская республиканская партия» // Российская газета. 2005. 8 февраля.
504
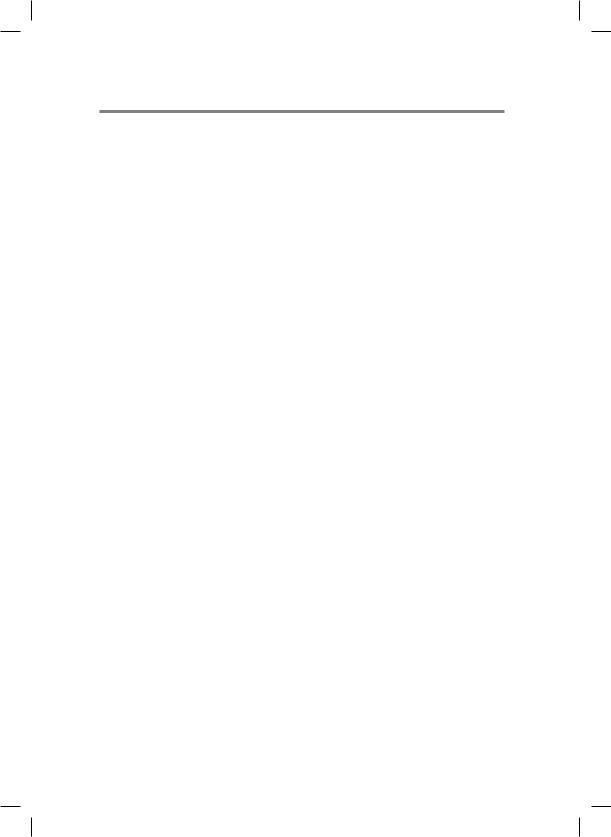
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
террористических сил (курсив мой. — В. Л.), создание региональных политических партий — поскольку они стремились бы к отстаиванию преимущественно своих, сугубо региональных и местных, интересов — могло бы привести к нарушению государственной целостности и единства системы государственной власти как основ федеративного устройства России» (п. 3.2 мотивировочной части Постановления). Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что Суд соединил в одном тезисе два разных способа конституционного определения границ осуществления прав человека: ограничение этих прав для защиты основ конституционного строя путем введения ограничений на процессы создания и деятельности политических партий (что предусмотрено ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) и лишение права на занятие экстремистской деятельностью путем запрета объединений, «цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни» (ч. 5 ст. 13).
Причем, Суд даже не пояснил, что именно он имеет в виду, когда говорит о «вызовах со стороны сепаратистских, националистических, террористических сил»: идет ли речь о том, что цели или действия региональных партий «направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований», или Суд опасается возможности «разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Если Суд полагал, что само по себе наличие региональных партий чревато насильственным изменение основ конституционного строя и насильственным нарушением государственной целостности, то это предположение надо было обосновать. Если имелась в виду возможность использования права на региональное объединение для разжигания национальной
505
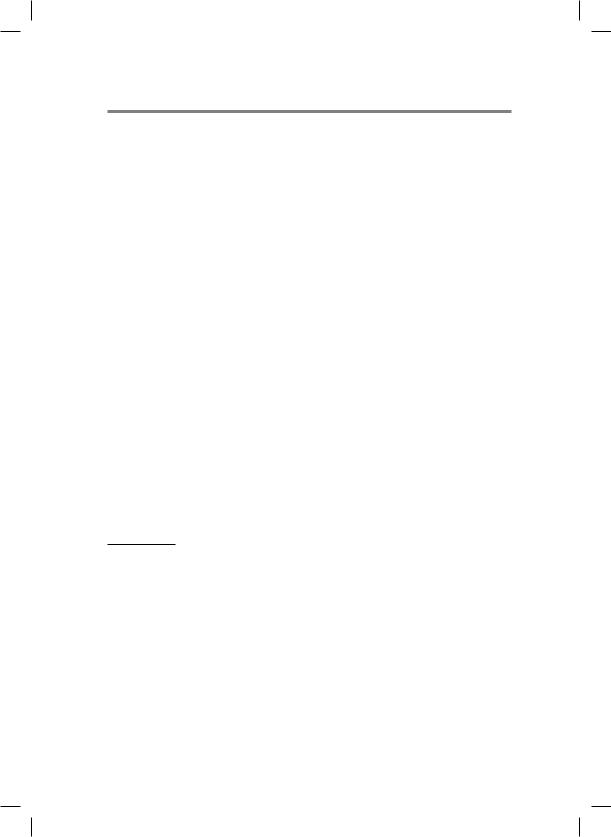
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
ирелигиозной розни, то необходимой и достаточной страховкой от подобного развития событий является содержащийся в законе о партиях запрет на создание политических партий по наци- онально-этническому и религиозному признакам. Нет никаких правовых оснований для того, чтобы запрещать, например, ка- кую-нибудь Башкирскую партию зеленых или Тверскую социалдемократическую партию, идеология и практика которых ориентированы на решение задач региональной и общенациональной политики путем участие в региональных выборах и деятельности региональных представительных органов, только потому, что могут быть региональные партии, стоящие на позициях сепаратизма. Кстати, само по себе наличие региональных выборов и региональных парламентов — это более чем достаточное основание не только правомерности, но и необходимости региональных партий как субъектов политического процесса, осуществляемого в рамках федеративного государства.
Очень показательно, что Суд, намекнув на то, что наличие в политической системе страны региональных партий чревато разного рода проявлениями экстремистской деятельности, не стал (в отличие от принятого им годом ранее решения по аналогичному вопросу, связанному с запретом партий, создаваемых по национальному
ирелигиозному признакам1) развивать этот тезис, сконцентри-
1 В своем Постановлении по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 9 Федерального закона «О политических партиях» по жалобе «Православной партии России» Конституционный Суд не только неоднократно ссылался на положения ч. 5 ст. 13, но именно на этих положениях он и основывал свою правовую позицию. «…В условиях сохраняющейся напряженности межэтнических
имежконфессиональных отношений, а также возрастающих политических пре-
тензий со стороны современного религиозного фундаментализма, когда привнесение в сферу политики (а значит, в сферу борьбы за власть) дифференциации по религиозному признаку, которая может приобрести и национальный оттенок, чревато расколом общества на национально-религиозные составляющие (в частности, на славянско-христианскую и тюркско-мусульманскую), — говорится, в частности, в п. 4.1 мотивировочной части Постановления Суда, — введение Федеральным законом «О политических партиях» запрета на создание поли-
506
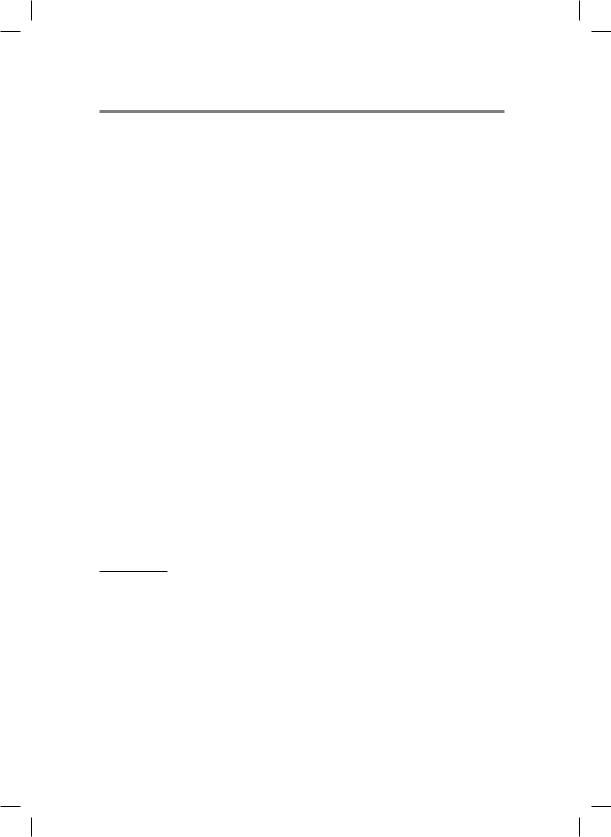
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
ровавшись на обосновании правомерности ограничения права на объединение в смысле ч. 3 ст. 55. Между тем применительно к региональным партиям речь шла не об ограничении их деятельности,
аименно о запрете: ведь такие организации ранее уже были созданы, они действовали и вынуждены были прекратить свою деятельность после принятии ФЗ «О политических партиях». Что же это, как не запрет на деятельность? Но основания для запрета политической партии закреплены вовсе не в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,
ав ч. 5 ст. 13.
Любопытно, что Б. С. Эбзеев, справедливо обративший внимание на наличие в Конституции РФ таких разных способов конституционного регламентирования права на объединение, как ограничение и запрет, сделал это вовсе не в связи в решением Конституционного Суда, когда подобные выводы явно напрашивались, а в контексте критики решения Европейского Суда по делу «Республиканская партия России против России». Объектом его критического внимания стали, в частности, те фрагменты Постановления Европейского Суда1, в которых Суд касается запрета региональных партий.
При рассмотрении жалобы Республиканской парии по поводу ее ликвидации на основании отсутствия у нее 49 региональных отделений с численностью не менее 500 членов, Европейский Суд вышел на проблему запрета российских региональный партий в связи с тем, что сторона-ответчик ссылалась на Постановления Конституционного Суда РФ по жалобе этой же партии, в котором
тических партий по национальному или религиозному признаку соответствует аутентичному смыслу статей 13 и 14 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 19 (части 1 и 2), 28 и 29 и является надлежащей конкретизацией содержащихся в них положений» (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 18-П по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации «Православная партия России» и граждан И. В. Артемова и Д. А. Савина город Москва // Режим доступа: rg.ru›2004/12/24/partii-ks-dok).
1 Там же.
507
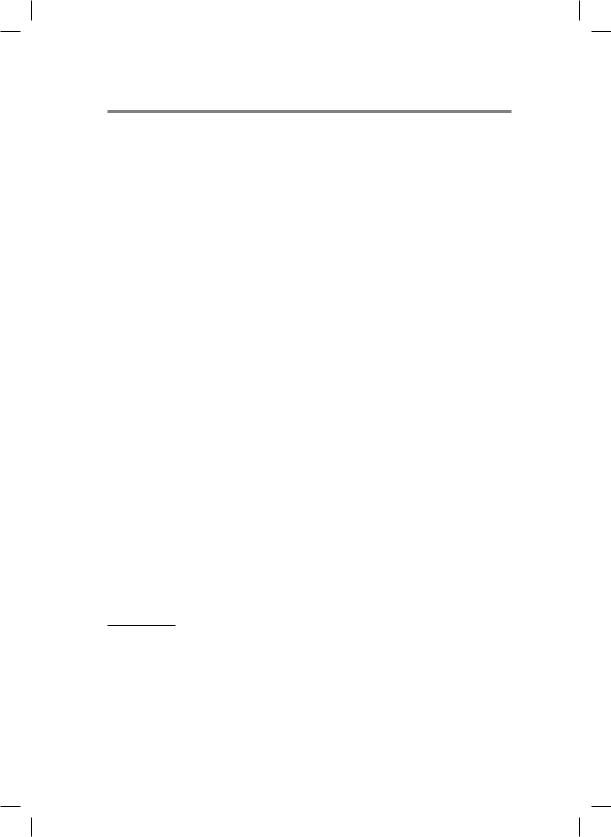
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
данная мера обосновывалась тем, что создание региональных партий «могло бы привести к нарушению государственной целостности и единства системы государственной власти как основ федеративного устройства России». По этому поводу Европейский Суд отметил, что «существуют меры для защиты законов, институтов и национальной безопасности России, кроме решительного запрещения региональных партий»1. Затем Европейский Суд, опираясь на содержание п. 2 ст. 11 Европейской конвенции, подчеркнул, что «санкции, включая наиболее серьезные случае ликвидации, могут налагаться на те политические партии, которые применяют незаконные или недемократические методы, подстрекают к насилию или выдвигают политику, которая нацелена на разрушение демократии и пренебрегает правами и свободами, признанными в демократии. Такие санкции связаны с выявлением реальной угрозы национальным интересам, в частности, с фактами, основанными на конкретной информации, а не осуществлением действий лишь на том предположении, что все региональные партии представляют угрозу национальной безопасности» (п. 129 мотивировочной части Постановления). Настоящее дело, говорится далее, «является примером возможности существования нарушений, связанных с беспорядочным запрещением региональных партий, которое, более того, основано на расчете количества региональных отделений партий. Заявитель, всероссийская политическая партия, которая никогда не отстаивала региональные интересы или сепаратистских взглядов, чей устав четко указывал, что одной из целей являлось обеспечение единства страны и мирное сосуществование ее многонационального населения, и которая никогда не обвинялась в каких-либо
1 Кстати, Европейский Суд даже не стал обращать внимание на то обстоятельство, что запрет региональных партий обоснован гипотетической возможностью соответствующих нарушений. А ведь региональные партии не просто могли быть созданы, как сказано в Постановлении Конституционного Суд, они уже действовали в течение ряда лет, что никак не позволяло ограничиваться гипотезами, а предполагало необходимость приведения конкретных фактов нарушений со стороны региональных партий.
508
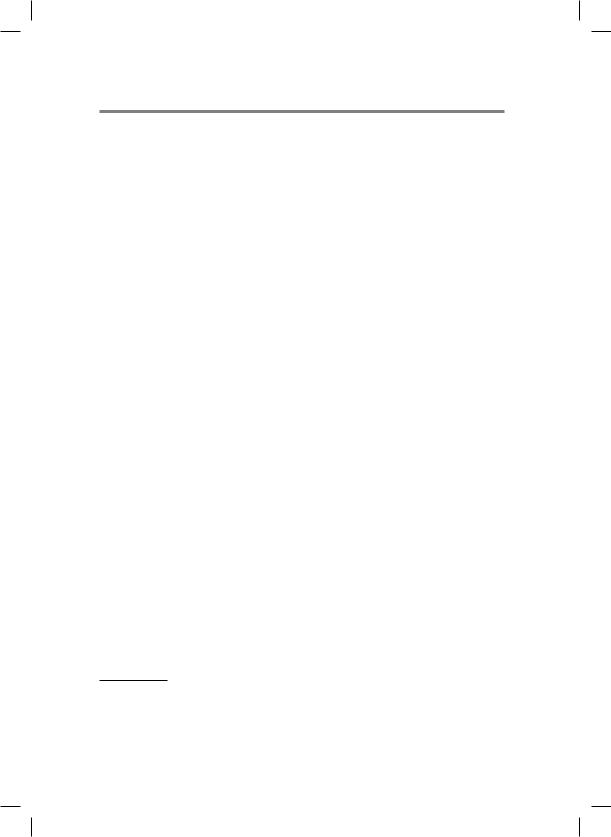
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
попытках подорвать территориальную целостность России, была ликвидирована только на том формальном основании о том, что она не имела достаточного количества региональных отделений. При данных обстоятельствах Суд не понимает, каким образом ликвидация заявителя обеспечила достижение одной из целей, указанных Властями, в частности, предотвращение беспорядков или защита национальной безопасности или прав других лиц» (п. 130 мотивировочной части Постановления).
В контексте нашего анализа представляют интерес те возражения против рассматриваемых положений Постановления Европейского Суда, которые приводит Б. С. Эбзеев. «Итак, — иронизирует автор, — ЕСПЧ «не понимает». По-видимому, именно этим объясняется то, что он отождествил два различных института российского права — запрет политической партии, который действительно служит указанным в части 5 ст. 13 Основного закона России и части 2 ст. 11 Конвенции 1950 года целям, и ликвидацию политической партии, которая в части количественных критериев ее создания
идеятельности никак этими целями не обусловлена. Словом, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Произошла не только подмена понятий, но обозначаемых ими явлений правовой действительности, что во многом предопределило содержание комментируемого решения
ивызвало недоумение юридической общественности, привыкшей с доверием относиться к решениям ЕСПЧ»1. Между тем никакой подмены понятий здесь нет. Европейский Суд говорит о том, что запрет региональных партий не имеет под собой достаточных правовых оснований, поскольку указанные Конституционным Судом РФ цели такого запрета — обеспечение единства страны и мирное сосуществование ее многонационального населения — могут быть достигнуты иными путями. При этом Европейский Суд исходит из положения п. 2 ст. 11 Европейской конвенции, согласно которому
1 Эбзеев Б. С. Решение ЕСПЧ по делу «Республиканская партия России против России», или Утраченные иллюзии // Журнал заруб. законодательства
исравнит. правоведения. 2011. № 4. С. 45.
509
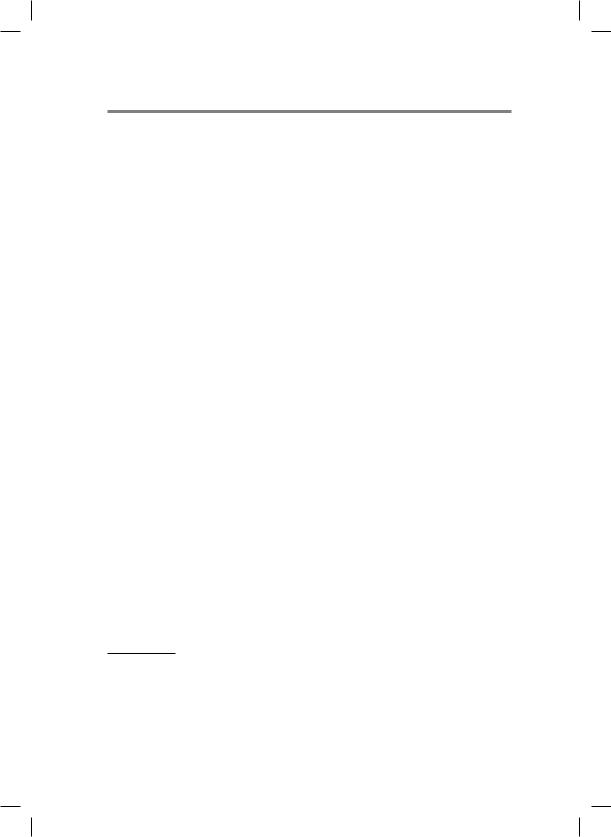
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
осуществление права на свободу ассоциации «не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц».
Единственная претензия к предложенной Европейским Судом аргументации может быть связана лишь с тем, что он не стал вдаваться в тонкости толкования российской Конституции и не обратил внимания на то, что в ней такие способы конституционного регламентирования права на объединение, как ограничение права на объединение и запрет на создание и деятельность объединений, разведены по разным статьям (в отличие от Европейской Конвенции, где по смыслу п. 2 ст. 11 понятие «ограничение права на свободу ассоциации» включает в себя и запрет на ассоциацию1). Однако Европейский Суд, как известно, ориентируется только на Конвенцию и не стремится указывать национальным судам, как им следует толковать свои конституции.
Очевидно, что подобная претензия была бы гораздо более уместна по отношению к Конституционному Суду РФ, который не учел, что в российской Конституции основания запрета партии даны не в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, на которую он ссылался в связи с запретом региональных партий, а в ч. 5 ст. 13, согласно которой «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
1 Правовой смысл п. 2 ст. 11 Европейской Конвенции вовсе не ограничивается, как полагает Б. С. Эбзеев, возможностью запрета объединения в том смысле, в каком это закреплено в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, а включает в себя также и возможность ограничения права на объединение в смысле ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
510
