
10027
.pdf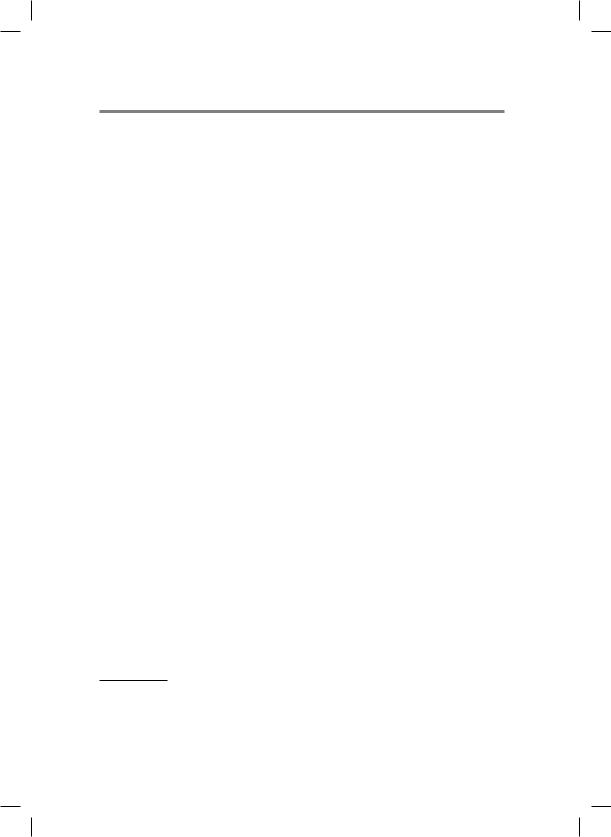
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
В критике трансцендентальной идеи права (то есть абстрактной идеи, выражающей сущностный принцип права) обнаруживается эмпиризм авторской концепции правопонимания. Подобный подход, отрицающей наличие у права сущностного начала, которое может быть выявлено лишь на уровне теоретической абстракции, был распространен в России конца ХIХ — начала ХХ в. Однако уже тогда он был подвергнут аргументированной критике. Можно сослаться в частности, на позицию И. В. Михайловского, который в данной связи отмечал, что путем эмпирического изучения «исторически действующего юридического материала»1 можно в лучшем случае выявить лишь «сущность данного правопорядка. Но … для того, чтобы подвергнуть этот правопорядок принципиальной оценке, мы должны … обладать критериями, не зависящими от него, взятыми из другой области, мы должны знать, насколько сущность этого правопорядка соответствует абсолютной идее права, лежащей в основе всякого правопорядка»2.
Впрочем, создается впечатление, что В. И. Зорькин и сам не вполне удовлетворен теоретическим потенциалом концепции естественного права. Показательно, что он неоднократно определяет право как норму и меру свободы, характеризует Конституцию как математику свободы и, наконец, присоединяется к формуле «право — это математика свободы». Но если все эти высказывания воспринимать не как образные выражения, а как квинтэссенцию соответствующей теоретической позиции, то надо признать, что речь идет о либертарной концепции правопонимания, разработанной академиком В. С. Нерсесянцем, в том числе и в монографии, которая так и называется — «Право — математика свободы» (М., 1996). Согласно данному подходу, принцип формального равенства — это тот абстрактный, идеальный, трансцендентальный критерий, ко-
1 Здесь приводится цитата из работы Ященко А.О. «Теория федерализма» (СПб., 1912).
2 Русская философии права. С. 314, 315.
371
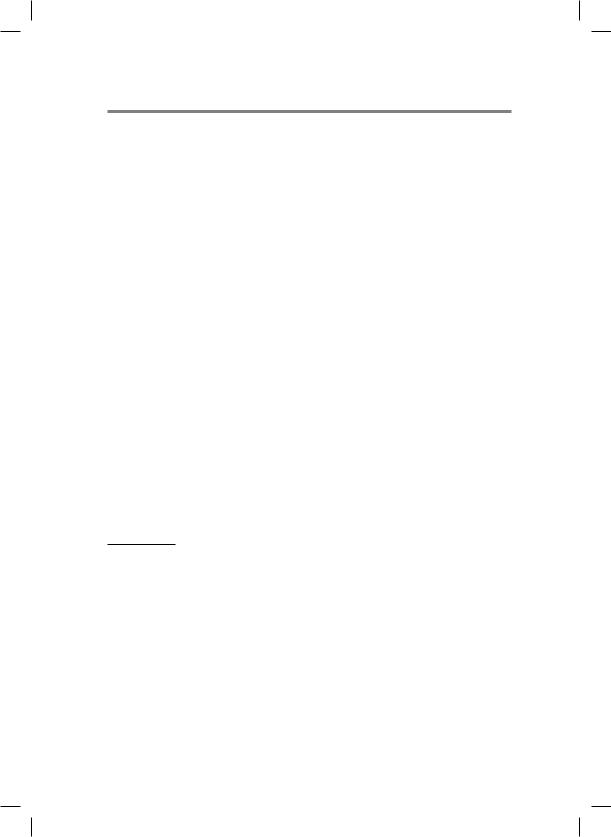
Глава 6. Правопонимание в России
торый позволяет оценивать правовое качество законодательства1
иправоприменительной деятельности. Показательно, кстати, что В. Д. Зорькин сам признает, что свобода вырождается в произвол, если она не ограничена «внутренним убеждением трансцендентального типа»2, а это, по сути дела, означает его согласие с тем, что есть некая высшая ценность, соответствие которой и обеспечивает правовую свободу в отношениях между людьми. Но тогда надо сделать следующий шаг и сформулировать эту ценность как принцип права или присоединиться к концепции, которая данный принцип формулирует.
По поводу места и значения либертарной теории права в формировании нового постсоветского правоведения можно сказать, что в настоящее время она (благодаря усилиям автора, изложившего ее в многочисленных статьях, в монографиях, а также в разошедшихся большим тиражом учебниках по теории и философии права, по истории политических и правовых учений) стала фактом отечественной научной жизни, с которым нельзя не считаться. При этом критика либертарного правопонимания заметно поутихла, а главное, поменяла свою направленность. Сейчас уже мало кто говорит, что такой подход к пониманию праву подрывает законность, отрицает роль государства, очерняет социальную практику и т.п. Однако в целом можно сказать, что пока что либертарно-юридической
1 Вне такой оценки правового качества закона нельзя, в частности, говорить о «равенстве перед лицом закона» как о главном «свойстве западной жизни»
и«единственном виде абсолютного равенства, совместимом с рынком и поли-
тической демократией» (С. 211). Дело в том, что само по себе равенство перед законом означает лишь применение закона в равной мере ко всем его адресатам без исключения. В отличие от этого равноправие как сущностная характеристика правового демократического общества «есть равенство перед правовым, справедливым законом. Если закон — правонарушающий, противоречащий принципу права, нарушающий равноправие, то и равенство перед таким законом есть нарушение равноправия» (Четвернин В. А. Российская конституционная концепция правопонимания // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2004 № 4).
2 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в. Взгляд с Ильинки. С. 322.
372
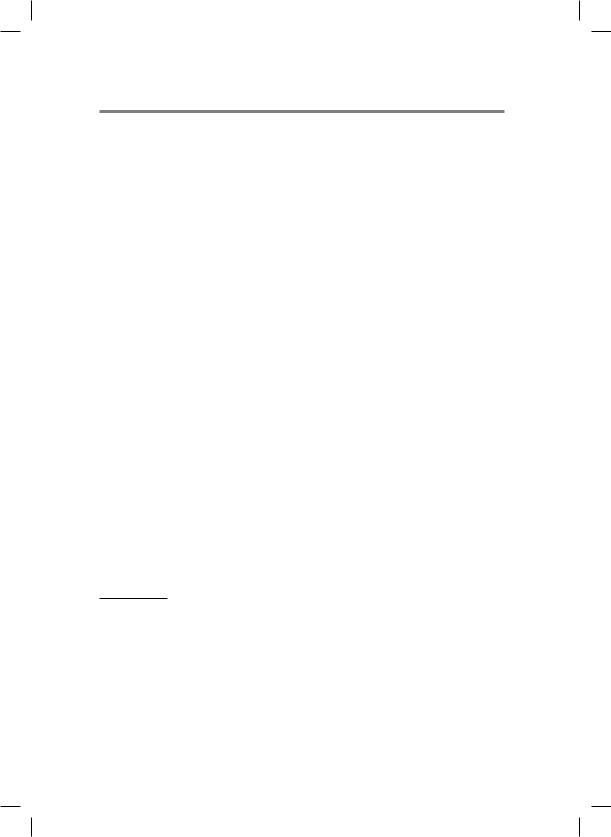
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
концепции В. С. Нерсесянца больше «везет на упоминание, чем на понимание»1. Да и упоминание либертарной теории и имени ее автора встречается гораздо реже, чем следовало бы по соображениям этики обращения с чужими идеями и текстами. Признание либертарного правопонимания заключается, главным образом, в том, что его опорные положения без ссылок на авторство В. С. Нерсесянца «гуляют» по страницам работ, написанных зачастую совсем с иных позиций. Причем, нередко эти положения приписываются кому-то из классиков (так, формула В. С. Нерсесянца «право — это мера свободы» часто цитируется как гегелевское высказывание, а авторство тезиса «право — математика свободы» отдается Спинозе). Особенно популярным является тезис о праве как равной мере и форме свободы. Его используют даже некоторые авторы, придерживающиеся легистского правопонимания2. Тем более это относится к сторонникам естественно-правового, интегративного или социологического подходов к праву.
Так, Л. С. Явич, рассуждая о том, что «растет социальная роль права как сферы свободы и как минимума нравственности, как аккумулятора достижений разума, культуры, просвещения в вековечном стремлении народов к миру, свободе, справедливости, равенству», приходит к выводу, что «право — равная мера свободы (курсив мой. — В. Л.), в конечном счете, зависимая от поступательного движения истории»3. Между тем право как минимум нравственности (в этом тезисе, как известно, выражена суть позиции Г. Еллинека
иВ.С.Соловьева)иправокакмерасвободы(аэтоужеквинтэссенция
1 Графский В. Г. Интегральная (общая синтезированная) юриспруденция как теоретическое и практические знание / Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 159.
2 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2007. С. 369.; Оксамыт-
ный В. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 342; Матузов Н. И. Указ.соч. С. 40–64, 81, 82.
3 Явич Л. С. О философии права на ХХI век // Изв. вузов. Правоведение. 2000. № 4. С. 5.
373
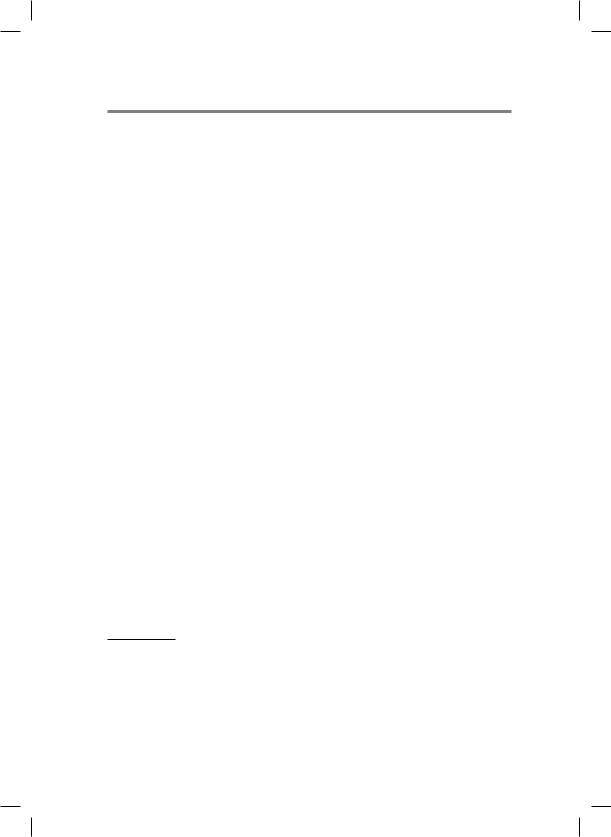
Глава 6. Правопонимание в России
концепции В. С. Нерсесянца) представляют собой две принципиально разные теоретические конструкции, в рамках которых по-разно- му трактуются и увязываются между собой упомянутые Л. С. Явичем понятия «свободы, справедливости и равенства». В этой связи уместно вспомнить, что Б. Н. Чичерин, возражая против трактовки права как минимума нравственности, говорил о том, что нравственность — эта сфера безграничного совершенства, в которой невозможно вычленить какой-либо минимум, опираясь на объективные критерии. «Разве безусловное, — говорил он, — делится на кусочки и преподносится маленькими дозами, в виде гомеопатического лекарства …? Минимум есть количественное определение, которое, по самому своему свойству, может увеличиваться и уменьшаться по произволу. … И что такое этот минимум с точки зрения совершенно нравственной?»1. Именно практическая невозможность определить границы минимального добра, Ященконевозможность найти меру свободы, делает неизбежным властный произвол в этой сфере и обнаруживает несовместимость трактовки права одновременно и как минимума нравственности, и как меры свободы.
О праве как мере свободы и справедливости говорит и В. М. Шафиров, не поясняя правда, как и кем определяется эта мера, и ограничиваясь лишь утверждением о том, что «наиболее адекватным и полным юридическим выражением свободы являются права человека»2.
С иных позиций использует эту характеристику права А. В. Поляков, когда рассматривает права человека как принадлежащие «субъекту, притязающему на определенную меру свободного социального поведения (курсив мой. — В. Л.), обеспеченного обязанным поведением других субъектов»3. Поскольку право у него — это
1 Чичерин Б. Н. О началах этики / Чичерин Б. Н. Избр. тр. СПб., 1998. С. 491.
2Занина М. А. Теоретические и практические проблемы правопонимания.
С.100.
3 Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека / Право и общество: от конфликта к консенсусу. СПб., 2004. С. 318.
374
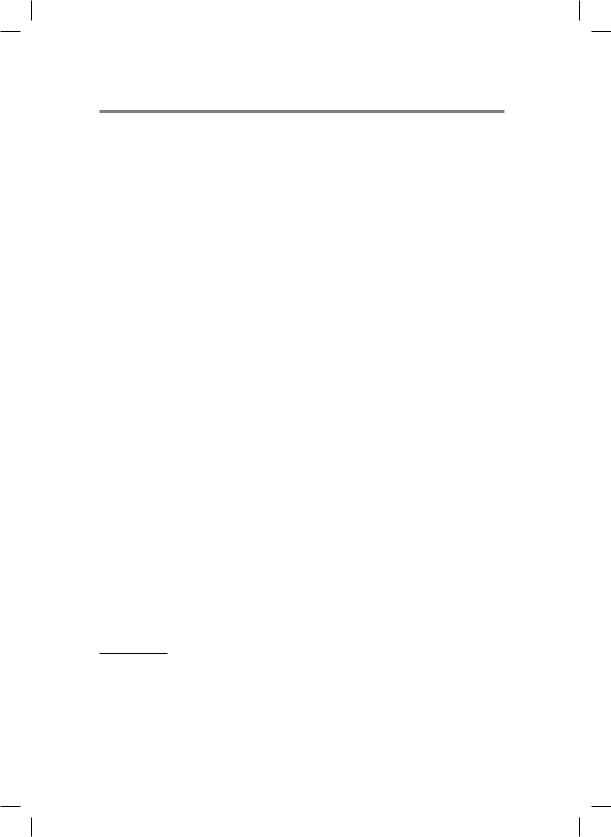
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
нормы, отвечающие представлениям общества о справедливости, то «право … всегда несовершенно и и несправедливо (курсив мой. — В. Л.), насколько несовершенно и несправедливо само общество»1. С этих позиций он говорит о том, что в российской традиции «не индивидуалистические права человека выдвигались на первый план, а права в единстве с обязанностями и ответственностью. Права, соединяющие людей в общество, а не противопоставляющие субъектов друг другу и не разъединяющие их, права, предполагающие приоритет моральной обязанности и чувство социального долга — таков “архетипичный” идеал русской правовой культуры»2. Очевидно, что в контексте подобного подхода характеристика права как меры свободы оказывается чуждой, привнесенной из иного смыслового пространства. Там, где моральная обязанность и чувство социального долга доминируют над индивидуальной свободой, уже нет места праву как мере свободы, поскольку право здесь неизбежно будет подавлено безмерностью и безграничностью моральной обязанности и социального долга (такой мерой может быть лишь принцип формального равенства, согласно которому свобода одного субъекта ограничивается свободой другого, формально равного ему субъекта). В этой связи следует отметить, что либертарная концепция, из которой заимствована трактовка права как меры свободы, также исходит из единства прав и обязанностей, но делает это на принципиально иной основе. «Право как мера свободы, — отмечает Н. В. Варламова, — это одновременно и обязанность не выходить за ее пределы. Однако эти пределы определяются не произвольно властью, а свободой других людей в ее противоположности произволу основанному на неограниченной силе»3. То обстоятельство, что у А. В. Полякова выразителем этих доминирующих над
1 Поляков А. В. Общая теория права. С. 498.
2 Поляков А. В. Российская теоретико-правовая мысль: опыт прошлого и перспективы на будущее. С. 88.
3 Варламова Н. В. Учение о правах человека в контексте различенных типов правопонимания / Проблемы понимания права. Саратов, 2007. С. 140.
375
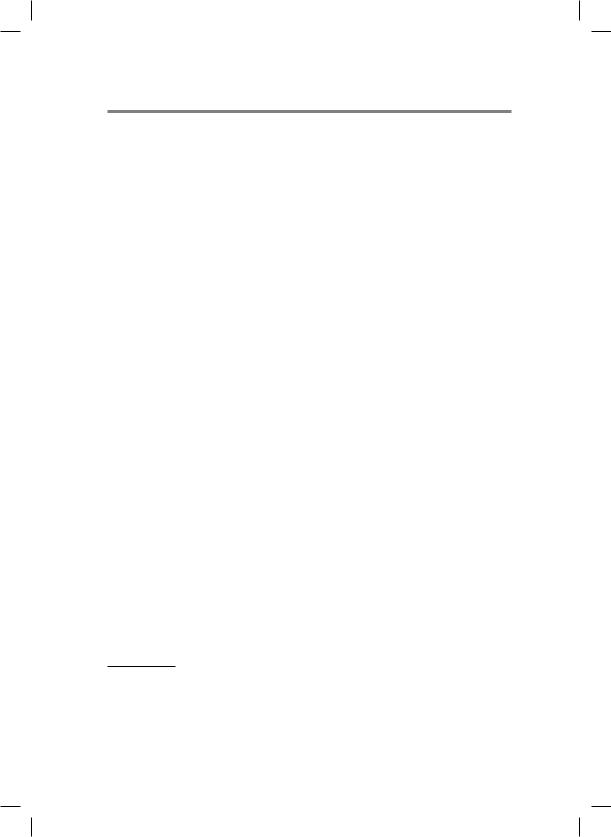
Глава 6. Правопонимание в России
индивидом произвольных начал выступает не государство, а общество, сути дела не меняет.
И даже М. И. Байтин, в целом последовательный сторонник юридического позитивизма легистского образца, считает необходимым и возможным сказать о том, что «право как мера свободы — это и есть мера юридической свободы, эталон правомерного, в границах которого личность свободна»1.
Надо признать, что основополагающие идеи либертарно-юри- дической концепции до сих пор во многом остаются не понятыми не только противниками, но и сторонниками данной концепции.
Вконтексте нашего анализа особый интерес представляют дискуссии в рамках либертарного правопонимания, которые заслуживают специального рассмотрения.
6.3.Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
Внастоящее время наиболее активные сторонники либертарного правопонимания объединяются вокруг заведующего Лабораторией теоретических исследований права и государства НИУ–ВШЭ В. А. Четвернина, усилиями которого поддерживается и развивается либертарная научная школа в российской юриспруденции. На базе лаборатории проводятся ежегодные философско-правовые чтения памяти В. С. Нерсесянца (конференции сторонников юридического либертаризма, на которых обсуждаются направления дальнейшего развития либертарного правопонимания2), издается Ежегодник либертарно-юридической теории, осуществляются на- учно-исследовательские проекты по всем актуальным проблемам современной теоретической юриспруденции как науки о свободе3,
1 Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. С. 143. 2 См.: teoria-prava.ru, а также forum.yurclub.ru.
3В рамках исследовательской деятельности Лаборатории осуществляются,
вчастности, следующие научные проекты: общество и государство (либертар-
376
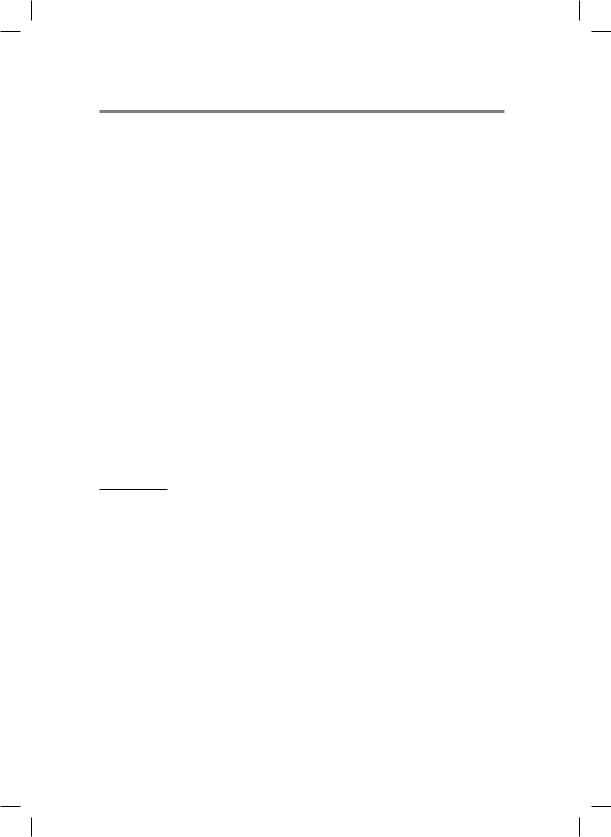
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
а также ведется работа по подготовке нового поколения исследователей, которые, как надеется В. А. Четвернин, «будут определять будущее юридического либертаризма в нашей стране»1.
ОднакохотяВ.А.Четверниниегоединомышленникипозиционируют себя в качестве продолжателей традиций либертарно-юриди- ческого правопонимания В. С. Нерсесянца, в ряде принципиальных моментов они существенно расходятся с его концепцией и тяготеют, скорее, к той версии либертарианства как политико-правового
иэкономического учения, которая развивается Институтом Катона (США)2 и восходит к идеям Л. Мизеса, Ф. Хайека, М. Фридмана
идругих сторонников социально-политической и экономической доктрины неолиберализма. Для приверженцев подобного подхода источником свободы является «невидимая рука рынка», управляющая стихийным (свободным, по их мнению) развитием рыночных отношений и обеспечивающая свободу от принуждения во всех иных сферах общественной жизни. С позиций именно этого подхода (а не либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца) отечественные либертарианцы отрицают правовой характер социальной политики государства3 и, в конечном итоге, возможности
но-юридическая интерпретация); институциональная теория права; юридическая концепция федеративного государства; функции государственных институтов; судебные источники права; «экономический анализ права» с точки зрения теоретической юриспруденции; антимонопольное регулирование как институт перераспределительного государства; либертарно-юридическая теория наказания. См.: Четвернин В. А. Российская либертарно-юридическая школа // Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 152.
1 Там же.
2 Своеобразным манифестом этого направления либертарианства является книга исполнительного вице-президента Института Катона Д.Боуза «Либертарианство. История. Принципы. Политика». Челябинск. 1997.
3 См., напр., Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2001. № 7. С. 5–14; Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003. С. 45–47; Он же. Общество и государство / Феноменология государства: Сб. ст. М., 2003. Вып. 2. С. 32–37; Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2010. С. 588–608; Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание
377
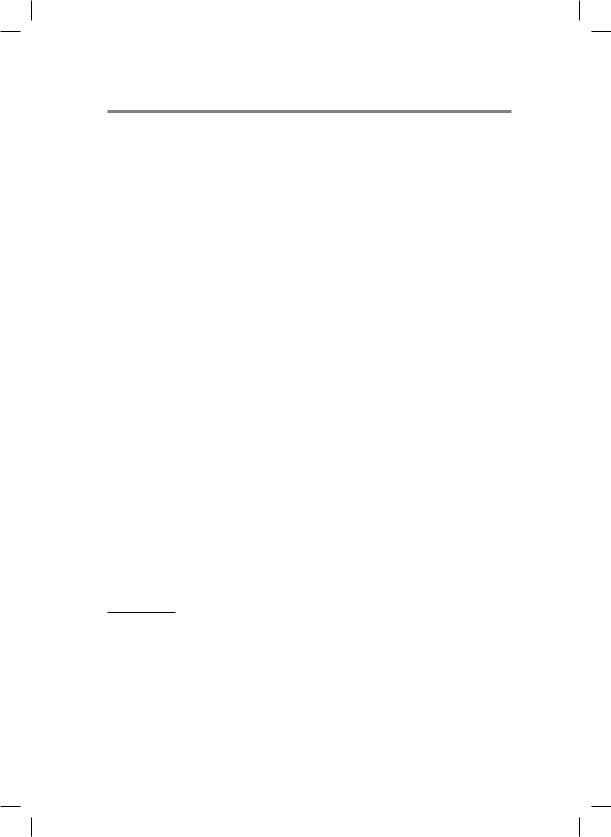
Глава 6. Правопонимание в России
посткапиталистического (постиндустриального) прогресса права и государства.
Данная концепция неолиберализма, занимающая весьма скромную нишу в сложной системе либеральных идейно-политических течений1, получила широкое признание в постсоветском отечественном обществоведении, будучи во многом компенсаторной (и
вэтом смысле, скорее, эмоциональной, чем рациональной) реакцией против прежнего доминирования социалистического принципа фактического равенства, ведущего к потребительской уравниловке. Более того, именно этот доктринальный подход стал одним из основных теоретических ориентиров практики постсоветских преобразований в сфере экономических отношений. Таким образом, из всего многообразия теоретических моделей «строительства» капитализма» Россия выбрала «именно самый крайний из вариантов
внеолиберальной экономике»2.
Вэтом плане очень показательно, что сторонники такой версии либертаризма не признают теоретическую ценность (а уж тем более — практическую значимость) концепции цивилизма, которую сам В. С. Нерсесясянц рассматривал в качестве логического развития своего теоретико-правового подхода и его преломления в область постсоветских социально-экономических и политико-право- вых реалий. Более того, они попросту игнорируют эту концепцию, не включяя ее в свою трактовку либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца. Так, в предисловии ко второму Ежегоднику ли- бертарно-юридической теории В. А. Четвернин по поводу цивилизма ограничивается замечанием о том, что ему представляется
диалектического снятия противоположности метафизических и позитивистских интерпретаций права / Право и общество в эпоху перемен: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2008.
С.39–47.
1 Капустин Б. Г. Глобализм / Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т.2. С. 393–395.
2Козловский В. В., Уткин А. И., Федотова В. Г. Модернизация: от равенства
ксвободе. СПб., 1995. С. 7.
378
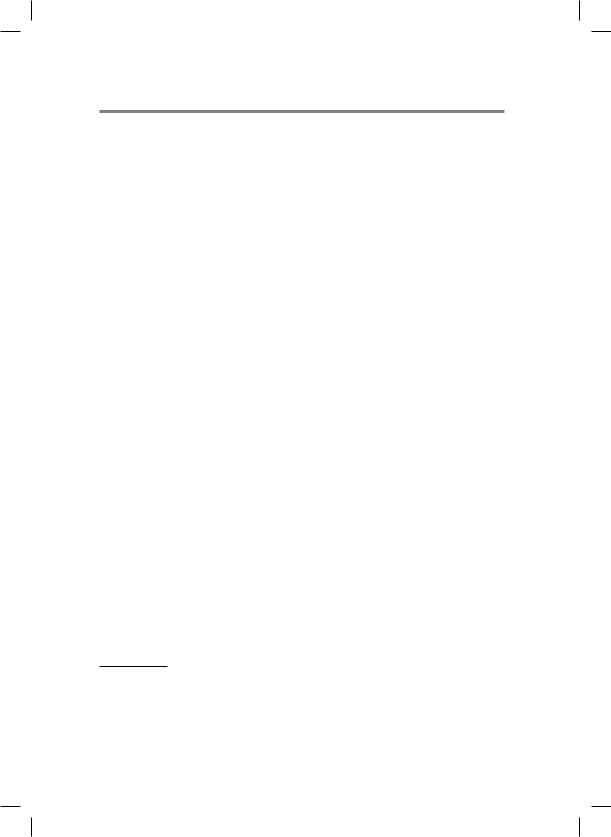
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
«малопродуктивными рассуждения на тему, в какой мере этот концепт соответствует либертаризму. Поскольку такого явления нет, и, очевидно, ничто его не предвещает, — резюмировал он, — то нет и предмета для научного обсуждения»1. Позиция удобная, но в научном отношении, мягко говоря, не вполне корректная.
Трудно поверить, что В. А. Четвернин всерьез полагает, будто научное значение социально-философской концепции определяется возможностью ее полной реализации в обозримой перспективе. Во всяком случае, та версия абстрактного либертаризма, приверженцем которой он сам является, в еще меньшей степени может быть осуществлена где-либо в силу ее внутренней противоречивости. Дело в том, что данная теория, при всей ее декларированной приверженности свободе, может быть реализована лишь с опорой на насилие, поскольку общество в целом (во всяком случае, большинство членов общества) никогда с ней не согласится. Вся эта концепция либертаризма держится на предположении, которое Ф. Хайек сформулировал следующим образом: люди, сказал он, согласны «принуждать к единообразному соблюдению тех правил, которые значительно увеличили шансы всех и каждого на удовлетворение своих нужд, но платить за это приходится риском незаслуженной неудачи для отдельных людей и групп»2. Очевидно, что данный тезис является весьма спорным, поскольку, по сути дела, он означает, что люди, на чью долю выпала «незаслуженная неудача», готовы мириться с несправедливостью. Между тем, как верно замечено, «справедливость — это первая добродетель общественных институтов, точно также как истина — первая добродетель систем мысли»3. На самом деле, история показывает, что когда масса этой «незаслуженной неудачи» переходит некоторую критическую черту, общество утрачивает ту социальную стабильность, на которой строился
1 Четвернин В. А. Предисловие // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2009. Вып. 2. С. 40.
2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 239.
3 Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 19.
379
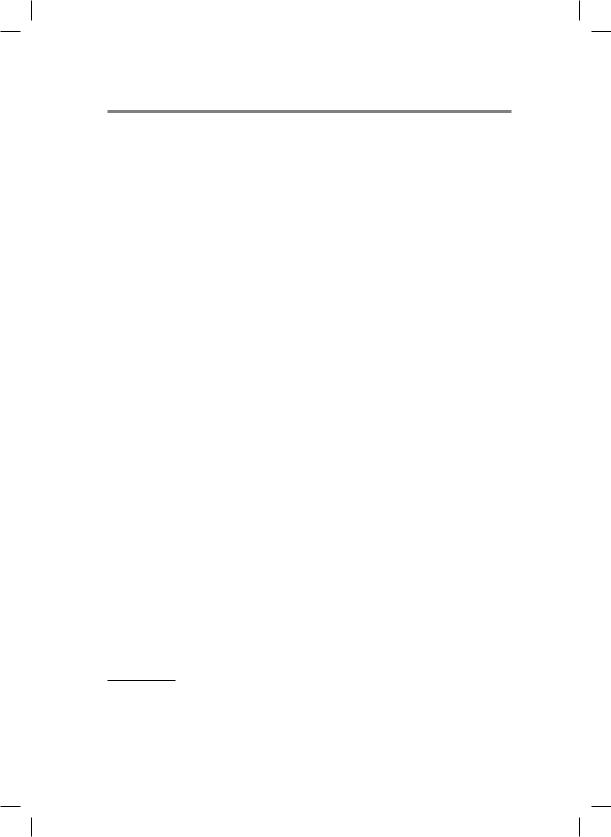
Глава 6. Правопонимание в России
успех остальных, более удачливых, его членов. Не случайно, сам Ф. Хайек, понимавший, судя по всему, утопичность своей теоретической конструкции, сетовал на то, что «сегодня утопия, подобно идеологии, стала бранным словом» 1. «Но при этом, — как верно подчеркивал он, — идеальная картина общества, которая не может быть осуществлена во всей полноте, или руководящая концепция всеобъемлющего порядка, к которому надлежит стремиться, является не только обязательным условием любой рациональной политики, но и главным вкладом науки в решение проблем практической политики»2.
В отличие от абстрактного (абстрагированного от понимания справедливости, которое всегда «привязано» к конкретно-истори- ческим условиям) либертаризма Ф.Хайека и его российских последователей, концепция цивилизма В. С. Нерсесянца была сформулирована на базе прежде всего отечественного исторического опыта и ориентирована в первую очередь на совершенствование современных российских реалий. Что касается либерального фундаментализма Ф.Хайека и его сторонников, то оторванность этого подхода от реальной социальной практики хорошо видна на примере современной России. Ведь если идеи подобного абстрактного либертаризма применить к нынешним момент российским реалиям, то это будет означать отказ от всяких социально-правовых обязательств со стороны тех, кто в результате неправовой приватизации получил в свое распоряжение основные объекты так называемой общенародной социалистической собственности. Между тем, российское общество вправе не только ждать, но и требовать от них гораздо большего, чем обычная буржуазная благотворительность или преференции для «неконкуретных групп» в рамках социальной политики государства. Ведь к этой приватизации нельзя даже применить формулу «кто смел, тот и съел», в которой присутствует
1 Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. С. 83.
2 Там же.
380
