
10027
.pdf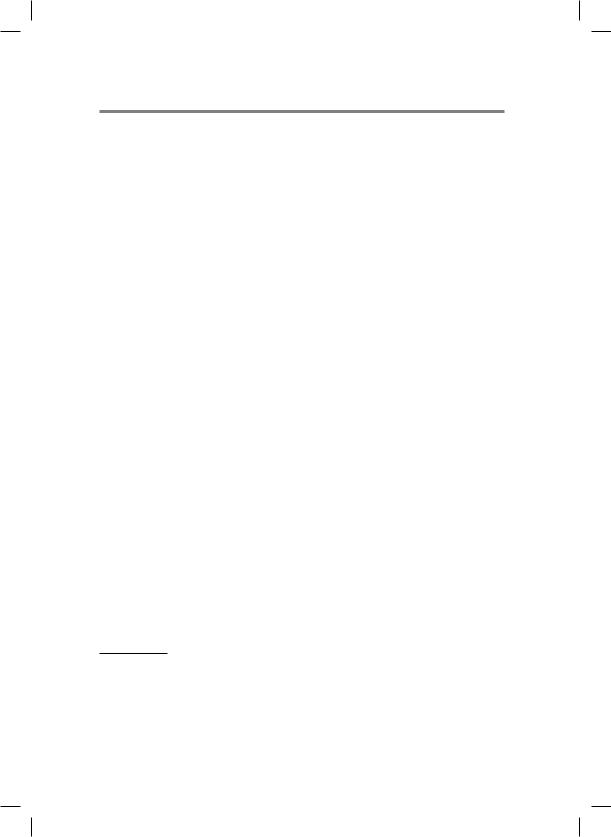
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
совершенный в частном порядке по взаимному согласию», только потому, что «любой подобный закон просто не может быть обеспечен правовой санкцией, а его формальное наличие является откровенным приглашением к шантажу, что привело бы к глубокому несоответствию между писаным законом и его применением на практике»1.
Здесь надо отметить, что понятие «мораль» используется Л. Фуллером в специфическом смысле. Когда он говорит о моральности права в целом, то, по-видимому, как справедливо отмечает И. Ю. Козлихин, имеет в виду, что «правовая норма как сочетание должной цели и должных средств представляет собой моральную ценность»2. При этом за качество средств отвечает у него внутренняя мораль права, а за качество целей — внешняя мораль права. Применительно к внутренней моральности права, выраженной в принципах законности (в этом смысле можно сказать, что внутренняя мораль права имеет у него юридический характер3), слово «мораль» обозначает то обстоятельство, что несоблюдение указанных принципов освобождает человека от моральной обязанности подчиняться соответствующим нормам.
Правда, надо признать, что хотя сам Л. Фуллер неоднократно отождествляет внутреннюю моральность с законностью, однако из всего контекста его изложения можно сделать вывод, что к внутренней моральности права относятся у него не только принципы законности, но и специфически юридические (то есть внутренние) цели права как такового, отличающие его, по мнению автора, от прочих социальных норм. Например, как считает И. Ю. Козлихин, внутренняя цель судопроизводства в трактовке Л. Фуллера, — «обеспечение справедливого и равного участия сторон, интересы которых
1 Там же. С. 159, 160.
2 Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера // Изв. вузов. Правоведение. 1993. № 2. С. 53–58. Режим доступа: http: // aw.edu.ru › script/matredirect.asp.
3 Там же.
261
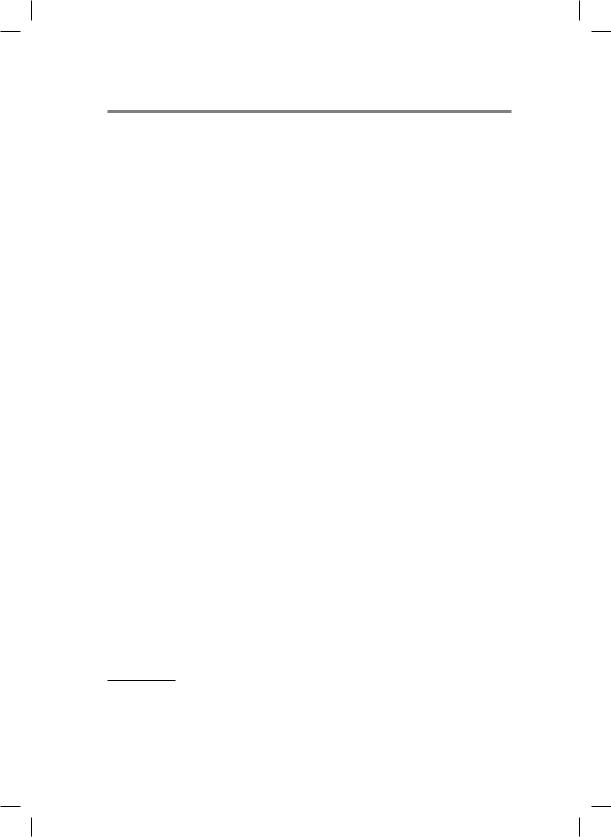
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
задеты. Все процедурные правила судопроизводства оправдываются только тогда, когда эта цель достигается. Внутренняя цель демократического законодательства — обеспечение самоуправления граждан через свободно избранных законодателей. Внутренняя цель договорного права или контрактных правоотношений — обеспечение свободы выбора и взаимности обязательств сторон. Все те правила, нормы и процедуры, которые обеспечивают достижение этих целей, также являются внутренними, сущностными характеристиками права; они, по сути, конституируют ту или иную форму правоотношений. Внутренние цели права одновременно являются
иморальными целями. Судейская справедливость, демократическое самоуправление, контрактная свобода — все это моральные ценности-цели»1.
Под внешней моральностью права Л.Фуллер понимает качество целей, которым служат нормы права (эти цели он называет материальными). Цель права как особого социального института Л.Фуллер видит в подчинении человеческого поведения руководству и контролю общих правил2. Однако он ничего не говорит о том, что делает правовые правила общими, какова природа этой общезначимости как отличительного признака права. Правда, намек на постановку данной проблемы содержится в его дискуссии с Г. Хартом, связывающим «минимальное содержание естественного права», из которого «вырастает» все естественное право, в такой целью, как выживание человеческого сообщества. Л. Фуллер считает, что «центральный
инеоспоримый принцип того, что можно назвать естественным правом — Естественным Правом с большой буквы» — является «указание: «устанавливать, поддерживать и охранять целостность каналов коммуникации, посредством которых люди передают друг другу то, что они вопринимают, ощущают и желают»3. Однако остается неясным, почему эти безусловные и бесспорные цели обозна-
1 Там же.
2 Фуллер Л. Мораль права. С. 176.
3 Там же. С. 221.
262
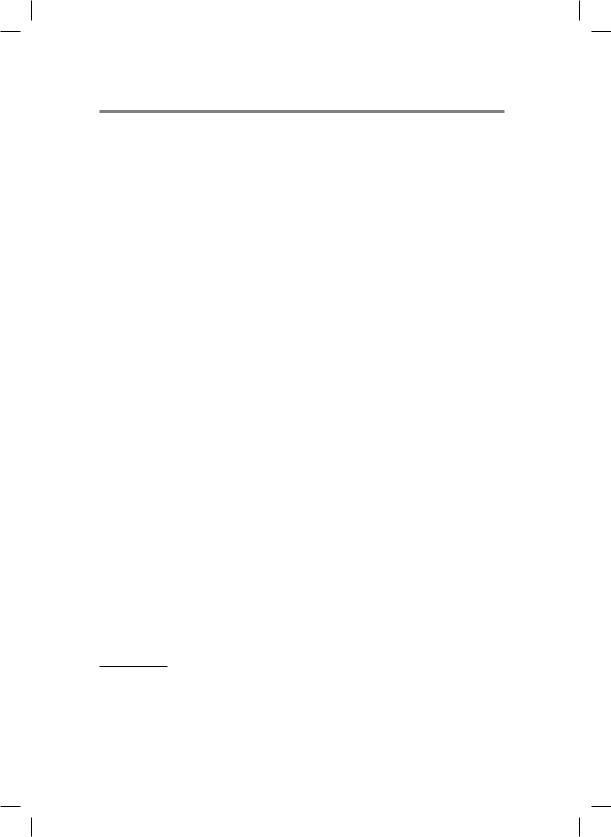
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
чаются авторами как правовые. Ведь и выживание человеческого сообщества, и коммуникация как способ взаимопонимания с себе подобными — это то, что является целью всей системы ценностнонормативной регуляции человеческой жизни.
Резюмируя краткий обзор концепции Л.Фуллера, изложенной в его работе «Мораль права», можно, на мой взгляд, утверждать, что она имеет мало общего с юснатурализмом и явно тяготеет к позитивистскому подходу в его легистской и социологической версиях. Когда автор обозначает свою концепцию как «процедурное естественное право»1, то речь идет о таких естественных законах, свойственных рассматриваемому им виду деятельности (то есть деятельности, направленной на подчинение поведения людей руководству правил), которые «походят на естественные законы плотницкого дела или по крайней мере на те законы, которые уважает плотник, желающий, чтобы возводимый им дом остался стоять и служить тем, кто в нем живет»2. Вряд ли верно говорить о том, что естественно-правовая традиция проявляется у Л. Фуллера «в подчеркивании роли разума в праве, в правовом порядке»3. Разум в концепции права Л. Фуллера — это не тот разум, из которого исходит в своих теоретических конструкциях как юснатурализм, так и либертарно-юридический тип правопонимания. Это не сущностная характеристика человека как носителя разумной свободной воли, определяющая систему его мировоззренческих ценностей. Это, скорее, инструменталистская рассудочность ремесленника, деятельность которого, по большому счету, не имеет ценностной составляющей и, следовательно, не требует проявления его собственно человеческого начала. Ведь подобными «естественными законами плотницкого дела» владеет и бобер, строящий плотину, или птица, вьющая гнездо. Те разумные правила законо-
1 Там же. С. 118.
2 Там же. С. 118.
3 Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера. Режим доступа: http: // aw.edu.ru › script/matredirect.asp.
263
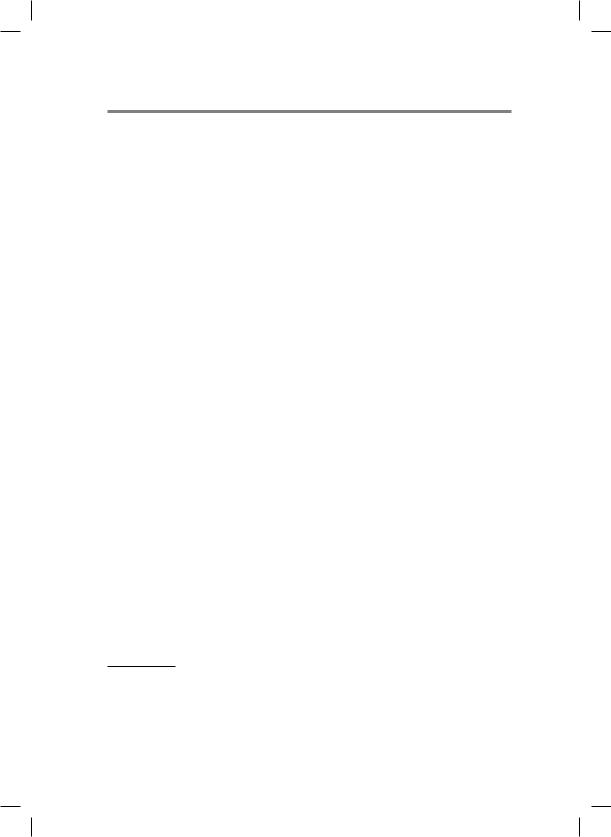
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
дательной техники и правоприменительной деятельности, о которых говорит Л. Фуллер, вполне могут быть приняты многими (если не большинством) современных приверженцев юридического позитивизма.
Правда, Л. Фуллер настаивает на наличии взаимосвязи между внутренней и внешней моральностью права, показывая на ряде примеров, что обосновываемые им требования внутренней моральности права являются существенным фактором достижения его внешней моральности, которая, в конечном счете, связана с целями установления справедливого порядка человеческого общения. Он пытается оспорить ироничное замечание Г.Харта по поводу некоего критика позитизма, который увидел в способах «контроля посредством норм нечто, представляющее собой необходимую связь между правом и моралью, и предложил назвать их «внутр моралью права». Если необходимая связь между правом и моралью, означает именно это, — заключает Г. Харт, — то с ним можно согласиться. К сожалению, это совместимо с огромной несправедливостью»1. Возражая на эту критику, Л.Фуллер утверждает, что истории вряд ли можно найти «сколько-нибудь заметные примеры режимов, сочетавшие искреннюю приверженность внутренней морали права с грубым безразличием к справедливости и благополучию людей»2. Однако при этом он признает, что по широкому кругу проблем внутренняя мораль «безразлична к материальным целям права и готова служить самым разнообразным целям с равной эффективностью»3. Поэтому логика его рассуждений, состоящая, как отмечает И. Ю. Козлихин, в том, что «если мы что-либо будем делать правильным способом, то вероятнее всего получим и правильный результат»4, может быть распространена далеко не на все нормы, претендующие на статус правовых. Верно, что во многих случаях «законодатель не будет
1 Цит. по: Фуллер.Л. Мораль права. С. 185.
2 Там же.
3 Там же.
4 Козлихин, И. Ю. Указ соч.
264
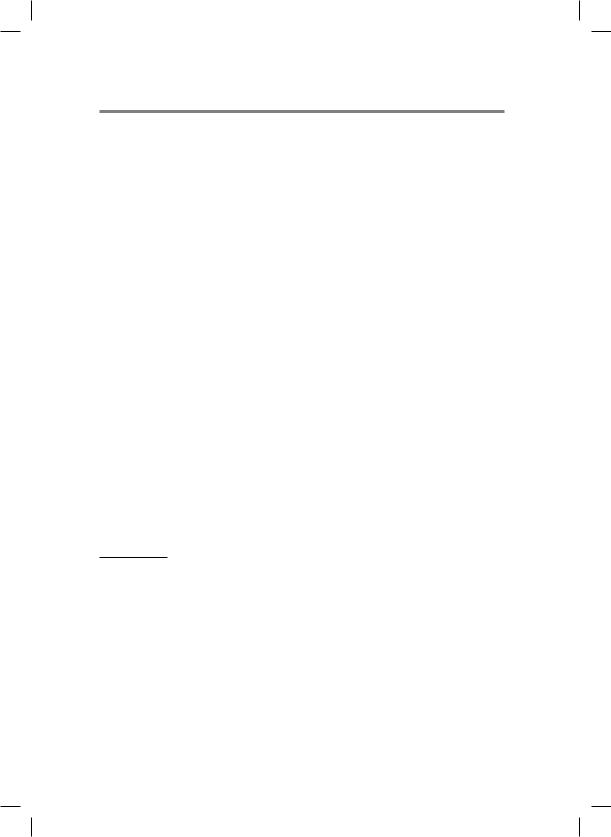
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
склонен излагать порочное право в ясных терминах и промульгировать его»1 и т. д. Но это верно не всегда. А поскольку мы не можем утверждать, что в правовой сфере правильный способ всегда предопределяет правильный результат, то концепция, увязывающая понятие права с его внутренней моральностью (то есть правильностью способа), не может претендовать на имплицитное включение
вэто понятие также и внешней моральности права, отвечающей
вданном случае за «правильный результат».
Для В. С.Нерсесянца внутренняя связь между правовым качеством нормы, с одной стороны, и правовым характером процедуры ее создания и реализации — с другой (связь, которую вряд ли кто-то будет всерьез отрицать), выстраивается по прямо противоположной модели причинно-следственной зависимости: не процедура определяет правовой характер нормы, а правовой характер нормы задает правовые параметры процедуры. Так, применительно к таким desiderata Л. Фуллера, как требование доступности содержания нормы для ознакомления заинтересованной стороной и требование соответствия между писанными законами и их фактическим применением, В. С. Нерсесянц вслед за Г. Гегелем пишет: «Подобно тому, как из права человека знать закон вытекает необходимость публичного оглашения законов, так и из права знать осуществление закона в особом случае вытекает, что судопроизводство должно быть публичным»2.
1 Там же.
2 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права. С. 71. Проблема взаимообусловленности права и правовой процедуры у Г.Гегеля изложена следующим образом. «Объективная действительность права, — пишет он, — состоит отчасти в том, что оно есть для сознания, становится вообще знаемым, отчасти в том, что оно обладает мощью действительности и имеет силу, а тем самым знаемо и как всеобщезначимое» (Гегель Г. Философия права. С. 247). Даже обычное право, развивает автор эту мысль в примечании, «содержит момент, который состоит в том, что оно существует как мысль и что его знают. Отличие норм обычного права от законов заключается лишь в том, что знание этих законов права субъективно и случайно, поэтому они для себя менее определенны и всеобщность мысли в них замутнена» (Там же). «Сол-
265
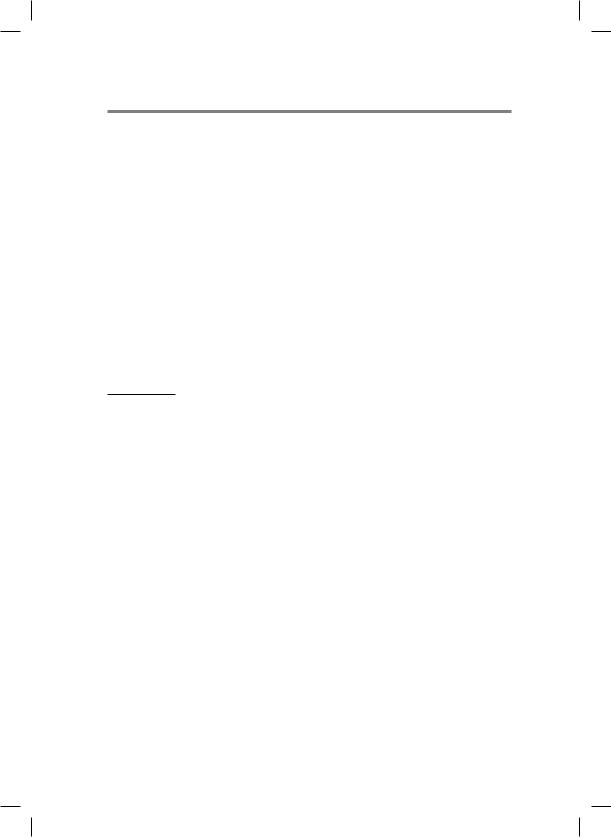
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
Продолжая комментировать свою аналогию с работой плотника, Л. Фуллер говорит о том, что «добросовестный плотник, который хорошо изучил свое ремесло и чьи инструменты всегда наточены, вполне может посвятить свой труд постройке как воровского притона, так и сиротского приюта. Но и в этом случае остается верным то, что для постройки сиротского приюта нужен плотник или помощь плотника, и приют будет построен качественнее, если плотник окажется опытным мастером, располагающим хорошим инструментом, к которому он относится заботливо и обращается с ним надлежащим образом»1. Удивительно, замечает по этому поводу Н. В. Варламова, что от его внимания ускользает тот факт, что у добросовестного плотника и воровской притон выйдет весьма качественным (прочным, удобным)»2. На мой взгляд, этот вывод автора логично выте-
нце и планеты также имеют свои законы, но они их не знают; варварами управляют влечения, обычаи, чувства, но они не сознают этого. Благодаря тому, что право положено и знаемо, все случайное, связанное с чувствами, мнениями, формой мщения, сострадания, корыстолюбия, отпадает, и, таким образом, право лишь теперь обретает свою истинную определенность и свою честь» (Там же. С. 249). Право, подчеркивает Г.Гегель, «касается свободы, самого достойного и священного в человеке, и он сам, поскольку оно для него обязательно, должен знать его» (Там же. С. 253). То же самое относится и к сфере применения права: «К составу прав субъективного сознания относятся как публичное оглашение законов, так и возможность знать осуществление закона в особом случае, а именно ход внешних действий, правовых оснований и т. д. Поскольку этот процесс в себе общезначим, то, хотя отдельный случай по своему особенному значению касается только интереса тяжущихся сторон, всеобщее его содержание относится к заключающемуся в нем праву, и решение суда затрагивает интересы всех: судопроизводство должно быть публичным» (Там же. С. 260).
1 Фуллер Л. Мораль права. С. 186.
2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. С. 37. «Интересно, — продолжает она, — что Г. Ф. Шершеневич, ярый позитивист, использует для характеристики права во многом аналогичные образы динамита и топора. «Право как динамит, — писал он, — средство, при помощи которого можно сделать и добро, и зло» (Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Казань, 1901. Т.1. С. 48). В другой его работе читаем: «Право есть сильное орудие, опасное в одних руках, благодетельное
266
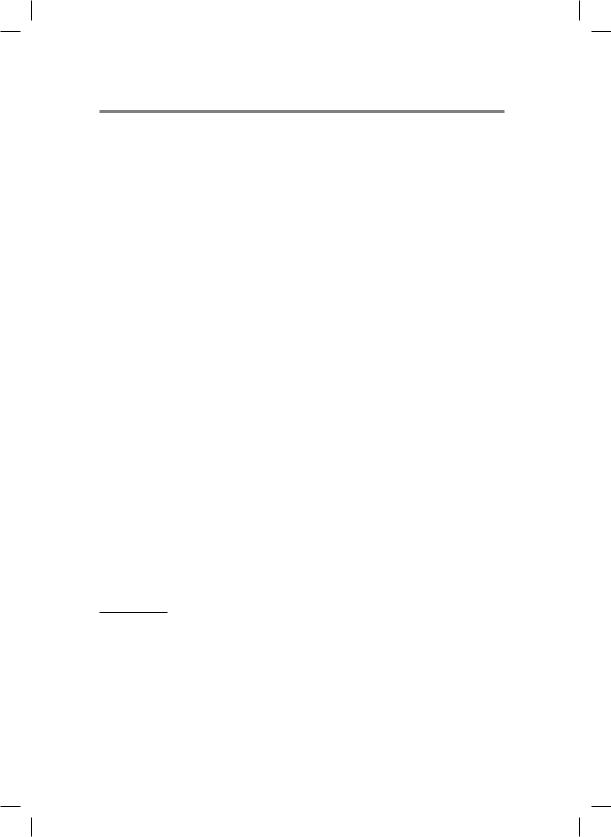
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
кает из гораздо более удивительного представления о том, что право — это не норма, созданная в результате правотворческой деятельности (то есть условно говоря, не приют и даже не притон), а всего лишь правила, определяющие деятельность по созданию нормы и ее применению (то есть в рамках рассматриваемой аналогии — профессиональные приемы плотницкого дела в процессе их пременения).
Эту мысль автор по-разному формулирует в разных местах книги, но всегда недостаточно ясно, оставляя за читателем возможность по-своему интерпретировать сказанное. Так, например, желая «восстановить интеллектуальнее каналы, которые … должны связывать проблему законности с другими основными вопросами философии права», Л.Фуллер пишет: «… Внутренняя мораль права не есть нечто дополнительное или навязанное власти права, но важнейшее условие самой этой власти. Если этот вывод принимается, — продолжает он, — то первое же замечание, которое следует высказать, заключается в том, что для того, чтобы существовало хорошее право, необходимо, чтобы вообще существовало право»1. Если вернуться к примеру с плотником, то сказанное означает, что «хорошее право» — это построенное здание, а просто право — это приемы работы, используемые добросовестным и умелым плотником. Противоречие здесь даже не в том, что хороший плотник может построить и притон; противоречие в чисто логическом несоответствии «права» как деятельности (хороших приемов работы) и «хорошего права» как результата этой деятельности (возведенной постройки).
в других. Топором можно срубить лес для постройки избы, но топором можно и человека убить. Все дело в том, чтобы право, как и топор, находилось в таких руках, в которых орудие оказалось бы полезным, а не опасным» (Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. Вып. 2. С. 367). Таким образом, у Г. Ф. Шершеневича и у Л. Фуллера право само по себе гарантией справедливости устанавливаемого посредством него порядка не является (Там же. Сн.39).
1 Фуллер Л. Мораль права. С. 186.
267
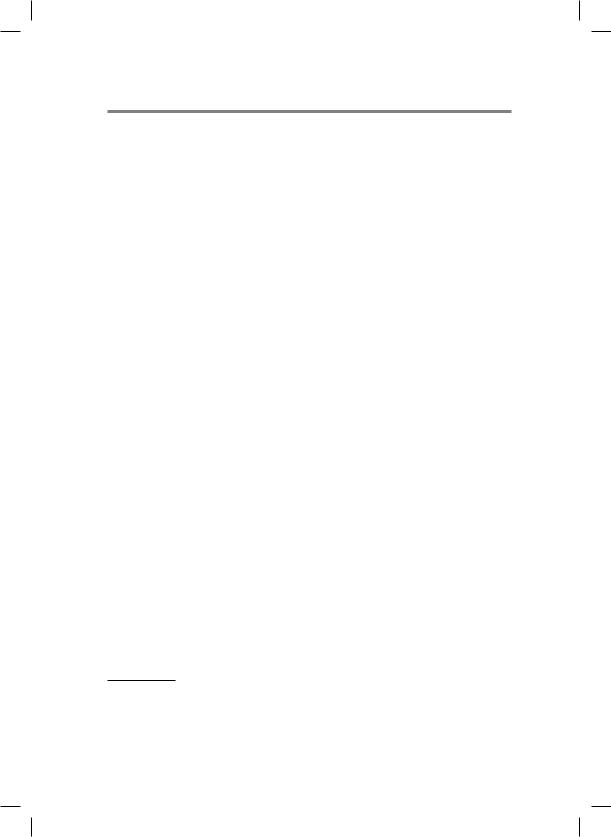
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
Это логическое несоответствие между определением некоего феномена как деятельности, а того же самого феномена, но снабженного характеристикой «хороший», как результата деятельности, обнаруживается, когда мы видим, что хорошие приемы работы умелого плотника могут быть полностью перечеркнуты архитектурными или инженерными дефектами проекта. То же самое можно сказать
иприменительно к качественным характеристикам права, которые не исчерпывается лишь требованиями к процедуре его создания
иприменения. Для права важно прежде всего именно то, что мы в результате выстраиваем: систему гарантий свободы, основанную на началах разума, или систему инструментов для произвольного давления на людей, то есть для подавления их разумной свободной воли.
Сучетом сказанного можно сделать вывод, что с юснатурализмом Л. Фуллера объединяет, пожалуй, лишь высказанный (но не развитый) им тезис о том, что всякий отход от принципов внутренней морали права «представляет собой оскорбление достоинства человека как ответственного субъекта»1. «Удивительно, — замечает в этой связи Н. В. Варламова, — что отсюда Л. Фуллер не делает, кажется, вполне очевидный вывод, что именно представление о человеке как о свободном и ответственном субъекте и должно лежать в основе как внутренней, так и внешней моральности права (если пользоваться его терминологией) или, говоря на общепринятом языке, определять сущность права в единстве ее содержательных
иформальных проявлений»2. Однако вся логика рассуждений Л.Фуллера как раз уводит от такого вывода, очевидного с точки зрения даже не столько естественно-правового, сколько либертар- но-юридического правопонимания.
Гораздо больше точек пересечения у Л. Фуллера с позити-
вистским подходом к правопониманию. Близость его позиции
1 Там же. С. 194.
2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. С. 40, 41.
268
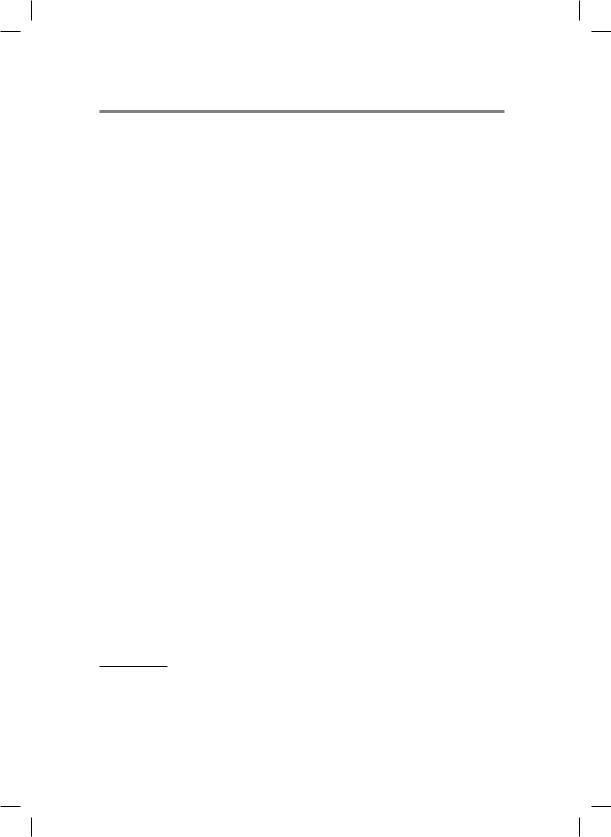
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
к юридическому позитивизму можно продемонстрировать на примере упомянутой выше ситуации с необитаемым островом, где оказавшаяся там волей судьбы группа людей вынуждена регламентировать свою жизнь, опираясь на некие общие, разделяемые всеми стандарты поведения, сложившиеся «под влиянием сходного опыта и образования». Мы видим, что зарождение права автор связывает с возникновением некой властной структуры — комиссии для составления официального заявления об общепринятых нормах поведения. Но чем же отличается такая точка зрения от критикуемой им позитивистской философии, которая, по его собственным словам, «интересуется не тем, что представляет собой или что делает право, а тем, откуда оно проистекает»1? С позиций либертарного правопонимания не само по себе возникновение соответствующей властной инстанции порождает право, а, напротив, наличие в жизни людей проблем, требующих решения на основе правового принципа формального равенства сторон, обусловливает потребность как в правовых нормах, так и в своего рода протогосударственных структурах, способных гарантировать такое равенство2 даже в ситуации, когда субъекты правового взаимодействия не будут иметь «сходного опыта и образования».
Другой серьезный упрек, обращенный Л.Фуллером к позитивизму (который автор ставит на первое место в приведенном им перечне «отправных точек», формирующих позитивистское кредо), также может быть частично переадресован ему самому. Речь идет о том, что позитивизм «рассматривает право как одностороннюю проекцию власти, исходящую от наделенного властью источника и направленную на гражданина. Такая позиция, — пишет он, — не выделяет молчаливое сотрудничество между законодателем и гражданином в качестве существенного элемента в процессе создания
1 Фуллер Л. Мораль права. С. 228.
2 Подробнее см.: Лапаева В. В., Тумурова А. Т. Процессы генезиса права с позиций принципа формального равенства // История государства и права. 2009. № 9. С. 15.
269
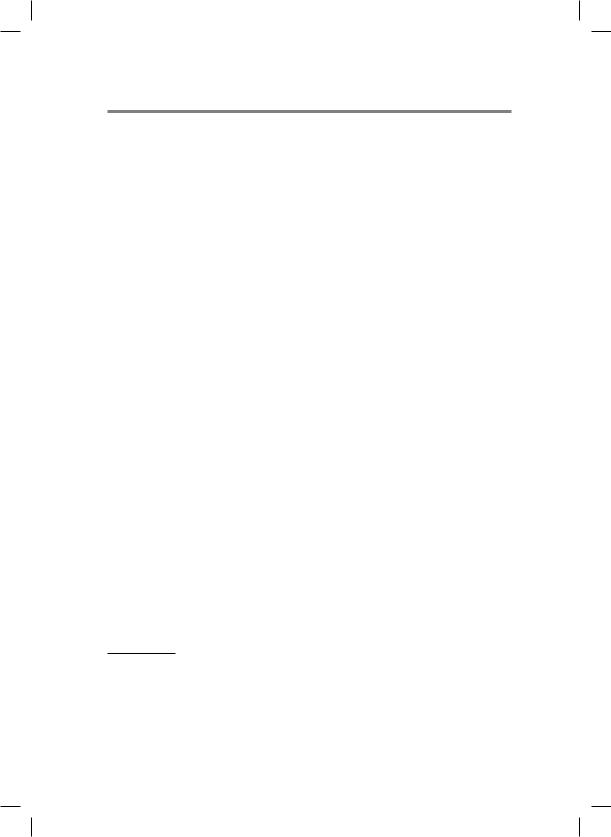
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
правовой системы»1. В ходе полемики с представителями юридического позитивизма Л. Фуллер настаивает на принципиальном характере своего положения о том, что «функционирование правовой системы зависит от … эффективного и ответственного взаимодействия законодателя и подданного»2. Однако для него тезис о взаимодействии власти и подданных (неоднократно употребляемое им слово «подданные» здесь очень показательно) сводится лишь к утверждению, что не только граждане должны подчиняться законам, но и власть связана своими собственными решениями.
Оспаривая замечание своих оппонентов по поводу того, что его «принципы законности представляют собой не больше чем рецепты результативности, направленные на достижение целей правительства»3, Л. Фуллер показывает (и в этом с ним следует согласиться), что сформулированные им принципы разумного законотворчества и правоприменения не сводятся к управленческим командам, поскольку предполагают «обязательство правящей власти соблюдать свои собственные правила в своих делах с подданными»4. Именно на этом тезисе он и строит главное формальное отличие своей концепции права от доктрины юридического позитивизма, замкнутого, по его мнению, на управленческой парадигме. На мой взгляд, это довольно шаткий фундамент, поскольку тезис о связанности власти своими собственными решениями вполне укладывается в современную доктрину аналитической юриспруденции. Во всяком случае, Л. Фуллер вынужден признать, что и у Г. Харта есть несколько замечаний, свидетельствующих о его отступлении от того, «что можно назвать управленческой системой координат»5.
Справедливо упрекая позитивистов в том, что они не выделяют «молчаливое сотрудничество между законодателем и гражда-
1 Фуллер Л. Мораль права. С. 228.
2 Там же. С. 259.
3 Там же. С. 253.
4 Там же. С. 275.
5 Там же. С. .255.
270
