
10027
.pdf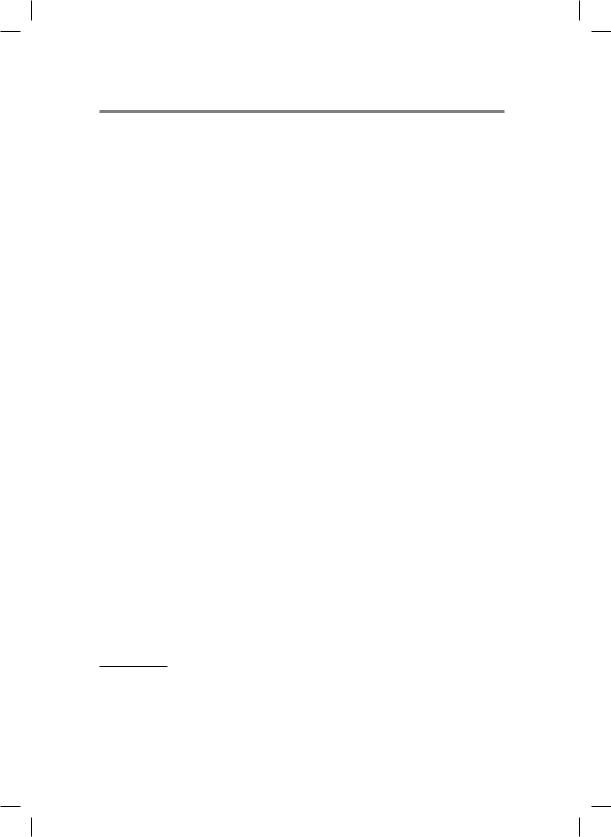
5.6.Персоналистский тип общественного устройства Ж. Маритена и концепция цивилизма В. С. Нерсесянца
Однако в контексте нашего анализа Ж. Маритен интересен прежде всего своей политической философией, в основе которой лежит его стремление найти подобный «третий путь» не в теоретико-право- вой, а в политико-правовой плоскости, а именно — между либерализмом и коммунизмом. В этой связи напрашиваются параллели между концепцией персоналистического общественного устройства
Ж. Маритена, во многом обусловленной его правовыми взглядами, и концепцией цивилизма В. С. Нерсесянца1, представляющей собой конкретизацию его либертарной теории права применительно к экономико-политическим отношениям постсоциалистического общества.
Итогом моральной рационализации политических отношений должно, по мнению Ж. Маритена, стать формирование «нового персоналистического и плюралистического строя», в рамках которого общественная жизнь будет управляться «не центральным политическим руководством страны, а посредством местных, частных, согласованных друг с другом инициатив, а также различных сообществ самих заинтересованных людей под руководством независимых назначенных чиновников»2. В результате постепенной децентрализации и разгосударствления общественной жизни «все естественные формы социальной и экономической деятельности, дажесамыекрупныеивсеобъемлющие,будутисходитьснизу.Иными словами, от свободной инициативы и конкуренции отдельных групп, трудовых сообществ, кооперативных организаций, союзов, ассоциаций, объединенных на федеративных началах корпораций производителей и потребителей — разноуровневых и институционально признанных организаций». Государство, предоставившее «различным общественным организациям самостоятельную инициативу и управление во всех присущих им видах деятельности»,
1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме.
2 Маритен Ж. Человек и государство (гл.1 «Народ и государство»). Режим доступа: http://www.gumer.info› bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
291
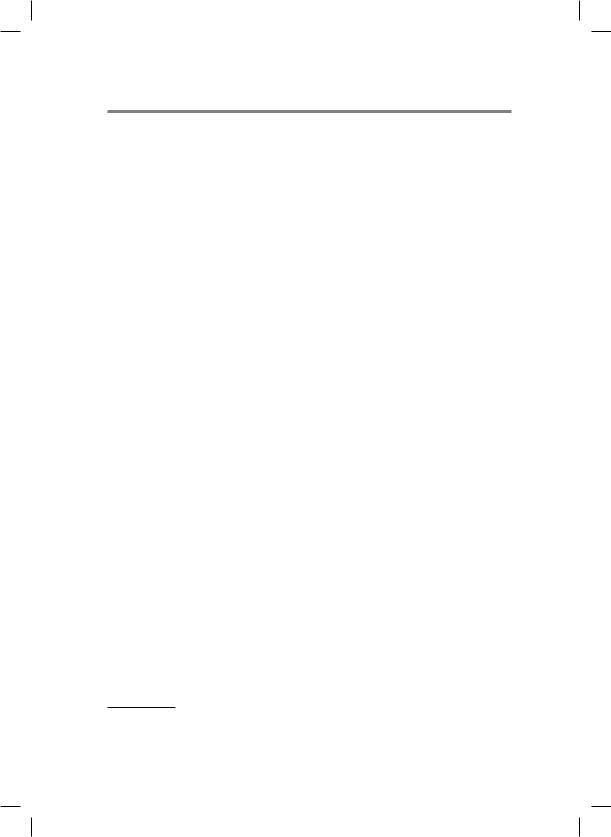
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
оставит за собой лишь функцию «верховного третейского судьи и надзирателя, регулирующего эту произвольную и автономную деятельность с высшей политической точки зрения общего блага», Однако выполнение государством этой функции «верховного третейского судьи и надзирателя» не означает, что оно стоит над обществом: государство, подчеркивает Ж. Маритен, — «часть политического общества и, как таковое, стоит ниже политического общества как целого, подчинено ему и служит его общему благу. Общее благо политического общества есть конечная цель государства, и она важнее его непосредственной цели — поддержания общественного порядка. Главная функция государства состоит в соблюдении справедливости, и эта функция должна выполняться только посредством верховного контроля политического общества, причем, в основном, через внутренние структуры этого общества»1.
Данная форма общественного устройства, с которой автор связывает перспективы социально-политического развития всего человечества, принципиально отличется от двух других конкурирующих моделей — индивидуалистической и коммунистической. В основе каждого из этих трех обозначенных Ж. Маритеном типов общественного устройства лежит разное представление о человеке, о его сущности и его достоинстве. Защитники общества либераль- но-индивидуалистического типа, пишет он, «видят признак человеческого достоинства, во-первых и главным образом, в способности каждого человека индивидуально присваивать блага природы
стем, чтобы свободно делать то, что он желает; сторонники общества коммунистического типа видят признак человеческого достоинства, во-первых и главным образом, в том, чтобы подчинить те же самые блага коллективному управлению социальной структуры,
стем чтобы «освободить» труд человека (подчиняя его экономическому сообществу) и обрести контроль над историей; сторонники
1 Там же.
292
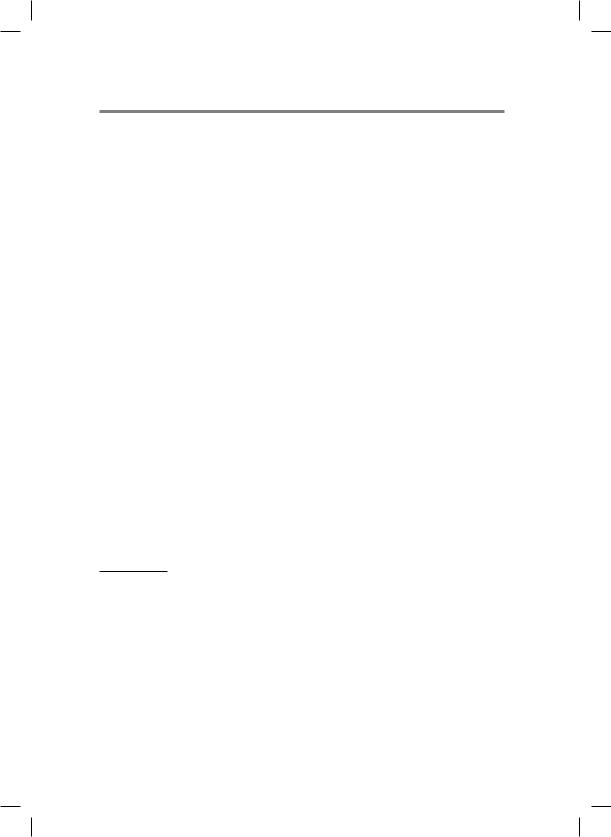
5.6.Персоналистский тип общественного устройства Ж. Маритена и концепция цивилизма В. С. Нерсесянца
общества персоналистического типа видят признак человеческого достоинства, во-первых и главным образом, в способности заставить те же самые блага природы служить общему обретению подлинно человеческих, моральных и духовных благ, а также свободы и автономии человека»1.
По мнению Н. В. Варламовой, персоналистическая концепция концепция прав человека Ж. Маритена представляет собой сакрализованный и умеренный вариант коммунистической доктрины2. На мой взгляд, такой вывод неверен. Позицию Ж. Маритена можно было бы назвать прокоммунитаристской (но никак не прокоммунистической3), да и то с существенными оговорками, касающимися общей ориентации его подхода не на защиту интересов сообществ, а на утверждение свободы человека в той мере, в какой эта свобода не вступает в противоречие с общим благом. Но, скорее, предложенный автором путь моральной рационализации политики на начальном его этапе вполне укладывается в русло концепции правового социального государства. Важно отметить, что Ж. Маритен, как и В. С. Нерсесянц, не усматривает внутреннего противоречия между понятиями «правовое государство» и «социальное государство». Правда, если для В. С. Нерсесянца критерием соответствия социальной политики государства правовому принципу формального равенства является ее компенсаторный характер (связанный с преодолением социо-биологической слабости неконкурентных социальных групп в той мере, в какой общество может позволить
1 Там же.
2 Варламова Н. В. Права человека: попытки интегративной интерпретации // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6(67). С. 101.
3 В отличие от коммунистов, для которых главное — отказ от частной собственности, Ж.Маритен относит право на частное владение материальными благами к естественному праву. «Людям, говорит он, естественным образом предписано обладать ради совместного использования материальными благами природы; … поскольку разум неизбежно приходит к заключению, что во имя общего блага этими материальными благами следует владеть частным образом». (Маритен Ж. Человек и государство (гл. IV). Режим доступа:http: // www. gumer.info › bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
293
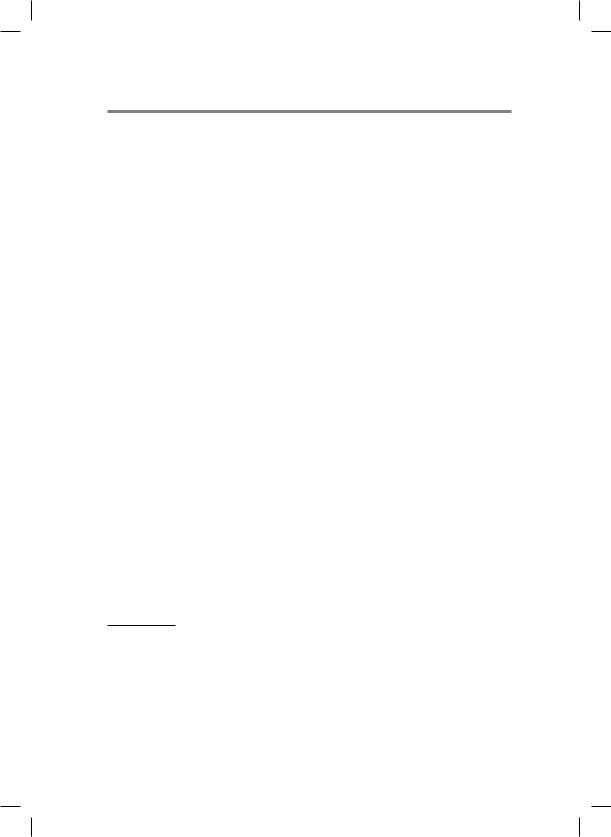
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
себе на данном этапе развития1), то Ж. Маритен не нуждается в таком критерии, поскольку для него не принципиально различие между правом и моралью. Движение к персоналистическому типу общественного устройства у него проходит через социальное государство, которое в результате моральной рационализации политики со временем уступит свои социальные функции обществу, достигшему надлежащего уровня морального совершенства.
Концепция цивилизма также нацелена на высвобождение личности от бюрократического прессинга со стороны государства, на формирование «независимого от политической власти цивилитарного гражданского общества», на ограничение функций государства лишь «защитой цивилитарного строя, охраной системы гражданской собственности и обеспечением ее нормального функционирования вместе с членами общества (самими собственниками) и избранными ими лицами»2. Однако перспективы продвижения в этом направлении В. С. Нерсеяснц связывает не столько с моральным совершенствованием общества, направленным на то, чтобы поставить «структуры и органы политического общества на службу общему благу, достоинству человеческой личности и чувству братской любви»3, сколько с его способностью к осознанию и практической реализации правовой идеи справедливости как формального равенства. То разгосударствление общественной жизни, о котором говорит Ж. Маритен, в концепции В. С. Нерсесянца выступает как результат «полного лишения политической власти права на бывшую социалистическую собственность», являющегося «необходимым условием для окончательного раскрепощения населения, для формирования свободных граждан и свободных
1 Подробнее см.: Лапаева В. В. Доктрина социальных прав человека с позиций либертарного правопонимания // Конституция Российской Федерации: доктрина и практика М., 2009 С. 178–199.
2 Нерсеяснц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24.
3 Маритен Ж. Человек и государство (гл. Ш). Режим доступа: //www.gumer. info›bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
294
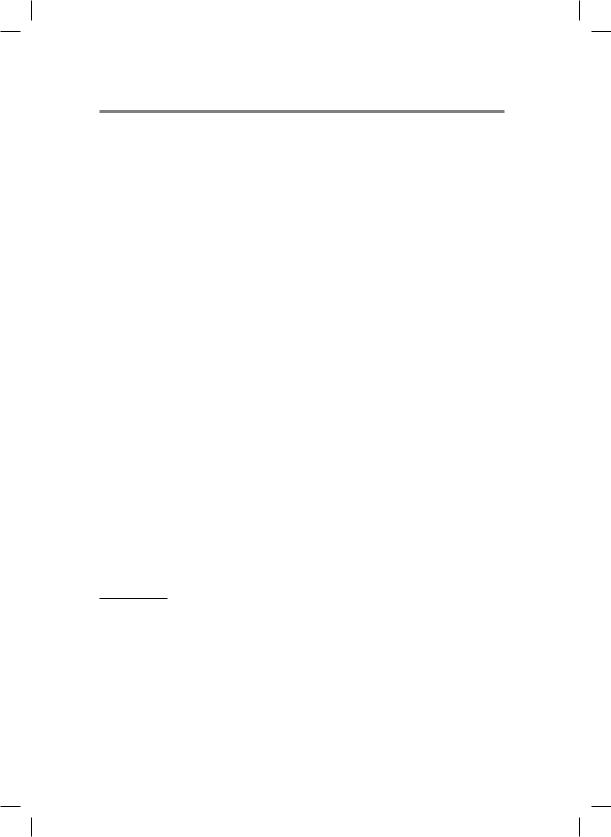
5.6.Персоналистский тип общественного устройства Ж. Маритена и концепция цивилизма В. С. Нерсесянца
собственников, настоящих экономических и правовых отношений, независимого от политической власти цивилитарного гражданского общества и утверждения на этой основе цивилитарной правовой государственности»1.
Конечно, сама возможность осознания этой идеи в такой мере, чтобы она могла «овладеть массами», предполагает определенный уровень морального совершенства общества. Именно такого совершенства (скорее, как раз морального, чем интеллектуального), судя по всему, и не хватило российскому обществу для того, чтобы суметь удержаться в рамках правового пространства в процессе десоциализации так называемой социалистической собственности. И тем не менее обществу все-таки намного легче понять реальную, земную, правовую (то есть основанную на неких общезначимых разумных началах) идею справедливости, чем подняться до такого уровня нравственного совершенства, когда «откровение Евангелия проникнет в самые глубины человеческой сущности»2.
Но есть и другое, гораздо более глубокое и важное различие между двуми рассматриваемыми концепциями будущего общественного устройства. Ж. Маритен, как верно замечает Н. В. Варламова, «стремится интегрировать (курсив мой. — В. Л.) выраженные в либеральном и коммунистическом типе, противоположные позиции, заключающиеся в обеспечении или подавлении индивидуальной свободы»3. В данном случае речь идет об интеграции по принципу конвергенции, уже продемонстрировавшему, как известно, свою историчскую несостоятельность. Что касается концепции
1 Нерсеcянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24. «За государством, — отмечает автор, — признается лишь право на налоги, но не на доходы от объектов десоциализируемой (цивилитаризируемой) собственности». — Там же. С. 23.
2 Маритен Ж. Человек и государство (гл. Ш). Режим доступа: //www. gumer. info › bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
3 Варламова Н. В. Права человека: попытки интегративной интерпретации // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6. С. 101.
295
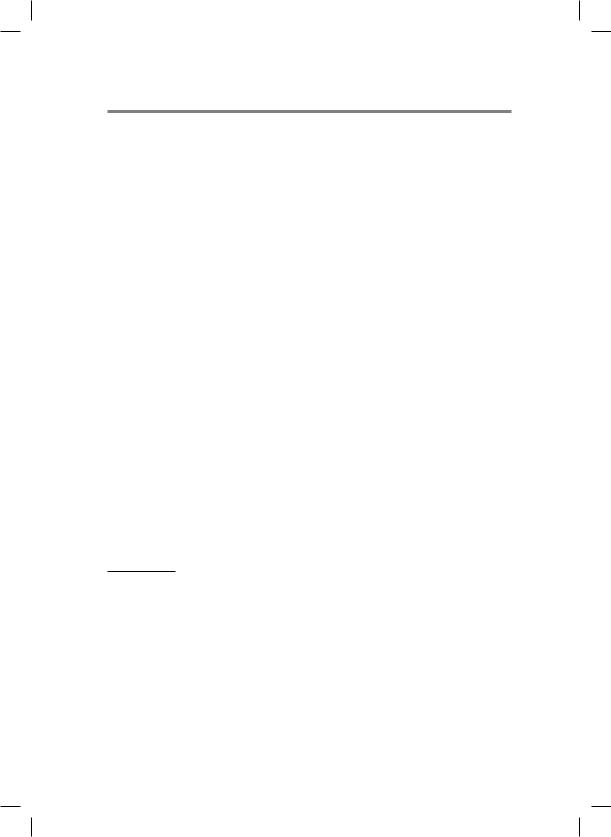
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
В. С. Нерсесянца, то она диалектически снимает противоречия между капитализмом и социализмом как все еще конкурирующими1 формами социально-экономического и социально-политичес- кого устройства. Для него «социализм, несмотря на все связанное с ним зло, — не историческая ошибка», а капитализм — «не конец всемирной истории»2. Отсюда следует, что «у социализма должна быть своя (иная, чем капитализм) будущность»3. Отмечая невозможность простого смешения капитализма и социализма в силу принципиальной несовместимости этих форм общественного устройства, автор ищет возможность диалектического снятия противоречий между ними именно в той точке, в которой пульсирует нерв этих противоречий, — в вопросе отношения к частной собственности (то есть собственности на средства производства).
Сформулированная В. С. Нерсесянцем идея индивидуальной гражданской собственности, в основе которой лежит признание права каждого гражданина страны на равную долю доходов от приватизации социалистической собственности, с одной стороны, гарантирует определенный минимум собственности на средства производства каждому гражданину, а с другой стороны — дает возможность ему иметь любую другую собственность без ограничительного максимума. При этом виды собственности, допускаемые сверх гражданской собственности, в строгом социально-экономи- ческом смысле уже не будут частной собственностью. Дело в том, поясняет он, что «частная собственность (от античной до наиболее
1 «Без перехода к цивилизму, — считает автор, — ни коммунистическую идеологию, ни новые попытки ее реализации преодолеть невозможно. Без признания и утверждения правового института гражданской собственности любая индивидуальная собственность будет по своей природе частной собственностью со всеми присущими ей антагонизмами, а там, где есть частная собственность, там неизбежна и борьба против нее, там естественно возникает и коммунистическая идея — бессмертная идеология несобственников». (Нерсесянц В. С.
Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 39).
2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 3, 4.
296
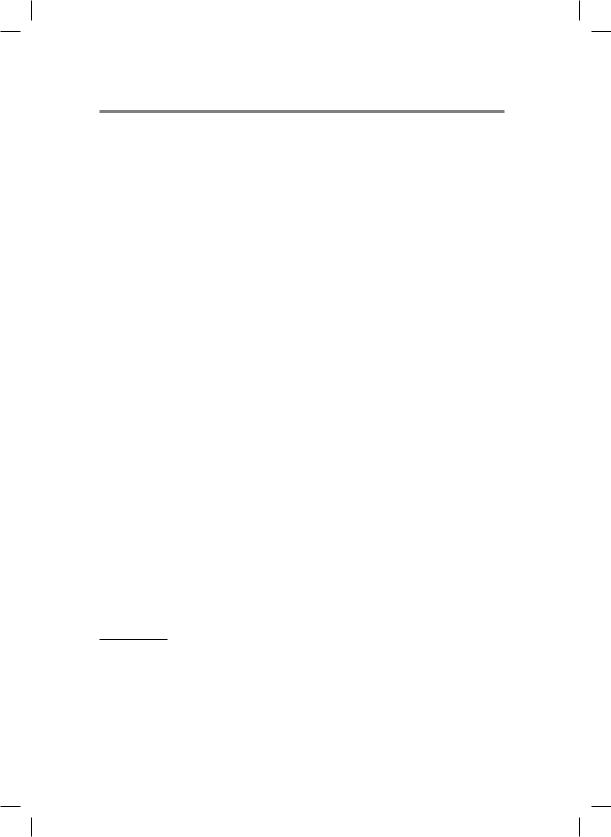
5.6.Персоналистский тип общественного устройства Ж. Маритена и концепция цивилизма В. С. Нерсесянца
развитой, буржуазной) предполагает наличие несобственников, деление общества на собственников и несобственников. Наделение всех гражданской собственностью радикально меняет все отношения собственности и сам тип общественного и государственноправового строя: одно дело — антагонизм между собственниками и несобственниками, и совсем другое дело — отношения между владельцами большей и меньшей собственности в условиях пожизненного неотчуждаемого равного права каждого на минимум собственности»1. В этом равносправедливом (а, следовательно, правовом, поскольку справедливость трактуется В. С. Нерсесянцем как «сущностное свойство и качество права»2) принципе десоциализации общенародной социалистической собственности, в соответствии с которым у каждого гражданина появляется новое субъектиное право на равную долю от социалистического наследства, правовой принцип формального равенства конкретизируется применительно к проблеме постсоциалистического преобразования отношений собственности.
Таким образом, в отличие от идеи персоналистического общества Ж.Маритена, имеющей характер благопожелания, поскольку формирование такого общества обосновывается лишь надеждой автора на моральное совершенствование человечества, концепция цивилизма В. С. Нерсеянца предстает как итог диалектического синтеза двух противоборствующих моделей общественного устройства, объективная неибежность которого предопределена диалектикой исторического прогресса3.
1 Там же. С. 28.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 44.
3 О концепции цивилизма как итоге творческого применения диалектического принципа единства и борьбы противоположеностей к анализу социальных процессов см.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С. 335–337.
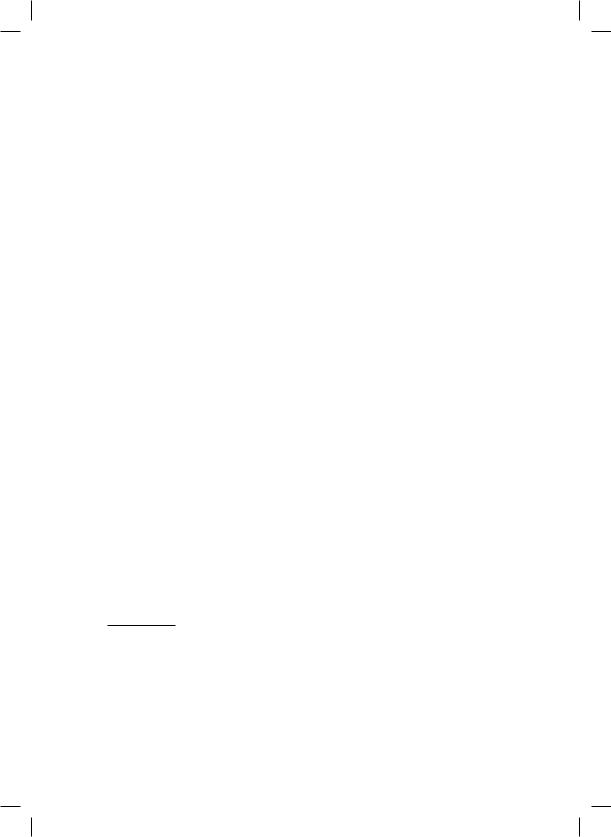
ГЛАВА 6
Правопонимание в России
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
Когда говорят об особенностях правового развития России, то речь, как правило, идет о сравнении России с Европой и прежде всего со странами Западной Европы, чья правовая культура сформировалась на базе древнегреческой философии и римской юриспруденции. Европа уже в течение многих веков привлекает внимание россиян, стремящихся посмотреть на себя глазами европейцев, соотнести и сопоставить Россию с Европой. «Интерес этот, — пишет В. М. Межуев, — не объяснишь непохожестью Европы на Россию …. В мире есть много стран, которые, даже вступая на путь модернизации, не проявляют особого беспокойства по поводу того, как они выглядят на фоне Европы, похожи или не похожи на нее. Для России же этот вопрос почему-то основной: она всегда судила о себе, глядя в сторону Европы, сравнивая себя с ней. Но чтобы сравнивать себя с Европой, даже в пользу последней, надо в каком-то смысле уже быть Европой, осознавать свое родство с ней. Диалог России с Европой и рождался из потребности ответить на вопрос, какова степень этого родства (родства, разумеется, культурного), кто она Европе — мать, дочь, сестра или более отдаленный родственник»1.
1 Межуев В. М. Россия в диалоге с Европой. Режим доступа://www.lebed. com/2006/art4797.htm (посещение сайта 7.11.2009). О.Малинова по этому же поводу пишет: «Издавна «Европа»/«Запад» выступает для России «Значимым Другим», по отношению к которому определяется и переопределяется ее идентичность. И в начале XXI в. споры об отношении к «Другому» остаются важным фактором структурирования политико-идеологического спектра». (См.: Малинова О. Дискурс о России и «Западе» в 1920–1930-х годах. Попытки пе-
298
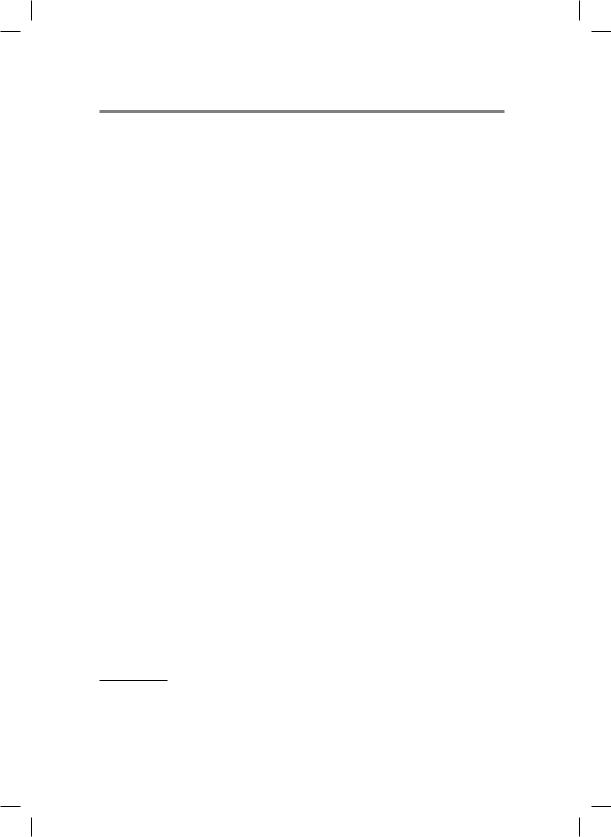
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
Этот интерес, возникший в век русского Просвещения, с самого начала имел ярко выраженную правовую составляющую, поскольку именно в данном моменте культурные различия между Европой и Россией проявлялись и проявляются наиболее выпукло.
Право как гарантия свободы индивида в его социальном взаимодействии — это, несомненно, главное культурное достижение Европы, во многом предопределившее ее особое место в мире. Духовный облик европейцев, отмеченный, по характеристике Ю. Хабермаса, «индивидуализмом, рационализмом и активностью»1, окончательно сложился в основных своих чертах в эпоху перехода от традиционности к модерну, осуществленному под лозунгом правовых идей свободы и равенства. Главным импульсом этого движения был переход от сословного права-привилегии к единому в масштабах страны праву, выступающему в форме общеобязательного закона. При этом процесс формирования и утверждения права эпохи модерна шел одновременно со становлением правовой государственности. Право и государство выступали здесь как нормативная и институциональная формы свободы, гарантирующие в своем единстве условия для становления и развития гражданского общества как сферы свободной человеческой активности, не зависящей от властного произвола.
Для России, чье политическое устройство и общественная жизнь в силу целого ряда объективных факторов (таких, как геополитическое положение, суровый климат, многонациональный состав населения, большая протяженность границ и т.д.) базировались на деспотизме и крепостничестве, правовой опыт Европы был одновременно и притягивающим, и пугающим. Со времени вступления страны на путь догоняющей модернизации проблемы права, так или иначе увязанные с индивидуальной свободой, без которой невозможно раскрепощение творческой активности каждого отдельного человека и модернизационного потенциала нации в целом,
реопределения коллективной идентичности в новой системе координат. Режим доступа: http: //www. perspektivy.info › …diskurs_o…zapade_2009–3-17.
1 Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 44.
299
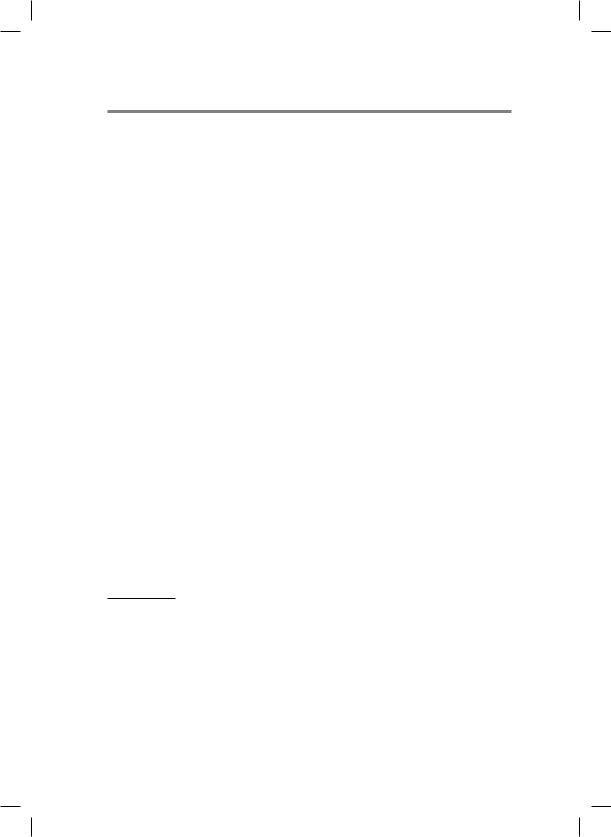
Глава 6. Правопонимание в России
находились в центре российского социально-политического дискурса. И даже обсуждение отвлеченных философских идей о соотношении разума и Святого духа христианства, права и мораль- но-нравственных ценностей, индивидуализма и соборности и т.д.,
всвоем практически значимом «сухом остатке» сводилось к вопросам о том, необходимо ли, возможно ли в принципе, и если да, то на каких условиях, создание в России того политико-правового контекста, который мог бы обеспечить социальную инфраструктуру для модернизационных процессов.
Россия пережила несколько инициированных сверху модернизационных рывков, потерпевших неудачу из-за отсутствия в стране во все периоды ее истории тех нормативных и институциональных форм свободы1, которые западная культура сумела сформировать благодаря заложенной в ее фундамент человекоцентристской античной традиции правопонимания. В России же понимание права как формы индивидуальной свободы, всегда встречало сильную оппозицию со стороны системоцентристской православно-византийс- кой духовной традиции, в рамках которой право трактовалось как некая доминирующая над человеком форма духовного единения людей на базе правды-справедливости, божественной благодати, христианской этики и т.д. Западный подход к праву как к способу упорядочения общественной жизни на основе индивидуальной свободы изначально был чужд российскому менталитету.
Человекоцентристская ориентация западной философии права проявляется прежде всего в трактовке такого фундаментального
1 Неспособность царизма создать необходимые политико-правовые предпосылки для экономической модернизации спровоцировала социалистический проект модернизации, опирающийся исключительно на идеологические и насильственные механизмы. В результате ценой беспрецедентных во всемир- но-историческом масштабе затрат человеческих ресурсов удалось провести индустриализацию экономики и даже добиться прорыва по отдельным направлениям, однако в целом насильственный проект модернизации потерпел крах, и по его итогам страна оказалась не готовой к экономической конкуренции
врамках глобального мира.
300
