
10027
.pdf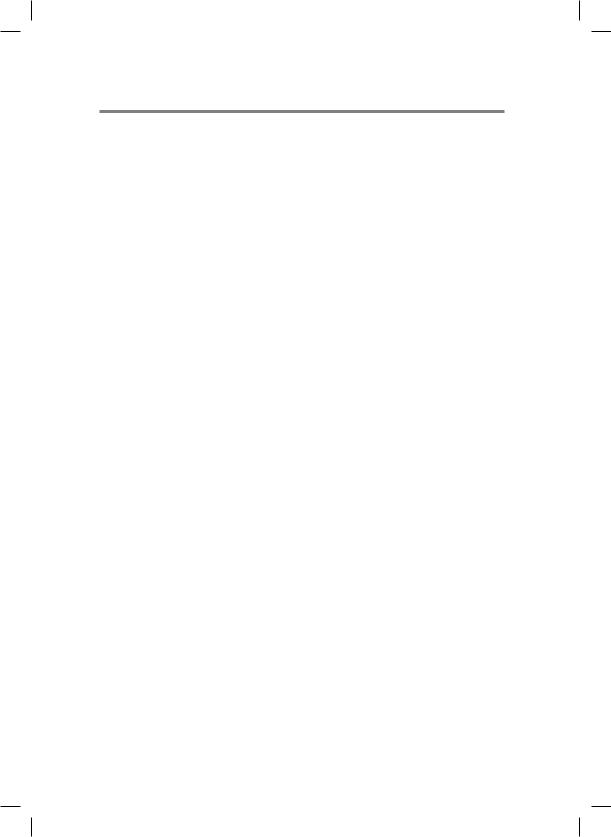
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
идея если не социального, то хотя бы зоологического равенства по принципу «смелый съедает больше». В нашей ситуации наибольшие куски собственности получили отнюдь не более смелые (хотя в христианской культурной традиции это не самое главное достоинство), а те, кто на момент беспрецедентного в истории дележа социалистического наследства оказался ближе к бывшей партийной номенклатуре, комсомольскому активу, силовым структурам, теневому бизнесу и криминалитету. То, что эти люди не проявили себя в качестве эффективных собственников и не смогли хоть как-то компенсировать остальным их потери, — не самое главное. Гораздо важнее изначально несправедливый характер присвоения ими общего социалистического наследства, с которым никакое нормальное общество согласиться не может. Если нынешнее российское общество и терпит это, то только из-за слабости, растерянности и усталости.
То обстоятельство, что концепция цивилизма пока что не востребована нашим деморализованным обществом, отнюдь не обесценивает ее научный потенциал. На данном этапе она выступает прежде всего в качестве теоретической основы осмысления и научного критерия оценки сложившейся в стране социально-эко- номической и политико-правовой ситуации. Идея цивилитарной собственности позволяет, в частности, понять, что основные со- циально-экономические и политико-правовые дефекты сформировавшегося в постсоветской России общественного устройства обусловлены неправовым характером приватизации. Кроме того, концепция цивилизма обозначает максимально возможные параметры экономической свободы для общества с социалистическим прошлым, поскольку не только предполагает наличие определенного минимума собственности (а, значит, и определенного минимума реальной свободы) у каждого гражданина, но и отрицает какие бы то ни было претензии государства на десоциализированную собственность, выбивая таким образом почву из-под коррупционного симбиоза власти и собственности и создавая
381
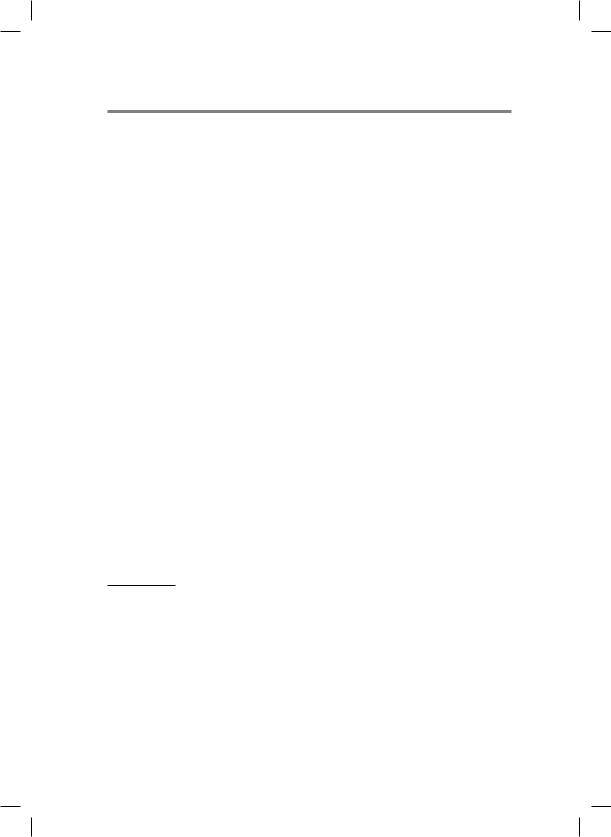
Глава 6. Правопонимание в России
предпосылки для «формирования свободных граждан и свободных собственников»1.
Без наличия подобного концептуального видения современного состояния, а также возможностей и перспектив постсоциалистического развития страны остается только рассуждать о том, что лучше — плюралистическая олигархия 1990-х гг. или бюрократическая олигархия 2000-х гг.2 При этом придется просто констатировать (как это делает В. А. Четвернин), что в современной России «властьсобственность, возникающая при разложении коммунизма, такова, что право собственности можно защитить только в той мере, в которой собственник имеет реальный доступ к публичной власти»3, и говорить, что «для модернизации потребуется как минимум переход от природоресурсной к перерабатывающей экономике»4 (что, по сути дела означает лишь, что для модернизации потребуется модернизация). Причем совершено не ясно, каким образом можно в принципе обеспечить переход к новому типу экономики. Если не возвращаться к тоталитарно-авторитарной модели модернизации (а этот вариант страна уже «отработала» в рамках социалистического эксперимента), то надо понять, каким образом и на какой основе можно сформировать политико-правовые предпосылки для модернизационного рывка. В. С. Нерсесянц считал, что для этого надо прежде всего легитимировать постсоциалистическую собственность в рамках своего рода «общественного договора» между властью, крупными собственниками и остальными гражданами
1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24.
2 В таких терминах анализируют постсоветскую ситуацию в России западные наблюдатели. См., напр.: Ремингтон Т. Ф. Демократия и неравенство: взаимосвязь социально-экономического и политического развития в посткоммунистический период // Сравнительное конституционное обозрение. М., 2009. № 1. С. 27.
3 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца В. С. 2-е изд. М., 2010. С. 535.
4 Там же. С. 538.
382
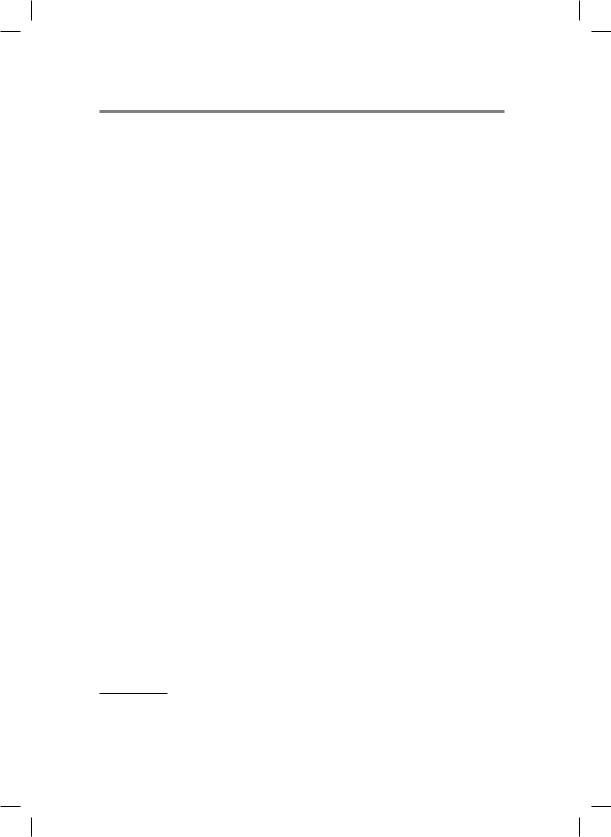
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
страны. Концепция цивилизма как раз и позволяет обозначить ориентиры и определить параметры такого договора с учетом той конкретно-исторической ситуации, которая сложилась в стране на данный момент времени.
Неприятие отечественными либератрианцами идеи цивилизма, которую автор считал главным итогом своих исследований, — это наглядный показатель их более глубоких расхождений с В. С. Нерсесянцем в фундаментальных вопросах правопонимания. Суть этих расхождений позволяет говорить о том, что В. А. Четвернин
иего сторонники не являются (вопреки их собственным декларациям) приверженцами либертарно-юридического подхода как самостоятельного типа правопонимания и остаются, скорее, в рамках осовременного юснатурализма. Это проявляется, в частности, в следующих высказываниях В. А. Четвернина, свидетельствующих о том, что он не понимает (или не принимает) ясно заявленную В. С. Нерсесянцем претензию на самостотельное место его концепции права в типологии правопонимания. Так, справедливо отмечая, что «у права есть своя сущность — правовая, а не силовая, не моральная и т.д.», В. А. Четвернин далее пишет: «Сущность права — это равная свобода, и право — необходимая форма свободы. … К этому выводу приходит не только либертарно-юридическая теория, и, конечно, В. С. Нерсесянц «стоял на плечах» своих великих предшественников»1. Далее автор приводит длинный список таких предшественников, начиная от Аристотеля и кончая Л. Мизесом
иФ. Хайеком. По этому поводу можно сказать следующее. Разумеется, в сфере философской мысли всегда есть преемственность, но это то, что, как говорится, лежит на поверхности и бросается в глаза. Гораздо важнее и сложнее понять, есть ли у автора отличия от предшественников, и в чем они состоят, то есть обоснована ли заявка автора на самостоятельное место в философии права.
1 Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1. С. 7.
383
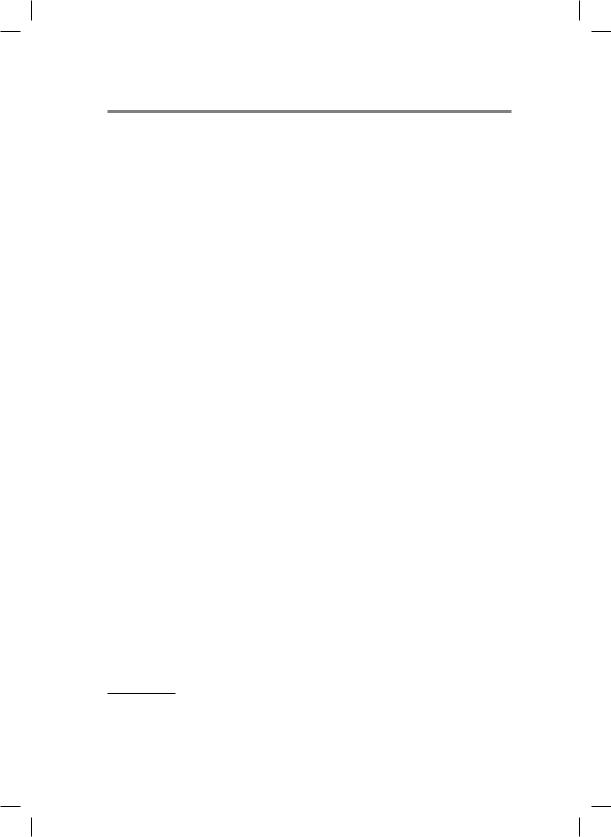
Глава 6. Правопонимание в России
Что касается В. С. Нерсесянца, то у него такие претензии были,
иони состояли в том, что его трактовка сущности права как равной меры свободы и выстроенная на ней концепция правопонимания не имеют прямых аналогов в философско-правовой мысли. Разные авторы так или иначе связывали понятие права с категориями равенства, свободы и справедливости, но никто не увязал эти категории в рамках трактовки сущности права как формального равенства, выраженного через триединство равной меры, свободы и справедливости. Именно поэтому В. С. Нерсесянц считал, что, вся прошлая
исовременная философия права представляет собой те или иные версии естественно-правового типа правопонимания 1.
Для уяснения отличий концепции В. С. Нерсесянца от юснатурализма важно иметь в виду, что в рамках его подхода право как мера свободы не задается некой высшей по отношению к человеку инстанцией (Богом, государством, социумом, социальной группой, мировым правительством либо или какими-то иными «учителями жизни», излагающими истины в последней инстанции), а формируется с участием самого человека как субъекта права в процессе согласования его свободной воли со свободной волей других субъектов правового взаимодействия. С точки зрения В. С. Нерсесянца, свобода, как я уже отмечала, возможна лишь там, где люди не только адресаты действующего права, но одновременно и соучастники в его создании, его творцы и защитники2. Ведь именно либеральнодемократическая процедура правообразования, обеспечивающая для будущих адресатов нормы возможность участия в ее создании наравне с другими, и является гарантией того, что принцип формального равенства будет заложен в само содержание правового решения. Правовой характер этого решения, то есть правовой характер закона (в широком смысле слова, включающем в себя и судебный прецедент) обусловлен равенством субъектов правового
1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 50.
2 См.: Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
384
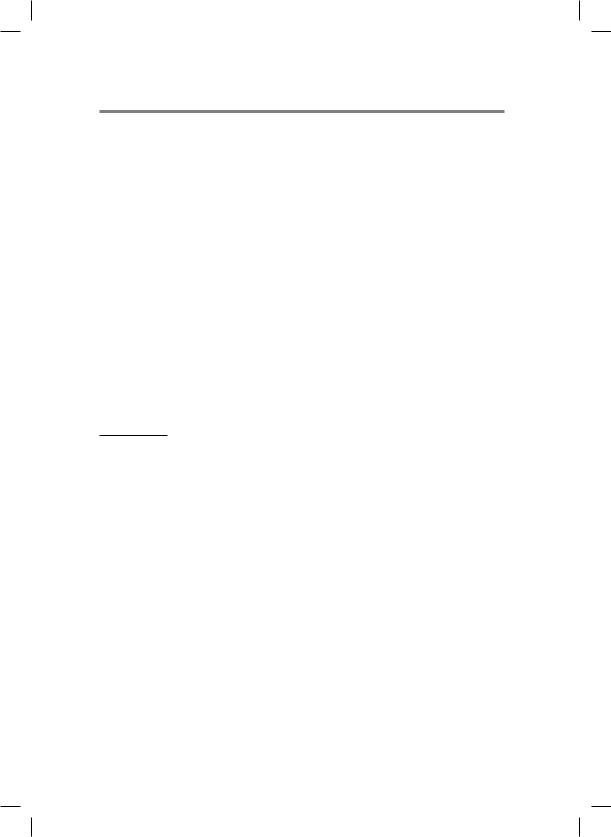
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
регулирования, которое не привносится откуда-то извне, а вырабатывается путем такого согласования их интересов в процессе деятельности демократически избранного представительного органа и (или) в рамках надлежащей судебной процедуры, когда реализация одних интересов возможна в той мере, в какой она не препятствует реализации интересов других субъектов.
Именно в этом взаимосогласованном балансе интересов (общей воле)1 состоит сущность права как формального равенства, а вовсе не в «чистом» равенстве перед нормой, правовая природа которой не является результатом подобного согласования. По мнению В. А. Четвернина, правовые нормы создает «вовсе не парламент, где группа интересов, имеющая по некоторому вопросу большинство, решает его по своему произволу» и даже не суд2, а некие професси- оналы-юристы, действующие в рамках «культуры правового типа», которые рассматривают вопросы «с точки зрения права, а не с позиции интересов людей»3. Таким образом, получается, что право
1 В плоскости юридико-социологического подхода речь идет о согласовании интересов, а с позиций философско-правового подхода — о согласовании воль, ориентированном на поиск общей воли.
2 В этом контексте интересна дискуссия между Н. В. Варламовой, возражающей против тезиса о том, что «суды творят право, потому что там сидят юристы», и В. А. Четверниным, утверждавшим, что «именно суд, перед которым все формально равны, суд, где юристы могут доказывать свою правоту или справедливость в процедуре свободной конкуренции, именно суд, связанный позицией юристов, официально формулирует право» (Обсуждение доклада Н. А. Верещагина // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 2009. С. 28). «Суд, равно как и законодатель, — верно замечает в этой связи Н. В. Варламова, — творит право, потому что исходит из принципа формального равенства. По либертарной теории любой источник права, если только он источник права, соединяет в себе такие вещи: форму внешней объективации правовых норм и определенный способ объективации. И только в этом единстве, в единстве этих двух вещей появляется то, что называется надлежащим с правовой точки зрения источником права. Принцип формального равенства универсален в том, что определяет и требования к содержанию правовой нормы, и требования к позитивации, то есть к установлению правовой нормы» (Там же. С. 28, 29).
3 Там же. С. 32.
385
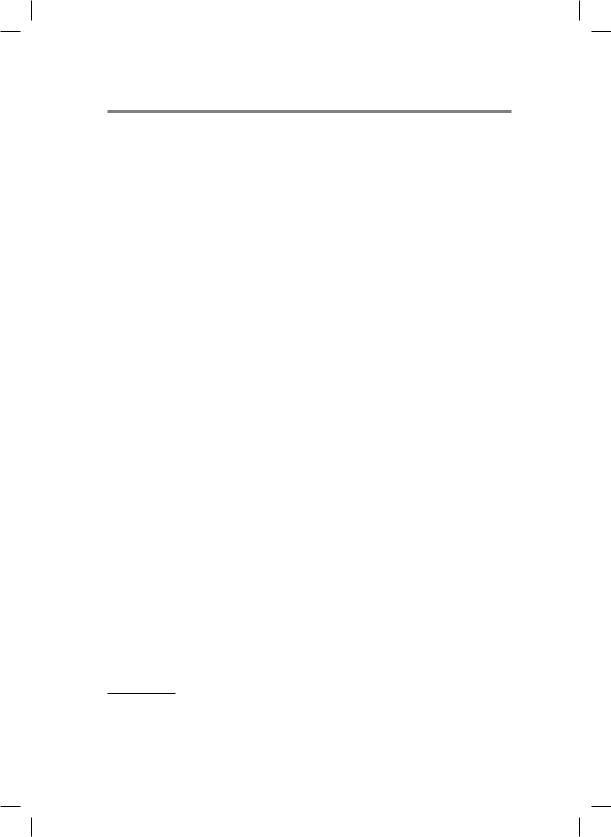
Глава 6. Правопонимание в России
не является итогом либерально-демократической процедуры правообразования, основанной на принципе формального равенства, а представляет собой некие совершенные нормы, выработанные юристами-профессионалами, которые выступают здесь в качестве тех самых «учителей жизни», чье решение заведомо носит правовой характер, а такой подход по сути дела, тяготеет к юснатурализму.
В связи с этим уместно спросить: каким образом профессиональные юристы могут отмерить и взвесить меру свободы каждого человека? Дело в том, что в сфере социального взаимодействия отсутствуют такие механизмы измерения, которые действуют в мире физических величин, где уравнивание объектов осуществляется с помощью фиксированных единиц измерения — килограммов, метров и т.п. В социальной мире уравнивание людей в их свободе может происходить лишь путем поиска баланса (взаимосогласия) воль по принципу: свобода одного может быть реализована в той мере, в какой она не нарушает свободу другого. Иного способа обеспечения равенства в доступе к социальным благам (то есть способа выработки равносправедливого для всех решения), кроме как договорного в своей основе согласования индивидуальных свободных иснтересов участников этих отношений, не существует. Такое согласование интересов может быть обеспечено в рамках договора между самими участниками правоотношений, в процессе парламентской деятельности или в рамках судебной процедуры.
Когда В. А. Четвернин говорит о разногласиях среди последователей разработанной В. С. Нерсесянцем либертарно-юридической теории1, то, судя по всему, он имеет в виду прежде расхождения между своей и моей позициями, связанные с принципиально разной интерпретацией ключевых положений данной теории. Поэтому, не занимаясь поиском немногочисленных сторонников (в данном случае мне вполне достаточно самого В. С. Нерсесянца),
1 Четвернин В. А. Предисловие // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. С. 40.
386
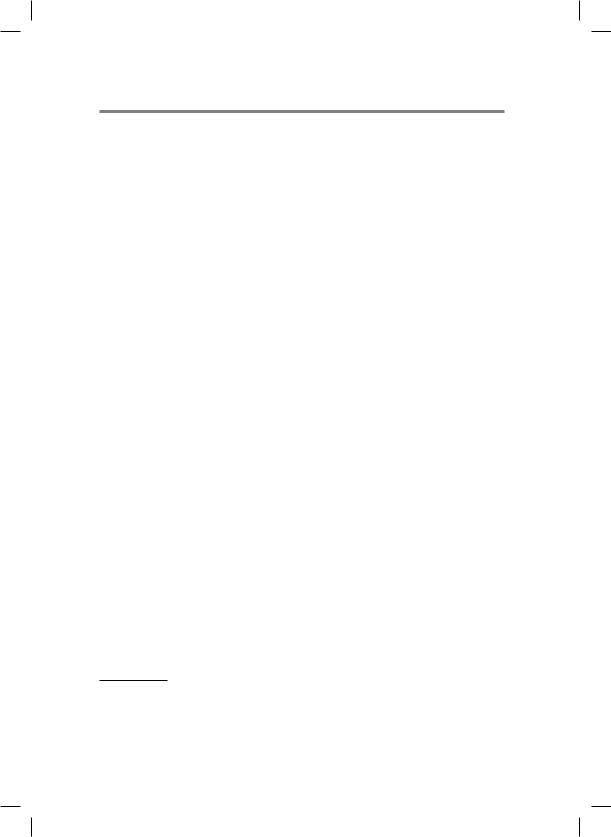
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
я хотела бы остановиться на сути этих разногласий, сконцентрированных вокруг двух основополагающих моментов либертарноюридического правопонимания — трактовки сущности права как формального равенства и понимания права как правового закона
(представляющего собой единство правовой сущности и правового явления).
Прежде всего надо сказать, что В. А. Четвернин (в отличие от В. С. Нерсесянца) вовсе не рассматривает принцип формального равенства в качестве сущностного правового принципа, т.е. такого принципа, который присущ любому правовому явлению и не присущ любому неправовому явлению. Это видно, в частности, из следующих его рассуждений. Правовая свобода, говорит он, существует лишь там, где есть классическая триада (правовой minimum minimorum), включающая в себя: 1) личную свобода и неприкосновенность, 2) собственность и 3) безопасность, обеспечиваемую государством1. Поясняя этот тезис, он пишет далее: «личная свобода, или самопринадлежность, включает в себя распоряжение человека собой и своими способностями, его неприкосновенность, право на частную жизнь. … Из самопринадлежности вытекает право человека присваивать, быть собственником того, что он создает, и право собственника свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом», а «безопасность подразумевает право на публично-властную защиту от агрессивного насилия»2. Однако главное ведь не в том, чтобы провозгласить некую минимально необходимую триаду. Теоретическая проблема заключается в определении критериев, которыми надо руководствоваться, чтобы понять, в чем на данном историческом этапе состоит неприкосновенность личности и собственности и как (на какой философско-правовой основе) можно согласовать такую неприкосновенность с общей безопасностью. У В. А. Четвернина принцип формального равенства
1 Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория. С. 8.
2Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.
С.584.
387
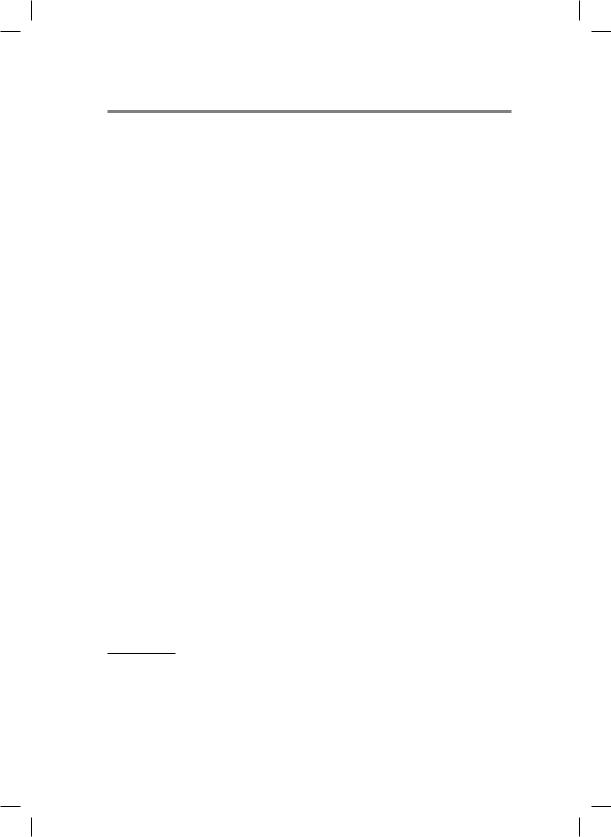
Глава 6. Правопонимание в России
таким критерием не является, поскольку он признает, что «общая безопасность в условиях существенного имущественного неравенства не может быть реально обеспечена без нарушения формального равенства. Ибо не все способны платить налоги, необходимые для обеспечения безопасности»1. Но если автор в вопросе о том, что есть правовая сврбода, отказывается от принципа формального равенства, то он не является сторонником либертарного права понимания
втом смысле, в каком его разрабатывал В. С. Нерсенсяц. Особенно наглядно разногласия В. А. Четвернина и его сторон-
ников с В. С. Нерсесянцем в трактовке принципа формального равенства обнаруживаются в связи с их анализом проблематики социального государства и социальных прав. Вопросы, которые стали предметом спора можно сформулировать так. Соответствует ли социальная политика современного государства (то есть деятельность государства, связанная с регулированием и перераспределением рыночных доходов в пользу социально уязвимых слоев населения) правовому принципу формального равенства? И если да, то в какой мере, в каких пределах? То есть можем ли мы (и если да, то на каких теоретических основаниях) говорить о том, что социальные характеристики современного государства соответствуют принципу права, а не представляют собой отступление от этого принципа по соображениям нравственного или политического характера?
В. А. Четвернин в принципе не признает правовую природу социального государства и социального законодательства2, полагая, что в либертарной парадигме публично-властное перераспределение социальных благ «не может рассматриваться как деятельность, подчиненная правовому принципу, даже если для ее обоснования используется некая идеология прав человека («права человека
1 Там же. С. 573.
2 Так, «сущность социального законодательства, — пишет В. А. Четвернин, — это привилегии, льготы и преимущества, или так называемая позитивная дискриминация» (Cм.: Четвернин В. А. Лекции по теории права. М., 2000. Вып. 1. С. 48).
388
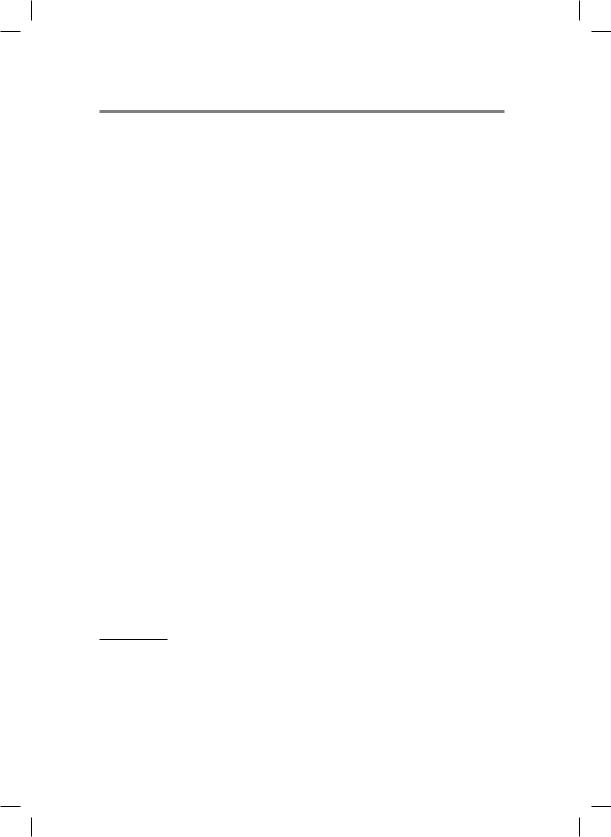
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
второго поколения»)»1. С позиций такого подхода он отрицает не только правомерность социального законодательства, но и правовой характер трудового законодательства, которое, по его мнению, создает «привилегии работников в трудовых отношениях»2, правовой характер антимонопольного законодательства, представляющего собой «следствие страха перед свободной конкуренцией, продукт экономического невежества и ложной интерпретации истории»3.
Особенно выразительно (и здесь надо отдать должное последовательности автора) его позиция проявляется в отрицании им правовой природы дифференцированного налогообложения. При этом речь у него идет не о дифференцированной шкале налогообложения, а вообще о какой-либо дифференциации налогов, поскольку принципу формального равенства в его трактовке соответствует даже не плоская шкала налогов, а единый для всех налог в его абсолютном исчислении4. Эти экстравагантные высказывания не так безобидны в практическом отношении, как может показаться на первый взгляд. Именно на подобную логику рассуждений ссылаются представители той небольшой по численности (но не по влиянию!) группы лиц, чьи интересы, как отмечает депутат Государственной Думы РФ О. Дмитриева, очень хорошо лоббируются в парламенте. В России, говорит она в данной связи, не просто плоская шкала налогообложения, у нас тот, «кто получает доход в виде бонусов, дивидентов, вознаграждений членов советов директоров, вообще ничего не платит в пенсионные фонды. То есть не несет вообще никакой социальной нагрузки. … У нас в стране действует регрессивная шкала, когда богатый … платит существенно меньше в процентном отношении, чем бедный. Когда мы говорим, что это несправедливо,
1Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.
С.533.
2 Там же. С. 601.
3 Там же. С. 605.
4 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003. С. 46, 47.
389
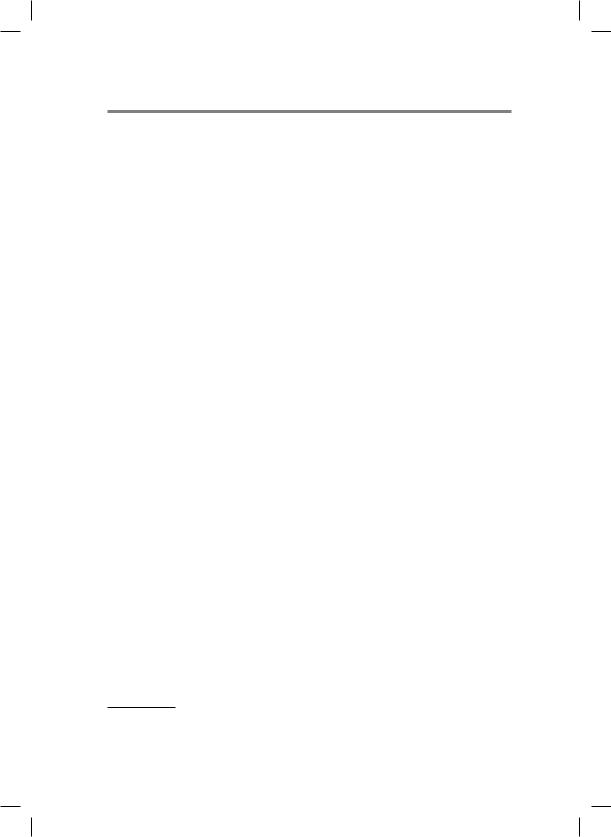
Глава 6. Правопонимание в России
тот, кто лоббирует нтересы этого малочисленного, но очень мощного слоя, отвечает: «Нет, ну как же! В целом же у богатого больше получается, чем у бедного!». Они не проценту смотрят, а по абсолютной величине. Вот так эти интересы лоббируются»1.
Таким образом, формальное равенство выступает у В. А. Четвернина как равенство перед некой единой нормой, правовая природа которой остается за кадром его рассуждений; презюмируется, что эта норма — продукт деятельности неких профессиональных юристов, профессионализму, честности и готовности пренебречь корпоративными интересами которых остается только доверять. С позиций такого подхода не ясно, каким образом установлена, например, та общая для всех планка налогов, перед которой все налогоплательщики должны быть равны. Если бы автор исходил из того, что подобная норма — это результат правотворческой деятельности правового государства, то есть итог сложных согласительных процедур в рамках демократически избранного парламента с учетом всей системы разделения властей, то он должен был бы признать, что никакой нормальный парламент не согласится с таким принципом налогообложения, при котором все платят одинаковую в абсолютном исчислении сумму. Но автор не считает парламент местом, где должны приниматься подобные (на самом деле — важнейшие для общества) решения, полагая, очевидно, это дело «профессиональных экономистов»). На этом примере хорошо видно, что в основе столь оригинальной трактовки В. А. Четверниным принципа формального правового равенства лежит отрицание им ключевого положение либертарной концепции В. С. Нерсесянца — принципа концептуального единства права и государства. Из этого корня (как я покажу далее) растут и все иные расхождения с концепцией В. С. Нерсесянца.
Взгляды В. А. Четвернина и его сторонников по поводу социальной политики государства О. В. Мартышин называет «типичными
1 Интервью с Оксаной Дмитриевой // Новая газета. 2011. 26 окт. С. 10.
390
