
10027
.pdf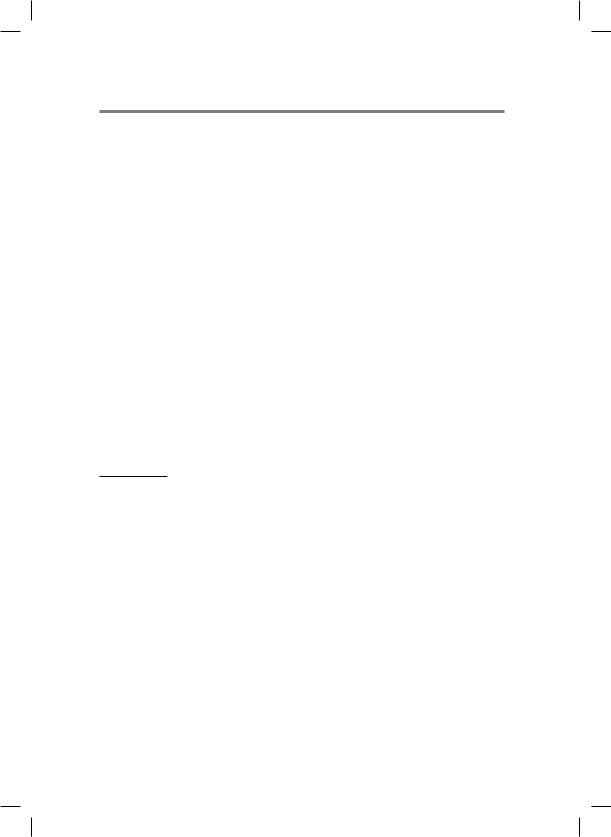
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
защита социальных прав стала реальностью во многих странах мира (не только в России, но и в Германии, Франции и др.)»1. Что касается главного аргумента — отсутствия критерия отграничения в этом вопросе права от произвола, то, на мой взгляд, предложенный В. С. Нерсесянцем принцип компенсаторности снимает подобные претензии, поскольку выводит социальную политику государства из области произвольной благотворительной деятельности и вводит ее в правовое русло, то есть в сферу действия правового принципа формального равенства. В этой связи важно отметить, что использование принципа компенсации как способа устранения фактического неравенства в той мере, в какой это доступно государству на данном этапе его социально-экономического развития, характерно для практики как Европейского Суда2, так и Конституционного Суда РФ3.
Механизм такой компенсации состоит в подтягивании наиболее слабых членов общества к общему стартовому уровню правоспособности, то есть в переводе для этой категории лиц некоторых прав, которые носят для них чисто номинальный характер, в сферу
1 Путило Н. В. Социальные права граждан: история и современностью. М., 2008. С. 134.
2 См., напр.: Постановление европейского суда по правам человека от 12.04.2006 «Дело «Стек и другие против Соединенного Королевства» [рус., англ.] // lawmix.ru›abrolaw/4680. Так, в §66 Постановления Европейский суд отметил, что разница в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин в Соединенном Королевстве изначально возникла в целях компенсации (курсив мой. — В. Л.) недостатков экономического положения женщин. Она продолжала оправдывать себя на этом основании до того момента, как социальные и экономические изменения сделали неактуальным такое отношение к женщинам. Действия государства-ответчика по устранению неравенства в части их своевременности и методов не превысили предоставленную ему свободу усмотрения в этой области». Установление различий в возрасте выхода на пенсию для мужчин и для женщин, говорится в § 61, «должно было исправить «фактическое неравенство» между мужчиной и женщиной и, соответственно, было объективно оправдано в рамках статьи 14 Конвенции».
3 Подробнее см.: Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011. С. 286–302.
431
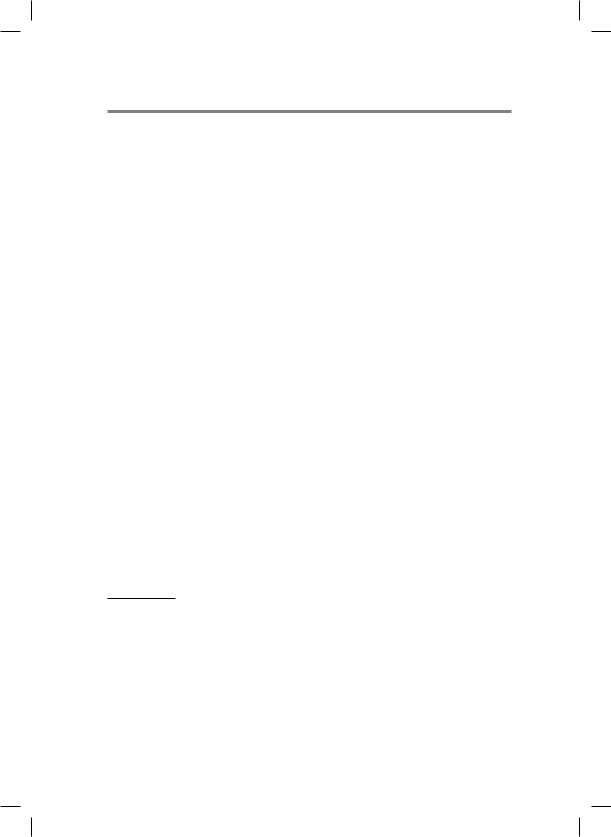
Глава 6. Правопонимание в России
реальных прав. Делается это путем предоставления им соответствующих преференций компенсационного характера. Например, чтобы человек с ограниченными возможностями мог реализовать свое право на образование, он нуждается либо в льготах при поступлении, либо в дополнительной материальной поддержке, либо в создании специальных учебных заведений и т.п. То есть он нуждается в определенной компенсации своей биологической слабости. В противном случае у него будет не право на образование, а, по сути дела, всего лишь «право на право» иметь образование. Таким образом, общество компенсирует социобиологическую слабость представителям неконкурентных социальных групп, подтягивая их к уровню равной правоспособности (или, что то же самое, — к уровню равенства возможностей в правовой сфере).
Правовой смысл подобной компенсации состоит в нейтрализации действия тех фактических привилегий, которые получают на жизненном старте люди, более подготовленные к социальной конкуренции в силу своих исходных социальных или биологических характеристик1. Такая компенсации носит правовой (а не благотворительный, то есть произвольный) характер только в том случае, если она осуществляется в той мере, которая позволяет человеку иметь не только равное с другими право, но и возможность воспользоваться этим правом соразмерно своей воле и своим собственным усилиям. Речь идет о компенсации (в рамках социальной этики она называется «справедливой компенсацией»), полагающейся «только в тех неблагоприятных ситуациях, которые не являются
1 Показательно, что критики социальной политики выравнивания стартовых возможностей отрицают наличие подобных привилегий. Так, например, Ф. Хайек в данной связи замечает: «С некоторых пор мы заменили слово «беднейшие» совершенно бессмысленным словом «непривилигированные». Дискриминацией он считает как раз государственную «попытку помочь беднейшим слоям населения» (Хайек Ф. Указ. соч. С. 424). Между тем с позиций правового подхода принципиально важно, что речь идет не о беднейших, а именно непривилигированных, а точнее — о дискриминированных по сравнению с другими слоях общества.
432
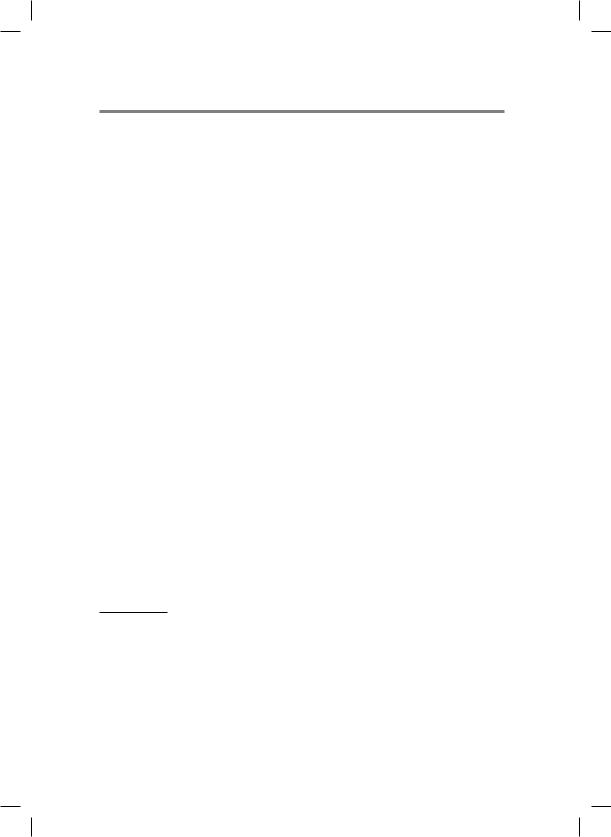
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
результатом свободного выбора самого действующего субъекта»1. При этом, разумеется, не исключены ситуации, когда такая поддержка слабых приобретает характер привилегии. Это происходит в тех случаях, когда объем гарантируемых социальных благ превышает размер, необходимый для подтягивания слабых до уровня, обеспечивающего им возможность реализовать свои права наравне с другими субъектами. Подобная ситуация, которую у нас пока трудно себе представить, уже вполне реальна на Западе, что в значительной мере порождает резкое неприятие идеи социального государства со стороны ряда западных философов и правоведов2.
Поддержка слабых, направленная на подтягивание их к общему уровню стартовых возможностей в сфере реализации их правоспособности, может выражаться не только в предоставлении им определенных преференций, но и в законодательном ограничении более сильных субъектов. Но это должно быть ограничение, направленное на обеспечение формального равенства субъектов правового взаимодействия путем преодоления того, что В. Д. Зорькин называет «ловушкой неравенства»3. Речь идет о ситуациях, когда преимущества более сильных субъектов начинают возрастать за счет накопленных ранее ресурсов независимо от их усилий таким образом, что девальвируют (или вовсе блокируют) личные волевые усилия иных участников процесса. В народном словаре такое положение дел выражено пословицей: «Деньги идут к деньгам». Подобное накапливание преимуществ, не ограниченное должным образом соответствующей законодательной политикой государства, в сфере экономики ведет к концентрации производственных и финансовых
1 Прокофьев А. В. Справедливое отношение к будущим поколениям (нормативные основания и практические стратегии). М., 2006. С. 252.
2 Что касается России, то у нас привилегии получают вовсе не те слои населения, которые относятся к социально незащищенным, а напротив, сильные, активные и организованные нруппы, обладающие финансовыми и административными ресурсами.
3 Зорькин В. Д. Стандарт справедливости // Рос. газета. 2007. 8 июня; Он же. Право — для человека // Рос. газета. 2008. 25 нояб.
433

Глава 6. Правопонимание в России
ресурсов в руках монополий и формированию олигархической экономики, а в области политических отношений (где оно не столь очевидно, но не менее опасно) — к ограничению демократии как системы, основанной на политической конкуренции, к консервации политической власти и к наращиванию авторитарных (а затем и тоталитарных) тенденций.
Наиболее очевидным образом действие принципа накопляемого преимущества проявляется в экономической сфере. И если законодатель не проводил бы политику дифференцированного налогообложения, не принимал бы мер антимонопольного характера, не осуществлял бы поддержку малого и среднего бизнеса и т. д., то рано или поздно действие этого принципа привело бы к жесткой монополизации экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями для иных сфер социальной жизни. Подобная деятельность законодателя по обеспечению нормальной экономической конкуренции носит правовой характер лишь в той мере, в какой она препятствует получению экономически сильными субъектами
таких преимуществ за счет накопленных ими ранее ресурсов (а не за счет собственных усилий, таланта, своего риска или везения как обратной стороны риска), которые способны блокировать волевые усилия других участников экономических отношений. Превышение этой меры означает, что законодательная политика в данной области утратила правовой характер и ориентируется уже не на принцип формального равенства, а на идеи нравственного порядка, на соображения политической целесообразности и т.п. Определить эту тонкую грань между правовым и неправовым решением — задача законодателя, требующая каждый раз творческого подхода.
Не столь очевидно, хотя и не менее опасно, действие принципа накопляемого преимущества в сфере политических отношений. Выразительным примером такого подхода является область законодательного регулирования российской многопартийности и избирательного процесса. Рассматривая ситуацию под этим углом зрения, можно с достаточными основаниями утверждать, что
434
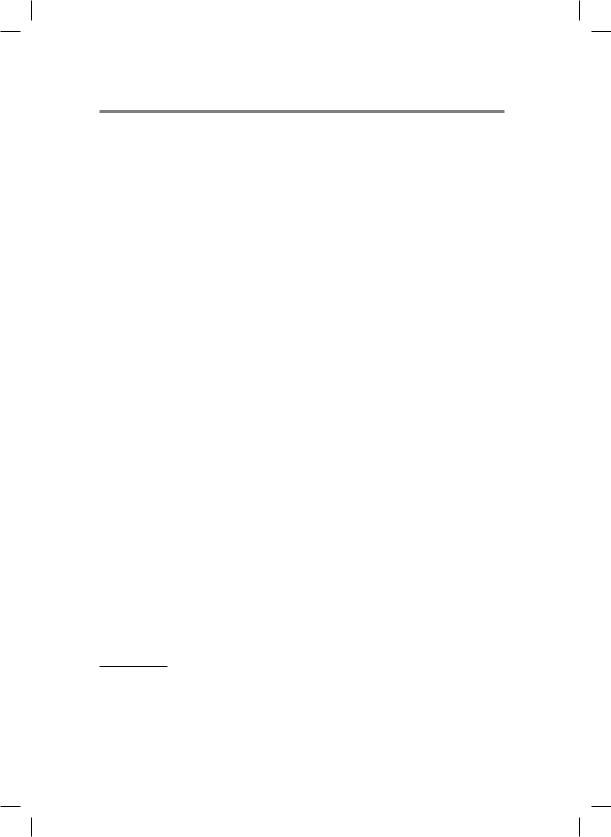
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
все наиболее принципиальные новеллы Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» способствовали созданию преимуществ для партий, которые к этому времени успели закрепиться на политической сцене1. В этом же направлении действуют и нормы избирательного законодательства, которые предусматривают освобождение партий, имеющих фракции в парламенте, от необходимости собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов или вносить избирательный залог; запрет на создание блоков (что позволило бы небольшим партиям сохраниться в политике); необходимость возврата денег за так называемое «бесплатное эфирное время» для партий, не набравших 2% голосов избирателей, и т. д. и т. п. На этом примере хорошо видно, что там, где закон не вводит жесткие правовые требования по уравниванию шансов, в свои права вступает принцип накопляемого преимущества, в соответствии с которым привилегии доминирующих в данном социальном пространстве субъектов обеспечивают для них еще большие привилегии.
Неприятие сторонниками экономического неолиберализма социальной политики государства кроится в их недоверии к государству. Так, по мнению Ф. Хайека, парламент и правительство, «превратившись в благотворительный институт, становятся жертвами неумолимого шантажа. Поблажки разным группам за общий счет, — пишет он, — вскоре перестают быть справедливым воздаянием и становятся политической необходимостью»2. Полагаю, что подобные опасения носят преувеличенный характер. Современные демократические государства имеют достаточно надежные механизмы противодействия шантажу со стороны социальных низов. Важнейшим из них является политическая конкуренция
иобусловленная ею ротация политической власти, позволяющая
1 См.: Лапаева В. В. Споры вокруг закона о партиях. «Демократия» для избранных или общий правовой порядок для всех? // Независимая газета. М., 2001. 12 марта.
2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 424.
435
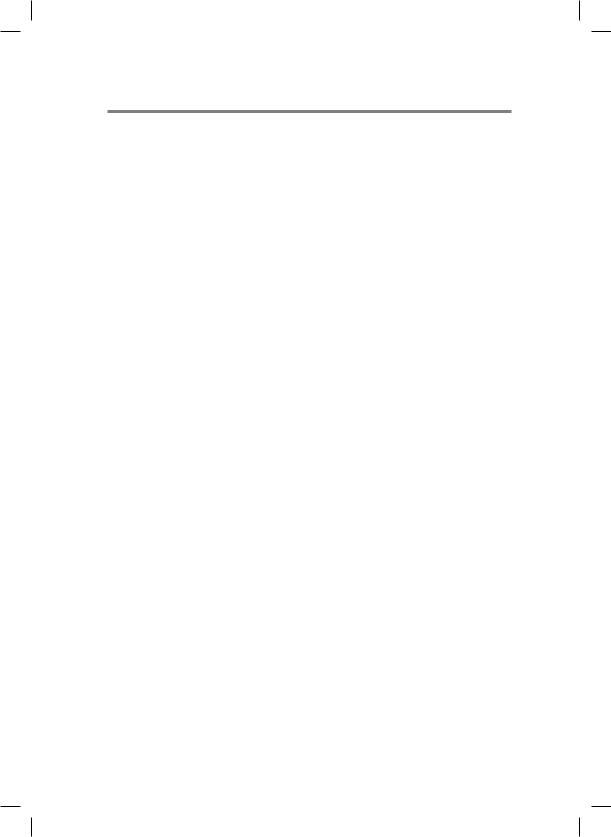
Глава 6. Правопонимание в России
корректировать социальную политику, если она становится тормозом на пути экономического развития.
С другой стороны, когда не сдерживаемое социальной политикой развитие рыночных отношений приводит к монополизации экономики и требует такой корректировки экономической политики в сторону ее социализации, которая уже невозможна без смены властвующей элиты, наличие политической конкуренции позволяет осуществить и такую корректировку. Практика показывает, что подобные политические механизмы обеспечения сбалансированного соотношения конкурирующих социально-экономических стратегий позволяют демократическим государствам справляться с периодически возникающими экономическими кризисами, обусловленными известной цикличностью рыночной экономики, и обеспечивать эффективное экономическое развитие в условиях социальной стабильности. В этом смысле политическая конкуренция, явлющаяся неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, позвояет избегать крайностей циклического развития экономики (в том числе и крайностей, порожденных чрезмерной социальной политикой государства) и обеспечивает гомеостазис экономической системы.
Именно благодаря деятельности соответствующих демократических государственных институтов общество может на каждом новом этапе своего развития определять такие масштабы и направления социальной политики, которые вписываются в границы правового принципа формального равенства. Таким образом, можно сказать, что право и демократия отнюдь не подошли к концу своей Истории. Во-первых, в силу явного несовершенства действующего механизма согласования воль участников политико-правового процесса, а главное — потому, что процесс вовлечения в общественный договор о равноправном доступе к благам новых социальных групп далек от завершения (если вообще он в принципе может придти к своему завершению). А развитие демократии в этих направлениях неизбежно одновременно влечет за собой и прогресс права, потому
436
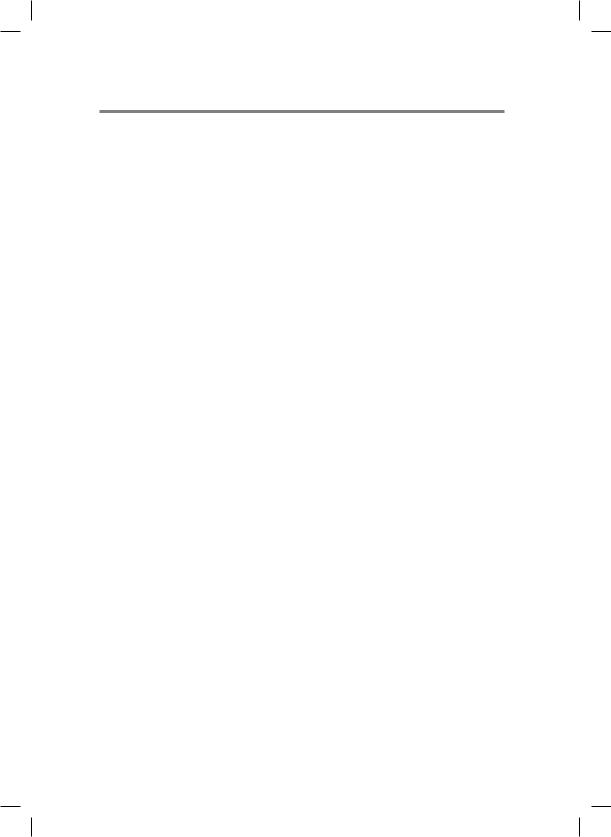
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
что институциональная и нормативная формы свободы — это, как я уже отмечала, две неразрывные стороны одной медали.
По мере политико-правового развития человечества свобода воли человека все в большей степени предстает как его возможность воспользоваться своими правами в меру личных волевых усилий, то есть в меру реализации человеком его сущности как разумного существа, обладающего свободной волей, когда эта воля не деформирована привнесенными обстоятельствами, связанными с давлением чужого произвола или с социобиологической слабостью самого индивида. Это вовсе не означает, что правовая норма утрачивает всеобщий характер. Просто в результате все большей дифференциации правового регулирования в зависимости от степени социальной незащищенности тех или иных слоев общества (что является следствием демократизации политической жизни), сужаются границы, в которых норма имеет всеобщий характер, но суть права как всеобщей меры свободы при этом не меняется.
Для понимания внутренней диалектики развития идеи социального равенства важно иметь в виду, что право как всеобщая форма отношений по принципу равенства может существовать как в масштабах государства, группы государств и человечества в целом, так
ив рамках отношений внутри локальных социальных групп. «Как бы ни был узок этот правовой круг, — подчеркивает в данной связи В. С. Нерсесянц, — право выступает как всеобщая форма, как общезначимый и равный для всех этих лиц (различных по своему фактическому, физическому, умственному, имущественному положению
ит.д.) одинаковый масштаб и мера. … Правовая мера всеобща лишь в тех пределах и постольку, пока и поскольку она остается единой (и, следовательно, равной) для различных объектов измерения (регуляции), в своей совокупности образующих сферу этой всеобщности, т.е. круг различных отношений, измеряемых общей (единой) мерой. Всеобщность эта, следовательно, относительна, — она ограничена пределами действия единой меры в различных отношениях. Само равенство здесь состоит в том, что поведение и положение
437
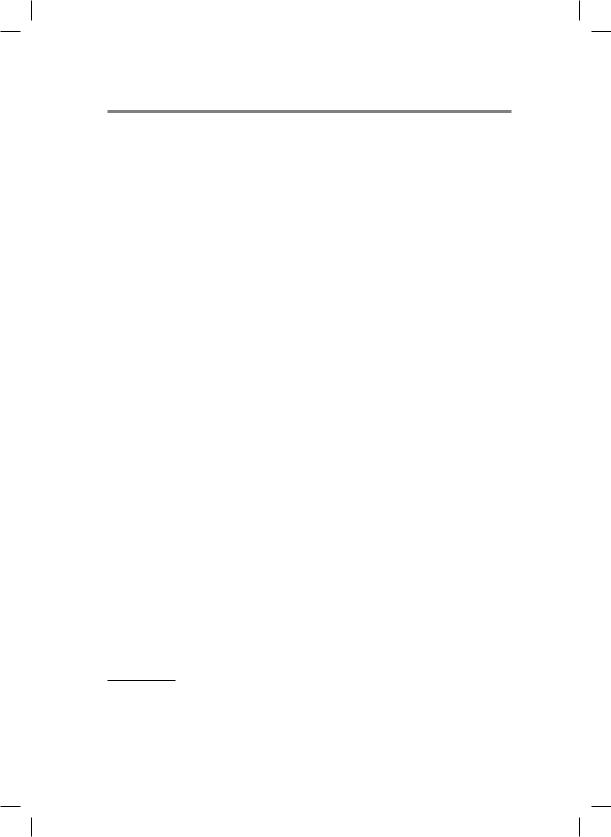
Глава 6. Правопонимание в России
субъектов данного общего круга отношений подпадают под действие единой (общей, равной) меры»1.
В этом смысле история политико-правового развития человечества предстает как диалектически противоречивый процесс унификации и дифференциации сферы свободы в общественной жизни, в основе которого лежит общий принцип универсальности прав человека, выражающий сущность человека как носителя разумной свободной воли. Этот принцип требует, с одной стороны, расширения сферы права и его выхода за национальные границы, а с другой — все большего учета субъективных о особенностей участников правового общения, то есть все большей дифференциации субъектов права по социальным группам с целью выравнивания стартовых возможностей представителей различных групп в сфере реальной реализации ими своей правоспособности. «Прогресс принципа равенства (исторический и логический), — подчеркивает В. С. Нерсесянц, — это движение (историческое и логическое) от хаоса к космосу; это выявление все новых и новых сфер для приложения и экспансии принципа равенства, все новых оснований, вариантов и методов для социального логарифмирования. Этой тенденции к унификации (монолизации) и к единообразию (уравниловке, то есть фактическому равенству), кажется, противоречит тенденция к индивидуализации и многообразию фактических различий (то есть тенденция к плюрализации). … Можно сказать: тенденция к эгалитаризации противостоит тенденции к плюрализации (разнообразия различий). Но это не противоположные тенденции, так как любая плюрализация (и разнообразие различий) протекает в рамках определенного единообразия, одного определенного эгалитарного принципа, определенной униформы, в границах определенного равенства»2. Важно, отмечает он, чтобы при этом принцип равенства в чем-то одном не губил разнообразия в остальном, не
1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 37.
2 Нерсесянц В. С. К праву. О происхождении равенства. Из неопубликованного / Лапаева В. В. Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 3, 4.
438
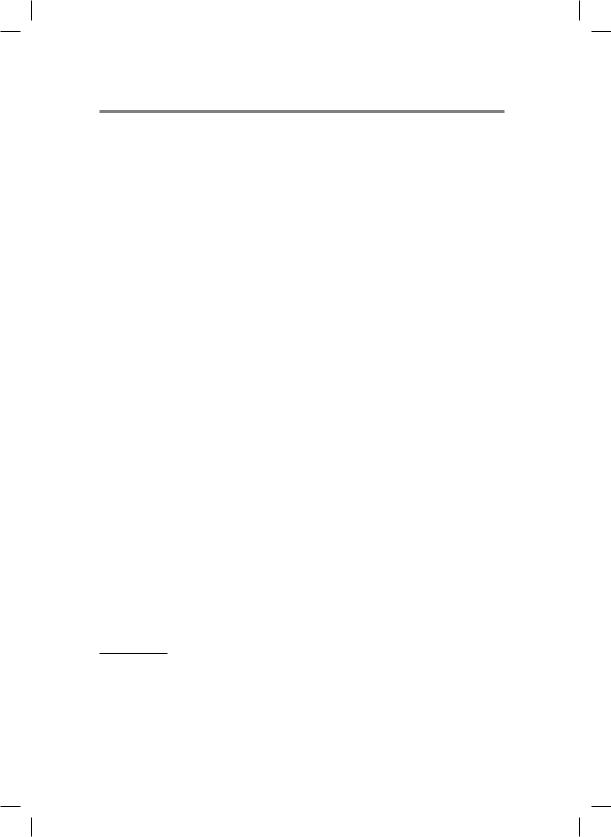
6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания
мешал «проявлениям и функционированию, словом, жизни фактических различий и многообразий»1. Применительно к рассматриваемой нами сфере социальной политики государства это означает, что выявление новых сфер для приложения принципа равенства (то есть все большая дифференциация правового регулирования, позволяющая учитывать особенности новых социальных групп) должно осуществляться в границах принципа компенсаторности. В противном случае это будет создавать привилегии слабым и гасить инициативу сильных и активных субъектов социальных отношений.
Такая «экспансия принципа равенства» носит как интенсивный (направленный на все большую дифференциацию правового регулирования внутри национальных правовых систем под влиянием проводимой демократическими государствами социальной политики), так и экстенсивный (связанный расширением сферы действия правового принципа равенства за рамки национальных государств). Есть основания предположить, что в будущем укрепление демократических начал международного правообразования приведет к распространению идеологии и практики правовой социальной политики на сферу международных отношений. Это значит, что на смену благотворительной по своей природе так называемой «гуманитарной помощи» бедным странам со стороны экономически развитых государств придет правовая компенсация их слабости, позволяющая подтянуть эти страны до того уровня культурного развития, который обеспечил бы их народам возможность использовать свой кльтурный и экономический потенциал в той мере, в какой это допускается достигнутым на данном историческом этапе уровнем глобальной экономики2. Такая тенденция уже
1 Там же. С. 3.
2Полагаю, что именно в таком контексте следует интерпретировать слова
В.А. Межуева о необходимости «достижения культурного равенства (в условиях пока еще сохраняющегося экономического неравенства) в глобальном мире». (См.: Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры.
439
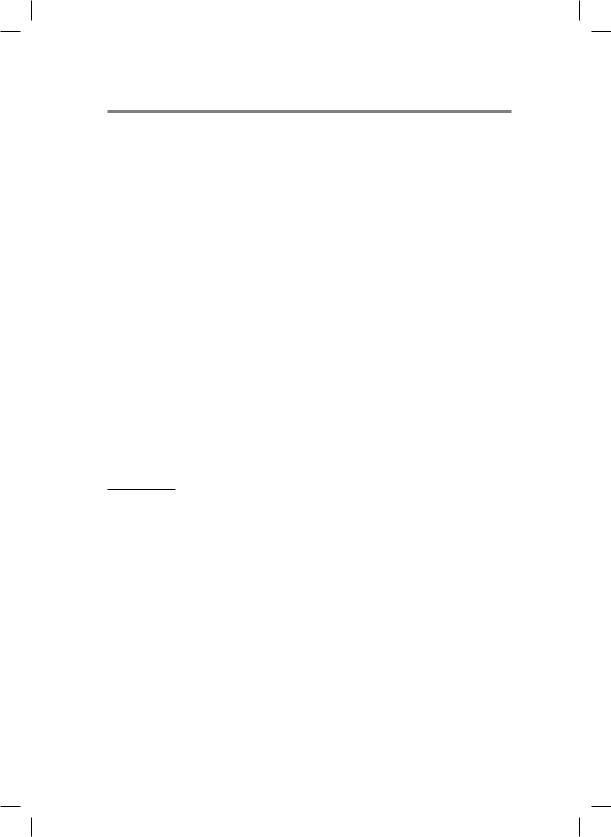
Глава 6. Правопонимание в России
отчетливо проявляется в признании международным сообществом такой разновидности прав тетьего поколения, как право народа на экономическое и социальное развитие, закрепленное в ряде между- народно-правовых документов1.
В работах В. С. Нерсесянца изложенные мною контуры доктрины правового социального государства намечены лишь в самом общем виде. Но они намечены достаточно внятно, что не позволяет интерпретировать его либертарную концепции права в духе рыночного либерализма Ф Хайека и его последователей. Особенно, если понимать, что его либертарная концепция права и концепция цивилизма — это аспекты единой внутренне непротиворечивой теории формального равенства, которая составляет основное содержание научного наследия В. С. Нерсесянца. Проблема философско-пра- вового осмысления концепции цивилизма как логического продолжения и теоретического развития либертарного правопонимания еще ждет своих исследователей. В конечном итоге, речь идет о конкретизации применительного к эпохе постсоциализма социально обусловленного характера формального правового равенства,
которое в трактовке В. С. Нерсесянца предстает не как заданное раз
М., 2006. С. 371). «…Моделью глобализации, соответствующей природе постиндустриального общества, — пишет он, — может быть та, которая предоставляет людям, независимо от их национальности и места проживания, равное право на знание и культуру, обеспечивает их культурный рост и развитие (а, следовательно, и рост их материального благосостояния) в любой точке земного шара. Экономическое равенство людей обеспечивается их культурным равенством, в достижении которого, очевидно, и следует усматривать главную цель глобализации» (Там же. С. 368).
1 См.: Варламова Н. В. Третье поколение прав человека как форма юридизации отношений между социальными общностями // История государства и права. 2009. № 16. С. 43, 44. Правда, сама Н. В. Варламова вполне в духе хайековской версии неолиберализма считает, что «право народа на развитие, в отличие от рассмотренных ранее прав третьего поколения, выражает притязание не на свободу, а на социальную помощь и в этом смысле может быть уподоблено правам второго поколения. Это своего рода коллективное право второго поколения, экстраполяция прав второго поколения на систему международных отношений» (Там же.).
440
