
10027
.pdf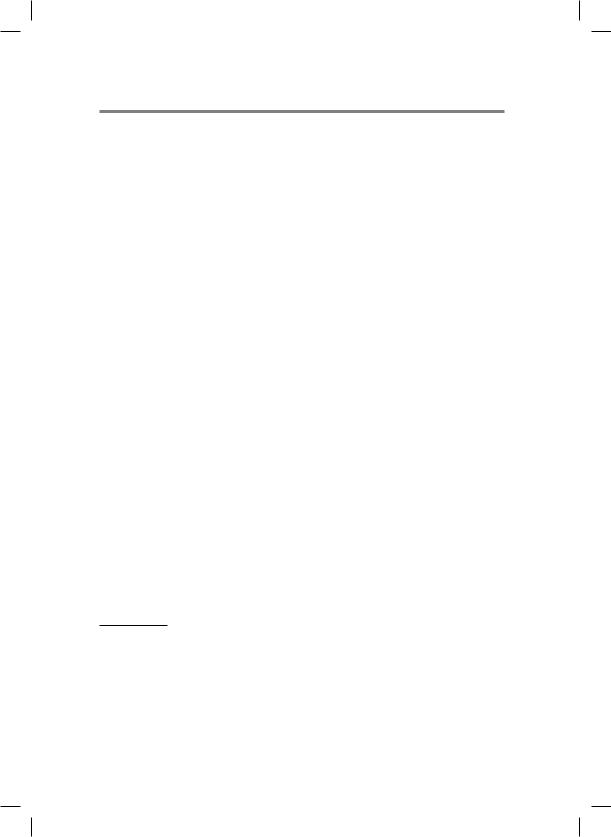
7.3. К дискуссии о правотворческих полномочиях российских судов
источником права, оказывает существенное (хотя и опосредованное) влияние на правовую систему страны.
Данная теоретическая конструкция полномочий Конституционного Суда РФ, с одной стороны, целиком укладывается в конституционную модель разделения властей (избегая недопустимых несогласованностей с текстом Конституции РФ), с другой — ничуть не умаляет творческую роль Конституционного Суда и практическое значение принимаемых им решений. Дело в том, что и оставаясь в пределах толкования, Суд обладает достаточно широкими полномочиями по выявлению подлинного содержания и регулятивного потенциала конституционной нормы в данной исторически конкретной ситуации ее реализации. Привносимый им новый правовой смысл может существенно отличаться от того, который подразумевался законодателем на момент принятия нормы. Важно только, чтобы он оставался в рамках права, а деятельность суда — в рамках принципа «максимум правового начала с учетом реальной возможности его реализации». И даже если будет складываться впечатление, что при этом фактически создается новая норма, Суд должен исходить из допущения (из своего рода юридической фикции1), что он лишь выявляет подлинный современный смысл старой нормы. Иной концептуальный подход, ориентированный на признание правотворческих полномочий Конституционного Суда, не стыкуется с заложенной в Конституцию моделью разделения властей
ичреват привнесением опасного дисбаланса в эту сферу. Реализация такого подхода в российском законодательстве уже
привела к появлению в ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» нормы,
1 Поучительна в этом плане сформировавшаяся в рамках английского права «деклараторная» теория (имеющая характер общепризнанной фикции), согласно которой «решение суда всегда только применяет ту или иную норму существующего права и потому является доказательством ее действительности». — Решетников Ф. М., Апарова Т. В. Предисловие к книге Р. Кросса «Прецедент в английском праве» (Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 18).
521
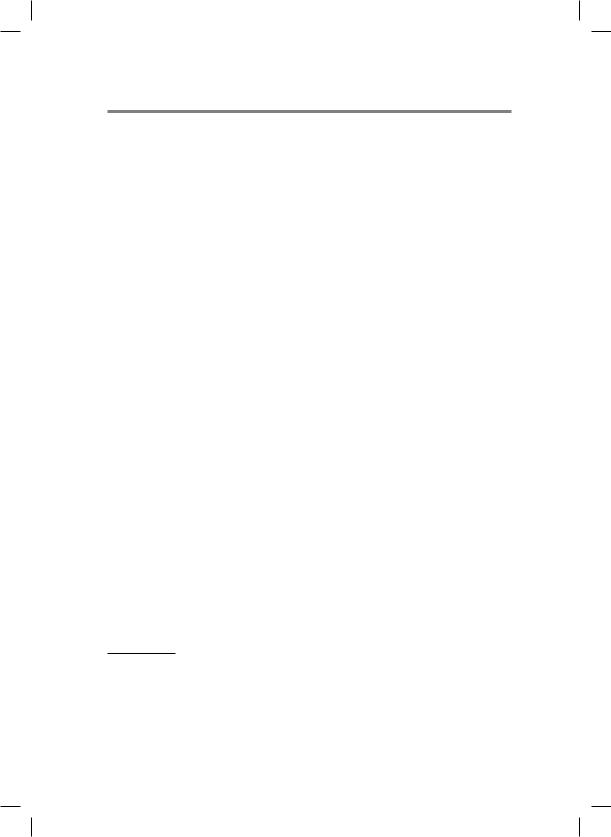
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
согласно которой «юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта». Показательно, что в работе «Правовые позиции Конституционного Суда России», изданной под эгидой Конституционного Суда, Л. В. Лазарев, оспаривая приведенную выше аргументацию В. С. Нерсесянца, указывал на то обстоятельство, что ч. 6 ст. 125 Конституции РФ рассматривается им в отрыве от ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в которой предусмотрено, что юридическая сила решений Конституционного Суда РФ о признании акта о неконституционным «не может быть преодолена повторным принятием этого же акта». Но дело-то как раз в том, что «нормативный характер» решений Суда вытекает лишь из нормы данного закона, а вовсе не из положений Конституции РФ. При наличии такой нормы, которая прямо ставит юридическую силу постановлений Конституционного Суда РФ над законами, приходится согласиться с тем, что в иерархии правовых актов, закрепленной на уровне текущего законодательства, итоговые решения Конституционного Суда РФ «занимают место непосредственно после Конституции» и даже «в определенном смысле по юридической силе приближаются к силе Конституции»1. Однако главный вопрос состоит в том, соответствует ли эта норма положениям Конституции РФ (и, в частности, ст. 10, 94,120 и 126)? Думается, что подобное превращение Конституционного Суда РФ в инстанцию, фактически обладающую правом «последней руки» в законотворческом процессе, ломает закрепленную в перечисленных выше статьях Конституции РФ систему сдержек и противовесов.
1Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2006.
С.47. Кстати, во втором издании этой работы ссылка на ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» как на аргумент в пользу правотворческих полномочий Конституционного Суда уже отсутствует (См.: Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2008. С. 48–65).
522
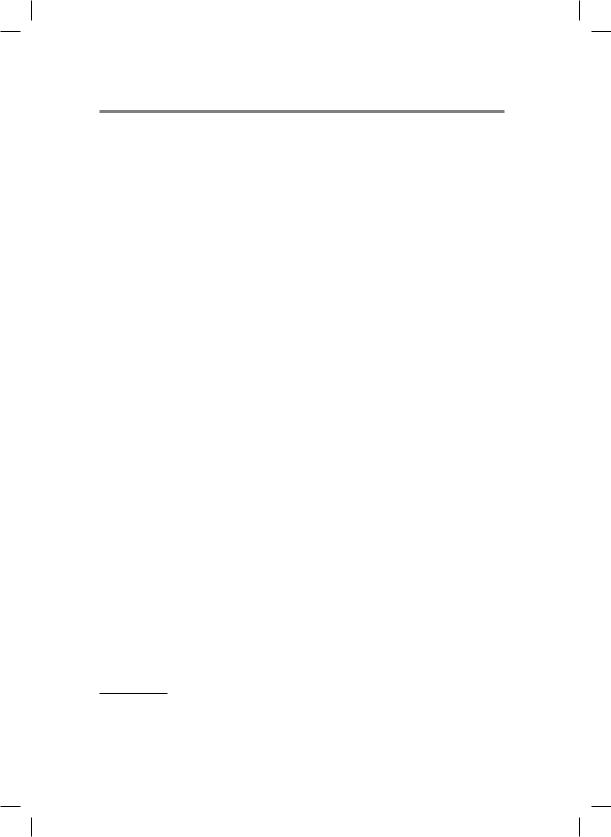
7.3.К дискуссии о правотворческих полномочиях российских судов
Вэтой связи уместно отметить, что, например, в Основном законе ФРГ (п. 2 ст. 94) есть норма, согласно которой федеральный закон устанавливает, в каких случаях решения Федерального конституционного суда «имеют силу закона»1. Таким образом, здесь на уровне Основного закона внесена ясность в вопрос о правовой природе решений Федерального конституционного суда: законодатель придает некоторым решениям Суда силу закона, однако в его власти остается право лишить Суд этой возможности путем изменения федерального закона. Такой подход позволяет сохранить баланс властей. В России отсутствие у законодателя возможности отреагировать на неверное, по его мнению, решение Конституционного Суда РФ означает отсутствие баланса сил между ветвями власти. Конечно, если бы законодатель вдруг не согласился с решением Суда и попытался преодолеть его путем повторного принятия закона, то в стране возник бы конституционный кризис, и государство в лице всех ветвей власти было бы вынуждено искать пути выхода из него. Однако отсутствие у законодателя подобной возможности с теоретической точки зрения чревато еще большей опасностью.
Можно, по-видимому, признать, что мировая практика идет по пути конвергенции романо-германской и англосаксонской правовых систем. Но при этом надо иметь в виду, что каждое демократическое государство сохраняет специфические для своей правовой системы механизмы сдержек и противовесов, обеспечивающие принцип разделения властей и не позволяющие одной ветви власти встать над другими. Так, в Англии, родине прецедентного права, действует доктрина суверенитета парламента, в соответствии с которой «прецедент как источник права подчиняется законодательству в том смысле, что законом может быть отменено действие судебного решения»2. Более того, «для английского суда весьма
1 Конституции государств Европы. Т.1. М., 2001. С. 613.
2 Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 166.
523
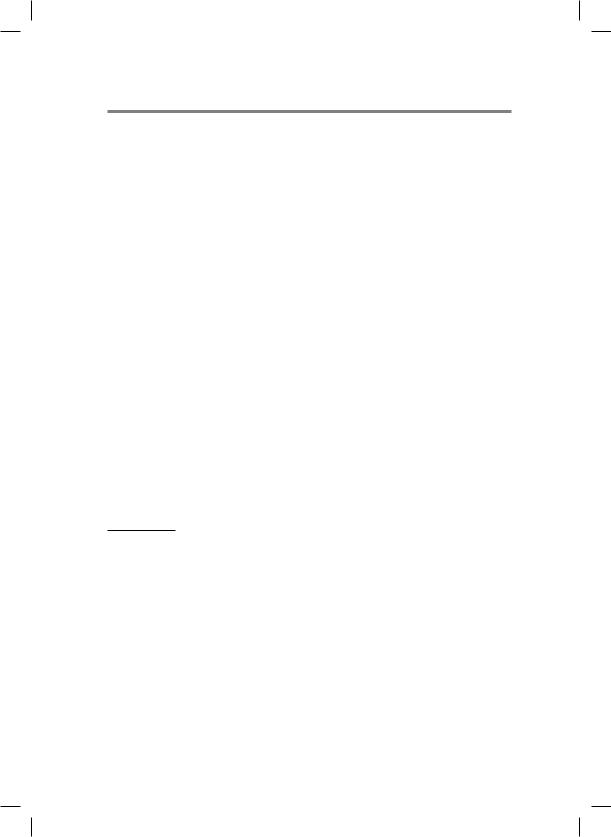
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
проблематична возможность «поставить под сомнение законность парламентского акта даже в случае несоблюдения процедуры прохождения соответствующего законопроекта через обе палаты парламента. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы английский суд начал «проверять законность» парламентского акта с точки зрения содержания, соответствия принципам британского права
ит.п.»1. Наши же сторонники правотворческих полномочий Конституционного Суда выстраивают такую теоретическую конструкцию, которая отдает Суду все преимущества и романо-германской,
ианглосаксонской правовых систем одновременно. Причем, это не просто теоретическая, а уже законодательная конструкция, закрепленная в ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Но такая конструкция, по сути дела, означает, что девятнадцать человек, назначенных Президентом РФ и утвержденных Советом Федерации, могут определять всю законодательную политику (а также и судебную практику2) страны путем выработки положений, обязательных для всех государственных органов и должностных лиц. И очень трудно согласиться с тем, что при таком подходе надлежащим «механизмом, предотвращающим ошибки» Конституционного Суда, может служить отбор юристов, «которые по закону
1 Решетников Ф. М., Апарова Т. В. Указ. соч. С. 7. Известный английский юрист Р. Кросс, отмечая тот факт, что идея подчиненности прецедента законодательству получила признание уже к началу ХIХ в., приводит следующее высказывание судьи Уиллеса, сделанное им в ходе одного из судебных заседаний в 1871 г.: «Вправе ли мы играть роль правителей, разрешающих себе выходить за пределы того, что делается парламентом по согласованию с Королевой, лордами и Общинами? Я полагаю, что такой власти у нас нет» ( Кросс Р. Прецедент в английском праве. С. 166). В связи с этим можно сказать, что в нашей ситуации придание решениям Конституционного Суда статуса источника права, стоящего над законами, фактически превращает его в подобного «правителя», доминирующего над иными ветвям власти.
2 Ведь Конституционный Суд РФ, как известно, выявляет конституцион-
но-правовой смысл нормы, оценивая ее не только буквально, но и по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной практикой.
524
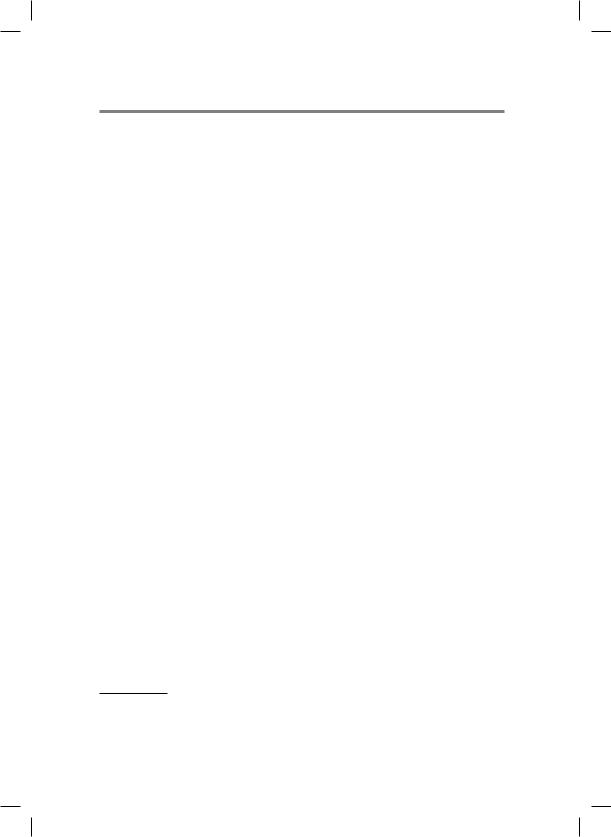
7.3. К дискуссии о правотворческих полномочиях российских судов
должны обладать особыми качествами», а также коллегиальность процесса принятия решений1. Более того, подобный подход опасен и для самого Конституционного Суда РФ, поскольку превращение его в орган, способный окончательно отменить любое законодательное решение как не соответствующее Конституции РФ, на самом деле не усиливает, а ослабляет Суд, провоцируя другие ветви власти к фактическому ограничению его возможностей.
Заметное участие в дискуссии о правотворческой роли судебных актов высших судов принял Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А. И. Иванов, который в серии своих выступлений и статей по этой теме в целом весьма позитивно оценивает наблюдающуюся, по его мнению, тенденцию к усилению прецедентного характера российской судебной системы. Аргументируя свою позицию, он подчеркивает, что «прецедентная система позволяет существенно снизить влияние на судей различных внешних факторов: административного давления, коррупции и так далее. Россия, — говорит он, — огромная страна, и порой очень трудно оценить, принято ли то или иное решение по внутреннему убеждению судьи или под влиянием упомянутых выше внешних факторов. Но всегда можно определить, соответствует ли оцениваемое решение уже сформированной прецедентной позиции»2. По этому поводу Ю. К. Толстой в ходе обсуждения доклада А. И. Иванова на Третьих Сенатских чтениях в Санкт-Петербурге справедливо заметил, что данное предположение, не основанное на каких-либо исследованиях, носит интуитивный характер и вряд ли является верным. Более того, добавил он, законодательная власть, которую отнюдь не следует идеализировать, находится, тем не менее, под более пристальным вниманием и прицелом нашей общественности. К этим соображениям можно добавить и то обстоятельство, что в отсутствии развитых правовых традиций и реальной
1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в.: Взгляд с Ильинки. С. 105.
2 Стенограмма Третьих Сенатских чтений. Санкт-Петербург. 19 марта 2010.
525
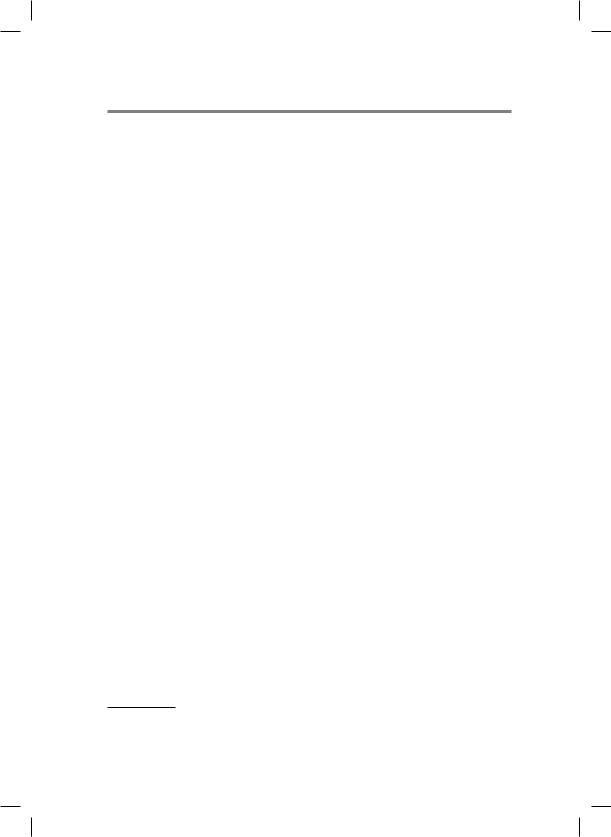
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
независимости суда упомянутая А. И. Ивановым «сформированная прецедентная позиция» вполне может носить неправовой характер.
Другой аргумент А. И. Иванова в пользу включения судебного прецедента в систему источников российского права связан с необходимость обеспечения единообразия судебной практики. В связи с этим он даже высказал крамольную, по его собственному признанию, мысль о том, что принцип правовой определенности (а именно на достижение правовой определенности и направлены руководящие разъяснения высших судов) — «это более высокая ценность, чем независимость судьи»1. На первый взгляд, в этой мысли как раз нет ничего крамольного, поскольку принцип правовой определенности, диктующий необходимость единообразия судебной практики, представляет собой конкретизацию применительно к данной сфере более общего принципа равенства перед законом и судом, который, свою очередь, является формой реализации фундаментального правового принципа формального равенства. Однако, докладчик, по-видимому, и сам хорошо понимает, что данный тезис верен только в том случае, когда речь идет именно о правовой определенности, а не о закреплении сложившейся практики антиправового произвола. В нашей же ситуации сложного и мучительного перехода общества от произвола к праву именно независимость судей служит одной из важнейших гарантией того, что применяемые ими законы носят правовой характер, а их деятельность является правосудной в подлинном смысле этого слова. Как верно заметила в связи с этим Т. Г. Морщакова, подобная определенность хороша лишь тогда, когда «она имеет правовое содержание, а не состоит из неверных решений. Иначе что судья пишет в качестве мотива отказа, когда он единолично рассматривает надзорную жалобу, где гражданин указывает на неправильное решение по его делу? Что устранение ошибок привело бы к нарушению принципа правовой
1 Там же.
526
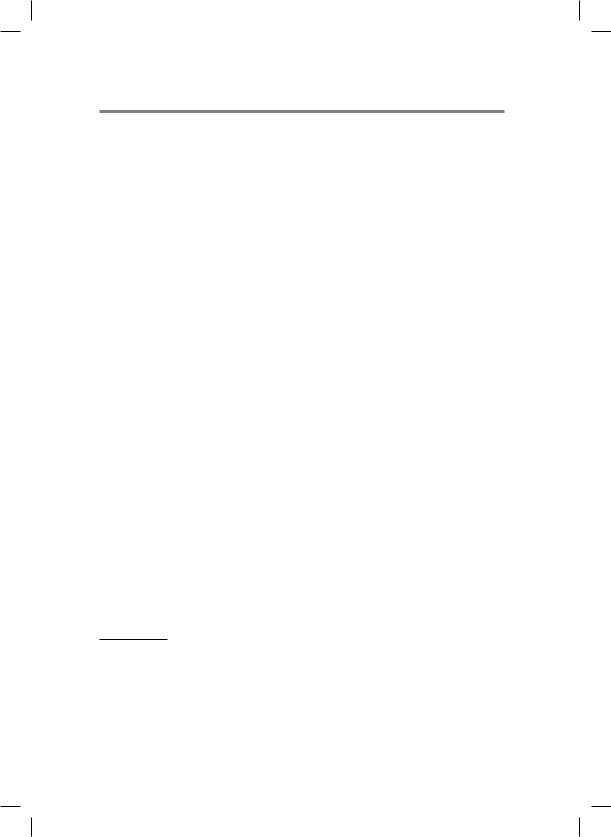
7.3. К дискуссии о правотворческих полномочиях российских судов
определенности?»1. Кроме того, не очень ясно, почему прецедент гарантирует большую правовую определенность, чем закон? Ведь, как отмечает сам А. И. Иванов «судья нижестоящего суда всегда может решить, что рассматриваемое им дело не подпадает под прецедент, сформулированный высшим судом»2.
Гораздо более сдержанную позицию по вопросу о включении судебного прецедента в систему источников российского в целом занимают судьи Верховного Суда РФ. И хотя отдельные судьи поддерживают идею развития в стране прецедентного права3, тем не менее, для Верховного суда РФ как правового института характерен иной подход, нашедший выражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении». Здесь по поводу постановлений Пленума Верховного Суда РФ говорится лишь, что нижестоящим судам «следует учитывать» положениях этих постановлений в своей деятельности. Очевидно, что такая формулировка не предполагает жестко обязательный характер учета постановлений, оставляя простор для дискреции в процессе судебного правоприменения. Кстати, аналогичная формула применена в этом документе также и к соответствующим постановлениям Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. Представляется, что такая правовая позиция более адекватна конституционно-правовой модели разделения властей в Российской Федерации. Правда, при этом остается открытым вопрос: насколько сама практика принятия подобных постановлений, которые если и не формально, то фактически предписывают судьям определенные варианты решения споров о праве, соответствует правовому смыслу ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, согласно
1 Морщакова Т. Г. Интервью газете «эж-ЮРИСТ». Режим доступа:http: // gazeta-yurist.ru›article.php?i=1134
2 Там же.
3 См., напр.: Анишина В. И. Решения российских судов в системе праворегулирования: некоторые проблемы теории и практики // Государство и право. 2007. № 7.
527
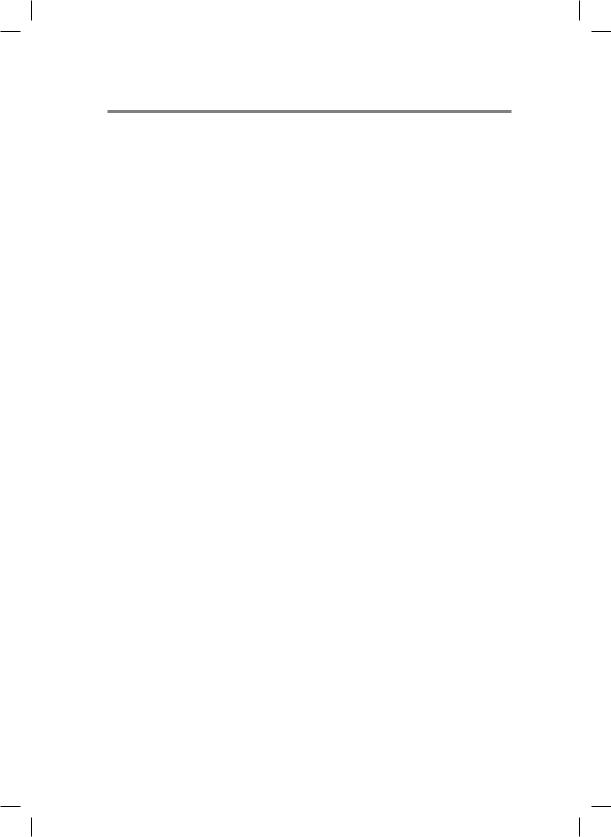
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
которой «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону»?
Возвращаясь к представлениям отечественных либератарианцев
отом, что придание российским судам правотворческих полномочий будет способствовать более полной защите индивидуальной свободы, можно сказать следующее. В деле совершенствования российской правовой системы в целом и системы источников российского права в частности, как и во всяком серьезном деле, самый верный путь является одновременно и самым трудным. В данном случае это путь формирования в России ответственного за свою судьбу гражданского общества, обеспечения конкурентной политической среды, создания парламента способного к нахождению правового (то есть основанного на принципе формального равенства) компромисса социальных интересов, повышения эффективности судебного нормоконтроля и т.д. В конечном итоге речь идет
осоздании условий для максимально возможной реализации в современных условиях классического либерально-демократического принципа участия каждого в решении касающихся его общих дел. Сейчас этот принцип нередко объявляется устаревшим, не соответствующим все более усложняющимся реалиям политико-пра- вовой жизни. Однако отказ или даже отход от него ведет к отказу от единственно возможной формы обеспечения индивидуальной свободы в государственно организованном обществе. Без максимального привлечения каждого человека к участию в решении общественно значимых вопросов индивид неизбежно попадет в зависимость от произвола чиновников, даже если этими чиновниками (то есть должностными лицами, которые не избираются самим населением) будут состязающиеся в суде профессиональные юристы. Реализация воодушевляющей отечественных либератрианцев аристократической идеи «правления судей», повышенный интерес к которой обусловлен вполне понятным разочарованием в современной представительной демократии, означала бы шаг назад в историческом развитии человечества, то есть шаг от права как формы
528
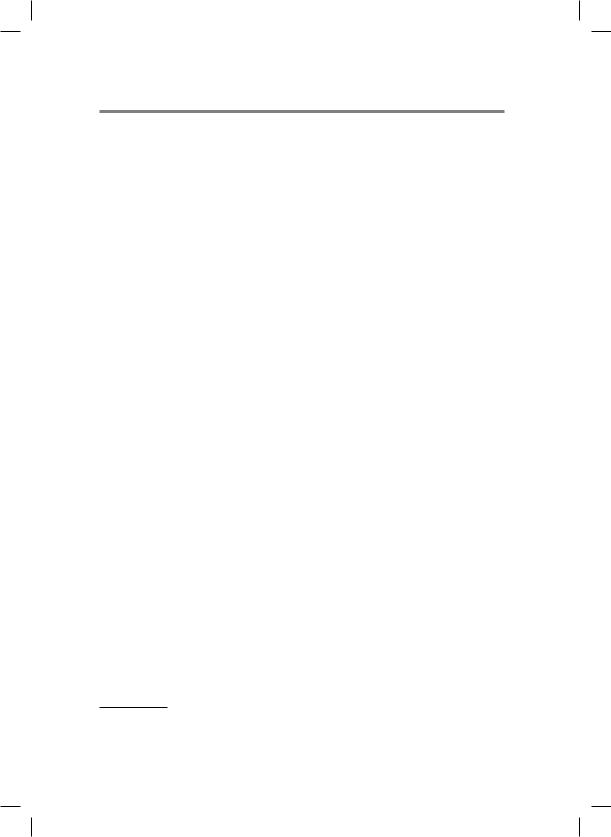
7.4. Перспективы построения правовой демократии в России
выражения равносправедливых и общезначимых начал общественной жизни (пусть еще несовершенных и неразвитых) к сословному принципу управления обществом, неизбежно связанному с неравенством и произволом. Авторитетным предостережением против такого подхода может служить, в частности, следующий комментарий Гегеля по поводу представлений о том, что право могло бы быть лучше осуществлено «юридическими судами, чем другими институтами». Если знание права, писал он, «является достоянием замкнутого сословия, … то члены гражданского общества … удерживаются в положении чужих не только по отношению к наиболее личному и собственному, но и по отношению к субстанциальному и разумному в нем, к праву, и полагаются под опеку этого сословия, даже в своего рода крепостную зависимость от него»1.
7.4.Перспективы построения правовой демократии в России
Основной вектор современного политико-правового развития России задан переходом от традиционного для страны системоцентристского типа общественного устройства, в рамках которого индивидуальная свобода подчинена доминирующему над человеком государственному началу, к человекоцентристской модели общества, базирующейся на принципе приоритета прав и свобод человека. При всех неизбежных трудностях и противоречиях движение нашего общества к свободе исторически предопределено как логикой постсоветской социально-экономической трансформации, так и объективными процессами глобализации, диктующими необходимость универсализации национальных политико-правовых систем на основе цивилизационных достижений западных демократий.
С позиций либертарной концепции правопонимания, в основе которой лежит принцип единства права и государства, право как
1 Гегель Г. Философия права. С. 264.
529
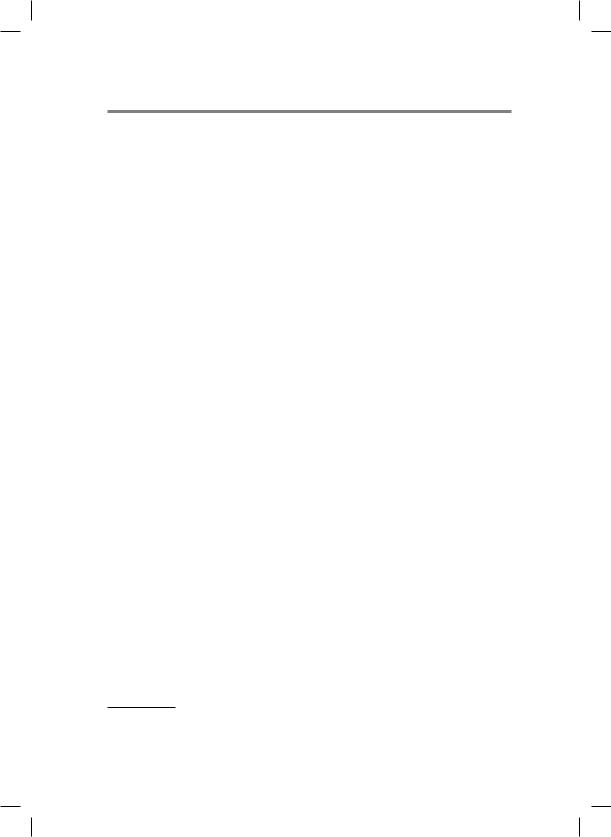
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
нормативная форма свободы невозможно без правовой (то есть либеральной) демократии как системы политических институтов, представляющей собой институциональную форму свободы. Именно такая — либерально-демократическая — модель государственного устройства получила закрепление в Конституции РФ, в рамках которой «нашли свое признание и нормативное закрепление все три основных компонента … правовой государственности — гуманитар- но-правовой (права и свободы человека и гражданина), норматив- но-правовой (конституционно-правовая природа и требования ко всем источникам действующего права) и институционально-пра- вовой (система разделения и взаимодействия властей)»1. Однако в силу ряда причин, о которых речь пойдет ниже, подобная форма государственного устройства в целом не была реализована на практике. Более того, идущие в обществе дискуссии по данному вопросу свидетельствуют о явном разочаровании в идеях либерально-пра- вовой демократии, а политическая практика демонстрирует разобщенность, безыдейность и бессилие на том фланге политического спектра, который должен был бы отстаивать эти идеи. В последнее время принципы приоритета прав человека и либерально-правовой демократии подвергаются все более массированной атаке со стороны целого ряда участников дискуссий о путях развития постсоветской России. В их числе и коммунисты, отстаивающие доминирование коллектива над личностью, и державники, утверждающие приоритет государства над гражданином, и евразийцы, ставящие право народов выше права человека, и Русская православная церковь, провозгласившая на Х Всемирном Русском Соборе, что «такие ценности, как вера, нравственность, святыни, Отечество» стоят не ниже прав человека», и даже известные конституционалисты, полагающие, будто «российская конституционная модель преодолевает западный индивидуализм, соединяя интересы человека и государства, человека и коллектива, человека и общества» и будто
1 Нерсеясянц В. С. Философия права. С. 459.
530
