
10027
.pdf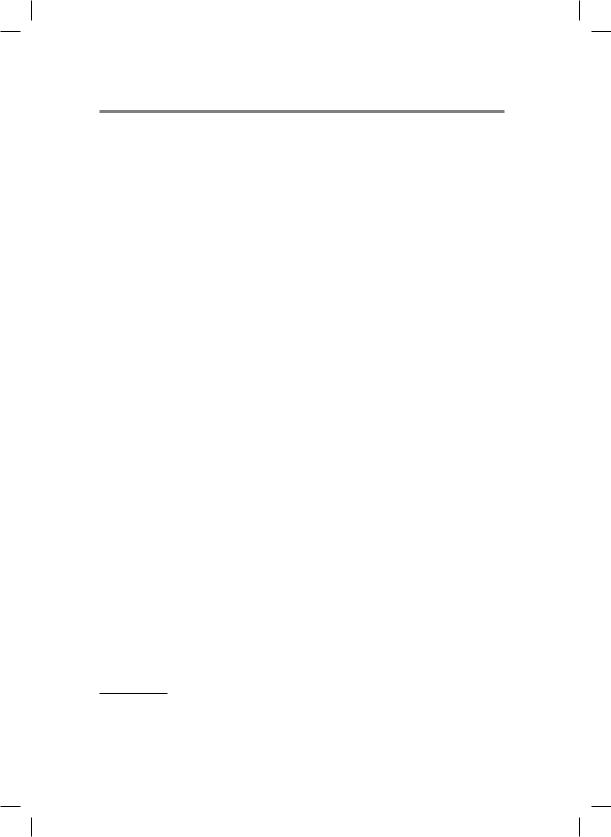
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
продемонстрировавший большой интерес к ней со стороны представителей постсоциалистических государств, конституционные суды которых находятся на переднем крае защиты прав человека в своих странах. И тем не менее приходится констатировать, что уровень теоретического анализа этой проблематики не адекватен особенностям и сложностям правового развития на постсоциалистическом пространстве, обусловленным большим внутренним сопротивлением укоренившегося здесь системоцентристского типа политико-правовой культуры тем глобализационным процессам унификации политико-правовых отношений, которые основаны на человекоцентристской идеологии.
При всем обилии в нашей юридической литературе работ, посвященных правам человека, проблеме критериев ограничения этих прав уделяется весьма незначительное внимание. Это обстоятельство во многом обусловлено давлением системоцентристской правовой традиции, многочисленные приверженцы которой вполне довольствуются распространенными представлениями о том, что конституционные права человека могут быть ограничены федеральным законом, если законодатель посчитает, что такие ограничения необходимы для защиты ценностей общего блага. Во всяком случае, до сих пор не получили надлежащего теоретического анализа те положения Конституции РФ, которые являются в настоящее время сферой пересечения и конфронтации системоцентристской и человекоцентристкой моделей развития отечественной правовой системы. Я имею в виду, прежде всего, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где закреплена возможность ограничения конституционных прав федеральным законом для защиты указанных здесь ценностей общего блага. И хотя Конституция в целом ориентирована на гуманистическое, человекоцентристское правопонимание, по смыслу которого «без свободных индивидов, без прав
права и Конституция Российской Федерации о целях ограничения прав и свобод граждан // Сравнительное конституционное обозрение. М., 2006. С. 101.
471
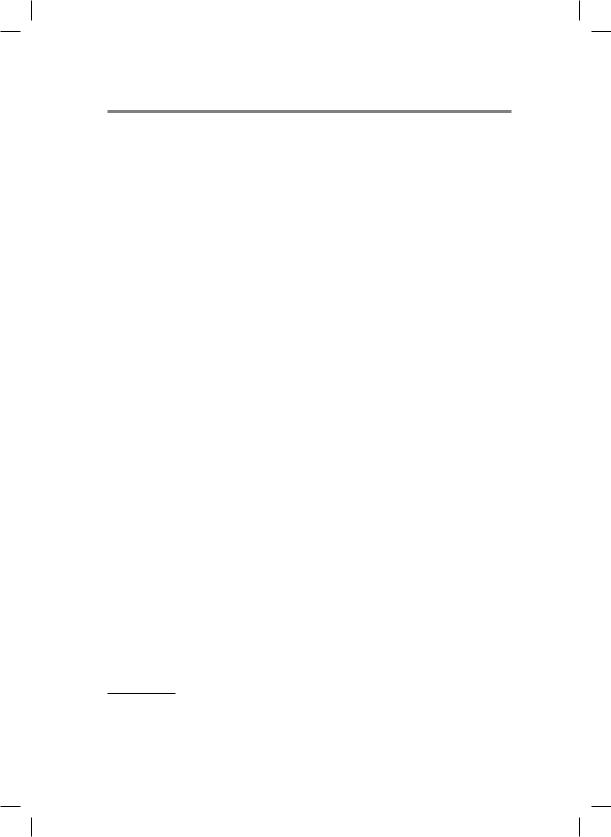
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
и свобод человека невозможно и само право как таковое»1, однако реализация этой интенции конституционного законодателя на практике в значительной мере определяется тем, как федеральный законодатель и правоприменитель трактуют правовой смысл ч. 3 ст. 55, согласно которой «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В зависимости от того, на какую концепцию общего блага ориентированы при толковании данной конституционной нормы правовая теория и практика, мы имеем две принципиально разные доктрины защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. В настоящее время укоренившийся в российской юриспруденции системоцентризм весьма эффективно «переигрывает» на этой площадке и без того не слишком частые попытки выстраивать правовую практику на человекоцентристской основе естественно-правового типа правопонимания. Привлечение к разработке доктрины защиты прав человека либертарно-юридическо- го подхода способствовало бы преодолению ряда трудностей, с которыми сталкивается современная правовая теория и основанная на ней правозащитная практика.
Однако прежде чем перейти к анализу правового смысла ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, необходимо пояснить, почему я связываю проблему ограничения прав человека только со ст. 55 и не рассматриваю при этом ст. 56, где также говорится об ограничении прав человека. Дело в том, что термином «ограничение прав и свобод» в Конституции РФ обозначены разные понятия. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 «права и свободы человека и гражданина могут
1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. С. 684
472
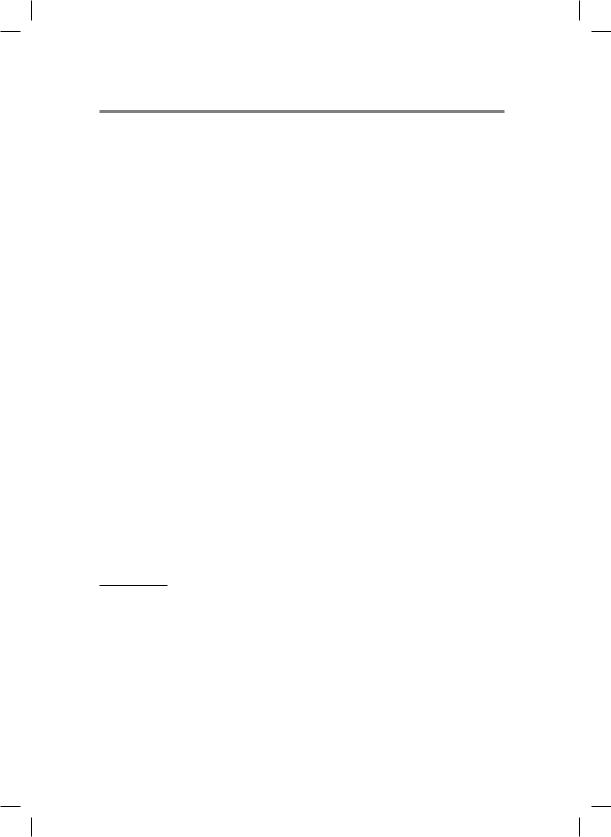
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». А, согласно ч. 1 ст. 56, «в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия». Таким образом, в условиях нормального режима правовой регуляции, не связанного с введением чрезвычайного положения, федеральный закон может ограничивать любые права1 и свободы для защиты весьма широкого перечня ценностей общего блага без указания временных пределов таких ограничений, а в ситуации чрезвычайного положения в соответствии с федеральным конституционным законом2 допускаются лишь отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия, которые могут быть введены для защиты более узкого круга ценностей общего блага. Судьи Конституционного Суда РФ, анализируя нормы Конституции РФ, содержащие термин «ограничение прав», вынуждены характеризовать его неоднозначность как богатство содержания обозначаемых им понятий3. На самом деле, использование в нормативном акте одного и того же термина в разных смыслах является, как известно, дефектом юридической техники. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело
1 Я говорю здесь «любые права» только в том смысле, что в ст. 55 не содержится каких-либо говорок относительно конституционных прав, которые не могут быть ограничены законом. Между тем на основе системного толкования текста Конституции можно выстроить перечень прав, не подлежащих ограничениям в смысле ч. 3 ст. 55.
2 Кстати, в соответствии с этим федеральным конституционным законом такие ограничения вводятся указом Президента РФ, а не федеральным законом, как предусмотрено в ст. 55 Конституции РФ.
3 Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М., 2005. С. 230.
473
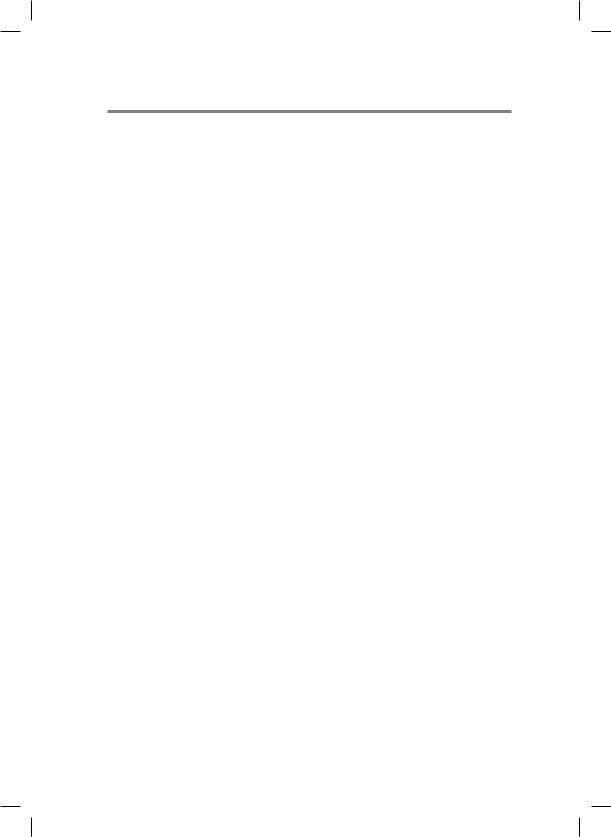
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
с дефектом конституционного текста, создающим проблемы для его толкования.
Истоки этого дефекта обусловлены не вполне корректным, на мой взгляд, воспроизведением в тексте Конституции РФ соответствующих положений международно-правовых документов. Содержащиеся в ряде международно-правовых актов положения, созвучные с нормой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, восходят к п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, где говорится, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
вдемократическом обществе». Таким образом, использование в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ термина «ограничение прав» в целом находится в русле терминологии, принятой в международно-право- вых актах. Иное дело — норма ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, которая была сформулирована под влиянием положения п. 1 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые предусматривают, что во время чрезвычайного положения государства могут при определенных условиях «принимать меры
вотступление от своих обязательств» по данным международным соглашениям.
Всоответствии с такой формулировкой разработчики российской Конституции должны были бы в ст. 56 предусмотреть, что в условиях чрезвычайного положения (когда правовыми средствами невозможно справиться с возникшими чрезвычайными обстоятельствами) государство может на время отступить от некоторых своих обязательств, которые вытекают из конституционных норм, гарантирующих права и свободы граждан, вплоть до изъятия некоторых прав и свобод из конституционного статуса человека и гражданина. По сути дела, речь идет о возможности отмены ряда прав и свобод
474
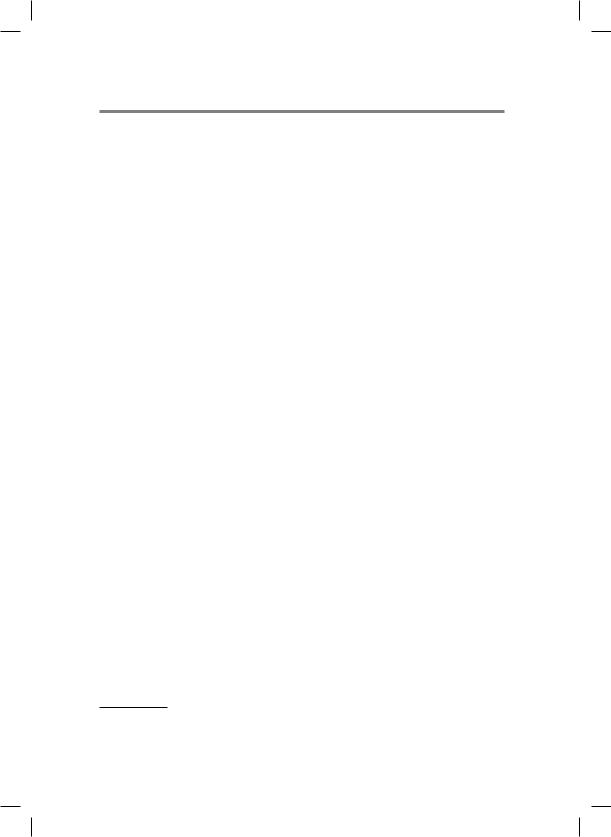
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
в условиях действия чрезвычайного положения. Использовав здесь более мягкий термин «ограничение прав», российский конституционный законодатель отступил от терминологии соответствующих международно-правовых актов. Такое нежелание назвать вещи своими именами привело к тому, что в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ термин «ограничение прав и свобод» используется в смысле, отличном от ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
С учетом сделанных оговорок мы и будем далее рассматривать проблему ограничения прав человека, ориентируясь только на нормы, содержащиеся в ст. 55 Конституции РФ.
В силу неразработанности в отечественной юридической науке данной проблематики основную нагрузку по восполнению этого существенного пробела вынужден был взять на себя Конституционный Суд РФ. В 1993 г., впервые обратившись к проблеме критериев ограничения прав человека, Конституционный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой ограничения основных прав и свобод «возможны только на основании закона, в предусмотренных Конституцией целях и лишь в пределах, необходимых для нормального функционирования демократии». В 1996 г. Суд ввел в свою правовую позицию принцип соразмерности ограничения прав и свобод, который «означает, что публичные интересы … могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны социально оправданным целям». В 1998 г. Суд, по сути, дела, повторил эту же позицию, отметив в своем постановлении, что установление санкции, «ограничивающей конституционное право, должно … быть соразмерно конституционно закрепленным целям»1. Однако в 2003 г. Конституционный Суд существенно уточнил свой прежний подход к данной проблеме, сформулировав следующую правовую позицию: «ограничения конституционных прав … должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда
1 Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 164–168.
475
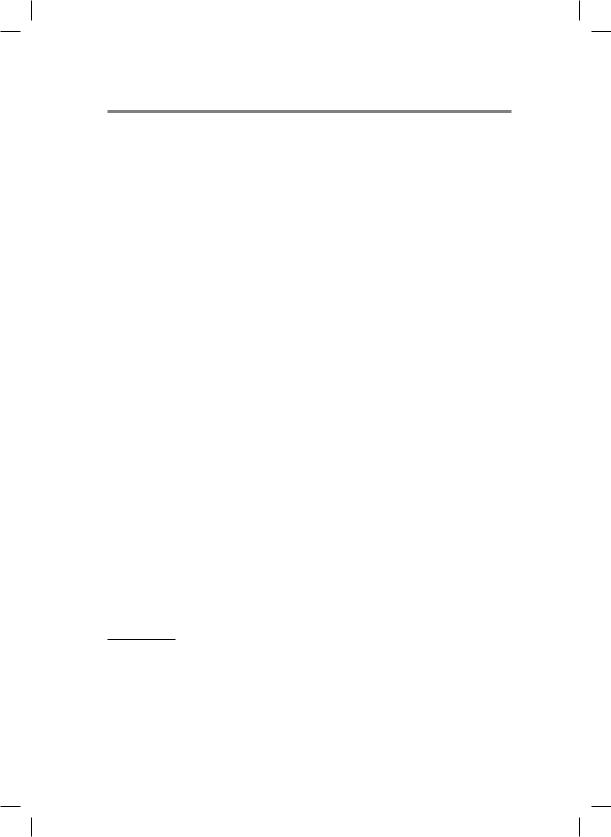
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, то есть не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм…»1.
Если из этого определения выделить так называемый «сухой остаток», то можно сказать, что ограничение конституционных прав человека федеральным законом должно быть осуществлено по основаниям, связанным с защитой конституционно признаваемых ценностей, и в пределах, заданных необходимостью, во-первых, обеспечить соразмерность между ограничением прав человека и защищаемыми при этом конституционными ценностями и, во-вто- рых, сохранить существо ограничиваемого права (то есть основное содержание соответствующих конституционных норм).
1 Абзац 4 п. 3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С. А. Бутмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова.
476
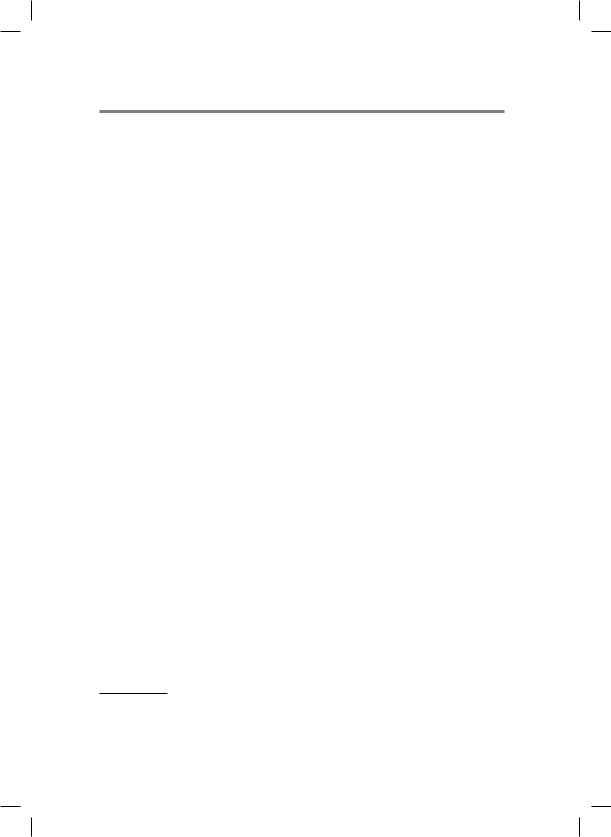
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что не все элементы данной правовой позиции соответствуют тексту ч. 3 ст. 55, где дан лишь перечень оснований для ограничения прав человека, а также указывается на необходимость обеспечения соразмерности между ограничением прав и защитой соответствующих конституционных ценностей. Что касается появившегося в правовой позиции Суда требования сохранения существа ограничиваемого права, то, на первый взгляд, может показаться, что это творческая находка самого Суда, поскольку в тексте Конституции РФ подобное требование отсутствует. Данное обстоятельство создает впечатление, будто «формально законодатель может ограничить то или иное основное право в любом объеме и в результате — выхолостить его содержание»1, лишь бы это было сделано законом и преследовало цели, указанные в ч. 3 ст. 55.
Представление о том, что согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ федеральный законодатель может ограничивать конституционные права для защиты широкого перечня конституционно признанных ценностей, не будучи при этом четко сам ограничен пределами, указанными в Конституции РФ, стало возможным в силу недостаточной юридической корректности формулировки ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. В основе данной формулировки лежит такое прочтении положения п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, которое, на мой взгляд, не в полной мере учитывает конкретно-историчес- кий контекст ее принятии. Ведь из содержащегося здесь тезиса о том, что при осуществлении своих прав и свобод человек может подвергаться ограничениям, которые установлены законом, напрямую вовсе не следует, что закрепленные в Конституции основные права и свободы могут быть ограничены федеральным законом. Дело в том, что когда в 1948 г. государства-члены Организации Объединенных Наций принимали Всеобщую декларацию, тенденция
1Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2004.
С.71.
477
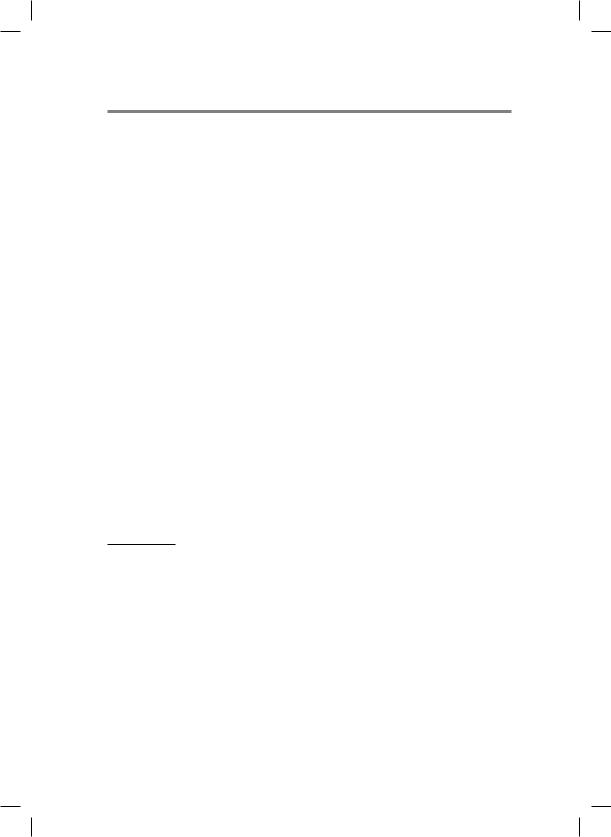
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
к конституционной позитивации основных прав и свобод человека и гражданина еще только зарождалась. Это уже после 1948 г. в подавляющее большинство национальных конституций был включен перечень фундаментальных прав, воспроизводящих положения Декларации1. А на тот момент формула Декларации, согласно которой «каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом», вовсе не имела в виду ситуацию, при которой в конституционные права ограничивались бы нормами текущего законодательства. Слово «закон», судя по всему, использовалось здесь в его общем, родовом значении. При этом, разумеется, не предполагалось, что права, позитивированные на высшем законодательном уровне, могут быть ограничены в нормативных актах более низкого уровня.
Применительно к ч. 3 ст. 55 Конституции РФ это означает, что содержащееся здесь выражение «права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом», не следует понимать буквально. Ведь сказать, что конституционные права можно граничить федеральным законом, — это все равно, что утверждать, будто права, гарантированные законом, можно ограничить подзаконным актом. Очевидно, что если права получают закрепление в Конституции, то и критерии (то есть основания и пределы) ограничения этих прав должны быть заданы самой Конституцией2, а федеральное
1 См.: Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Вступительная статья // Международные акты о правах человека. М., 1998. С. ХV.
2 В связи с этим весьма показательно, что, например, в принятом в 1949 г. Основном законе ФРГ положение п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека было воспроизведено с весьма существенными оговорками. Так, в ст. 19 Основного закона ФРГ обращают на себя внимание два момента. Первый — указание на то, что «какое-либо основное право может быть ограничено законом или на основании закона» лишь постольку, поскольку это предусмотрено в самой Конституции. Второй момент — положение о том, что «существо содержания основного права ни в коем случае не может быть ограничено». Появившееся здесь принципиально важное понятие «существо содержания основного права» подчеркивает связь вводимых федеральным законом ограничений с другими нормами Основного закона ФРГ, в которых раскрыто содержание того
478
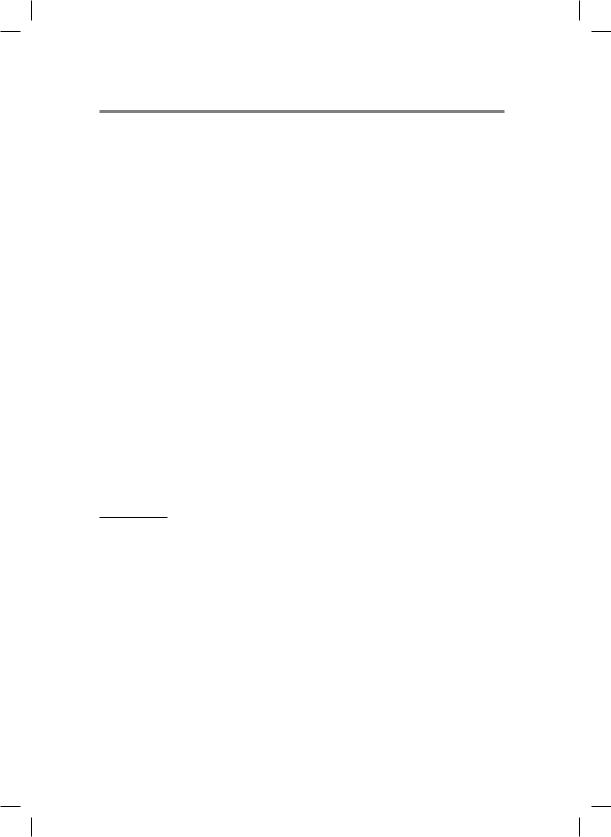
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
законодательство может лишь конкретизировать эти конституционные ограничения, не выходя за их пределы. Только в этом смысле допустимо говорить о том, что конституционные права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом1.
Между тем, Конституционный Суд РФ при формировании правовой позиции по вопросу об ограничении прав человека исходил, судя по всему, из буквального прочтения данной нормы, поскольку из текста данной правовой позиции остается неясным, на какие конституционные нормы опирается принципиально важное требование сохранения существа ограничиваемого права. Отсутствие отсылок к конституционному тексту дает основания предположить, будто Конституция РФ допускает, что основные права человека можно ограничить весьма произвольно (лишь бы это было сделано в форме закона и было соразмерно целям защиты тех указанных конституционных ценностей), и только введение Конституционным Судом требования о необходимости сохранения основного содержания конституционного права выступает барьером на пути этого произвола. Показательно, что, как признаются сами судьи Конституционного Суда РФ, при разработке данной правовой позиции они исходили из практики своей работы и практики Европейского суда по правам человека2.
или иного основного права. Эти нормы и задают те конституционные пределы,
врамках которых может действовать федеральный законодатель.
1 Кстати, именно представлениями о том, что конституционные права человека могут быть ограничены федеральным законом, обусловлена широко распространенная точка зрения, будто ограничение прав и свобод в смысле ст. 55 Конституции РФ является изъятием этих прав и свобод из конституционного статуса человека и гражданина. (Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В. Д. Зорькина. М., 2- изд. 2011. С. 479). Однако в ст. 55 речь идет об изъятиях не из конституционно-правового статуса человека и гражданина, установленных федеральным законом, а из правового статуса в пределах, допускаемых очерченным в Конституции РФ конституционно-правовым статусом человека и гражданина, который не может быть изменен федеральным законом.
2 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке: Взгляд с Ильинки.
С. 311.
479
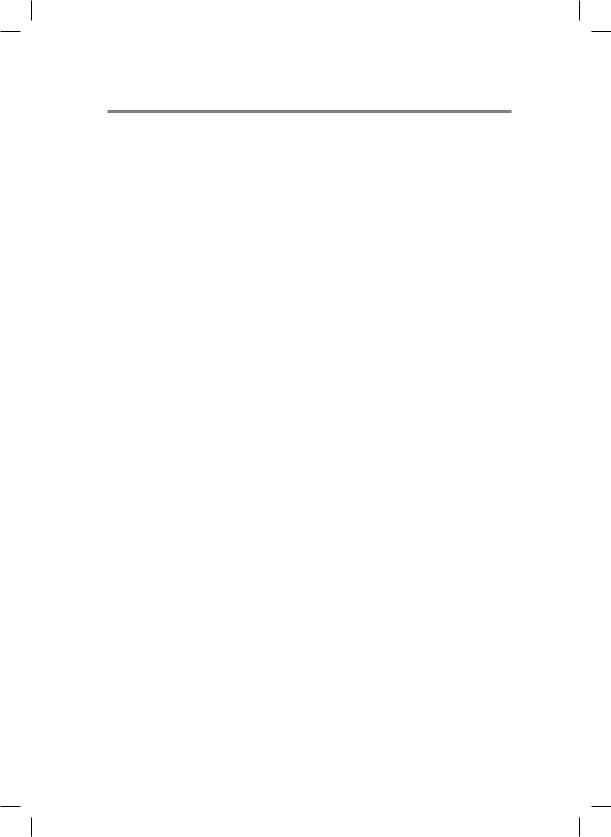
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
Таким образом, получается, что Конституционный Суд восполняет своими решениями пробелы в Конституции без опоры на соответствующие конституционные нормы, осуществляя таким образом функции конституционного законодателя. Между тем Конституционный Суд не обладает подобными полномочиями. Есть принципиальная разница между положением о том, что Суд восполняет пробелы конституционного текста путем его системного толкования, опираясь на правовой смысл тех конституционных положений, регулятивное действие которых распространяется на пробельную ситуацию, и представлениями, будто Суд, используя отсутствующие в самой Конституции принципы и понятия, может регулировать интенсивность вторжения федерального закона в сферу конституционных прав. Во втором случае мы имеем дело с приданием Конституционному Суду РФ не свойственных ему законотворческих функций.
Любопытно отметить, что подобный подход, предполагающий такую свободу судейского усмотрения, которая выходит за рамки конституционного текста, судя по всему, вполне соответствует образу конституционного правосудия, сложившемуся у судей Конституционного Суда. Во всяком случае, напрашивается именно такая интерпретация того образа конституционной Фемиды, который запечатлен на медали, выпущенной в честь двадцатилетия Конституционного Суда РФ. Богиня изображена здесь без повязки на глазах, при этом взгляд ее устремлен даже не на Конституцию, которую она держит в правой руке, а на Весы Правосудия, приподнятые в левой руке прямо до уровня глаз. Думаю, что такое отступление от древней символики чревато существенным искажением глубинного смысла этого сакрального образа. Речь идет не только о беспристрастности правосудия, необходимой при решении любого спора о праве, в том числе и спора, разрешаемого в рамках конституционного правосудия. Повязка на глазах Фемиды — одной из самых древних греческих богинь — несет гораздо более глубокий смысл. Эта повязка является символом внутреннего видения самой
480
