
10027
.pdf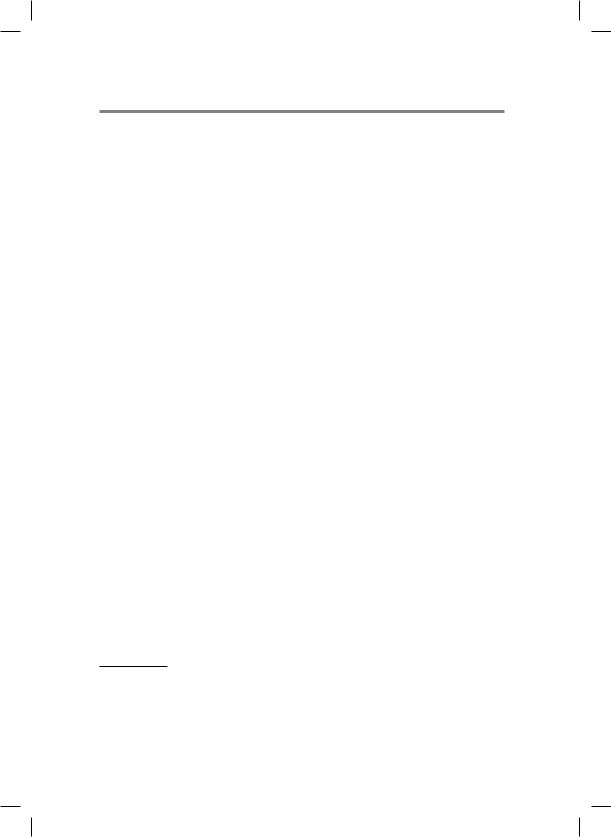
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Возвращаясь под этим углом зрения к проблеме надлежащей правовой интерпретации требования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ о соразмерности между ограничением прав человека и необходимостью защиты такой конституционной ценности, как нравственность, можно сказать, что юридическая конструкция общественно значимого морального вреда позволяет ввести категорию нравственности в правовое русло и дает критерий для соизмерения прав человека с нравственными ценностями лишь
втом случае, если эта конструкция отвечает требованию правового равенства, содержащегося в ч. 3 ст. 17. Только такой подход может обеспечить искомую соразмерность между ограничиваемым правом человека и защитой нравственности, трактуемой в качестве конституционной ценности. И только такой подход надлежащим образом вписывается в системный анализ Конституции РФ, увязывающий положения ч. 3 ст. 55 с правовым смыслом ст. 2, объявляющей права и свободы человека высшей ценностью для государства,
Предложенная логика правового анализа конституционного текста, основанная на человекоцентристском подходе, вполне позволяет при формировании правовой позиции по вопросу о конституционных критериях ограничения прав человека ограничиться правовым смыслом, заложенным в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Однако, поскольку российская правовая практика
вцелом с большим внутренним сопротивлением осваивает человекоцентристскую модель соотношения индивидуальной свободы и общего блага, в правовую позицию Конституционного Суда РФ по вопросу об ограничении прав человека все-таки следовало ввести требование сохранения существа ограничиваемого права. Важно только, чтобы это положение правовой позиции Суда было
дической силой лишь постольку (в той мере и в тех случаях), поскольку соответствуют (не противоречат) правовому принципу формального равенства» (Россия в глобализирующемся мире: Мировоззренческие и социокультурные аспекты. М., 2007. С. 545, 546).
491
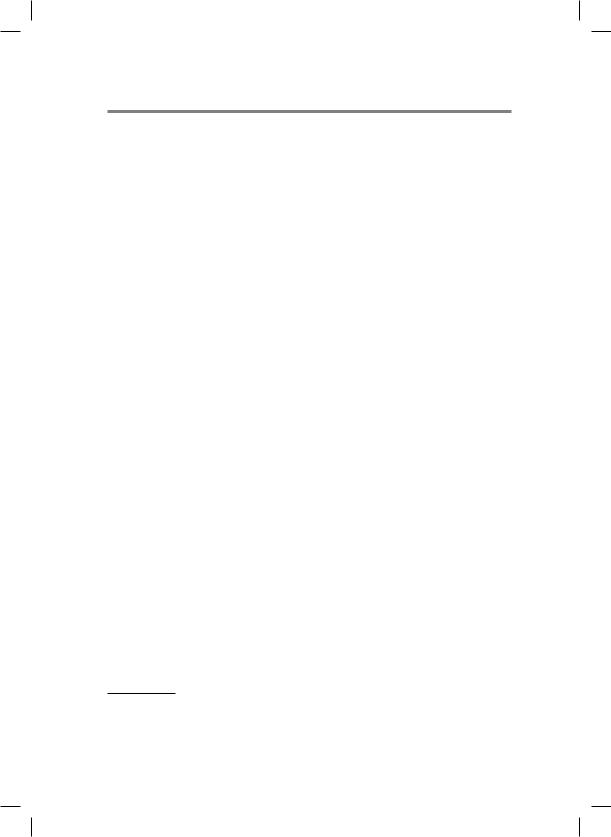
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
увязано с текстом Конституции. На мой взгляд, сформулированный Судом запрет на вторжение в существо права содержится (хотя и в иной формулировке) в ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека
игражданина».
Внастоящее время понятие «умаление прав и свобод» не получило общепризнанной трактовки в теории права. Общественные дискуссии по поводу любого сколько-нибудь заметного уменьшения объема установленных текущим законодательством прав обычно идут в таком диапазоне: на одном полюсе — ссылки на то, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом для защиты конституционных ценностей, а на другом — утверждение о том, что не должны издаваться законы, умаляющие права и свободы.
Правовая позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу, сформулированная в 1995 г., звучит следующим образом: «ограничения прав допустимы в строго определенных статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целях, не могут толковаться расширительно и не должны приводить к умалению других (курсив мой — В.Л.) гражданских, политических
ииных прав, гарантированных гражданам Конституцией и законами Российской Федерации»1. Показательно, что Суд ушел здесь от вопроса о соотношении понятий ограничения и умалений прав, потому что, говоря об ограничении одних прав, он констатирует невозможность умаления других. Между тем соотношение данных понятий должно быть раскрыто применительно к одним
итем же правам. Следовательно, соответствующий тезис должен звучать так: «Ограничение прав человека не должно приводить к их умалению».
1 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда. М., 2003. С. 166, 167.
492
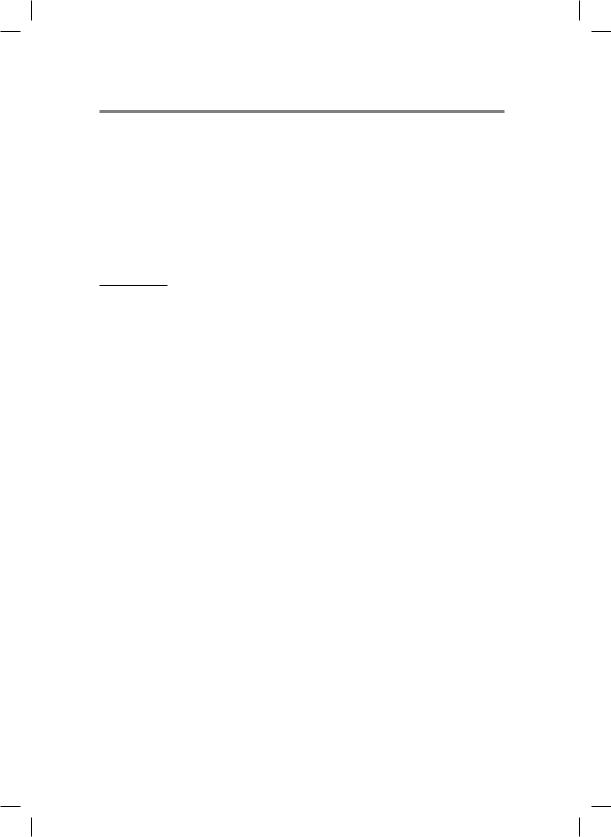
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Внаучной литературе понятие умаление прав часто трактуется как их неправомерное1 или чрезмерное2 ограничение. На мой взгляд, такой подход не соответствует ни лингвистическому значению слова «умаление», ни конституционно-правовому смыслу понятия «умаление прав». С точки зрения филологии достаточно очевидно, что умаление — это не уменьшение количественного объема чего-либо, а принижение чего-то высокого, уменьшение его значения, роли, ценности и т.п.3 Когда мы говорим об умалении, то имеем в виду
1 Например, М. В. Баглай трактует норму ч. 2 ст. 33, запрещающую отмену или умаление прав и свобод, как «правило, которое указывает на невозможность принятия законов, попирающих права и свободы без всяких оснований» (Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1997. С. 165). Однако это не соответствует тексту данной нормы, по смыслу которой эти права и свободы нельзя отменять или умалять ни по каким основаниям (случаи, когда отмена или умаление прав и свобод возможны, специально оговорены лишь в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ применительно к условиям чрезвычайного положения). Г. А. Гаджиев полагает, что закон может ограничивать основные права и свободы в той мере, в какой это необходимо для защиты ценностей, перечисленных в ч. 3 ст. 55, а «если закон ограничивает права и свободы без учета указанных целей или не в той мере, в какой это необходимо, то имеет место умаление прав и свобод» (Гаджиев Г. А. Основные экономические права (сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России
изарубежных стран): Автореф. дисс… д-р. юрид. наук. М., 1996. С. 13). Эта позиция сохранилась и в более поздних работах автора.
2 Так, Б.С Эбзеев рассматривает умаление прав как «сужение пределов прав
исвобод, как они зафиксированы в Конституции, если для этого нет установ-
ленных в самой Конституции оснований, уменьшение материального содержания основных прав, объема социальных, политических и иных благ, причитающихся их обладателю, минимизация гарантий прав и свобод …» (Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд. М., 2011. С. 478). На мой взгляд, Б. С. Эбзеев очень близко подходит к пониманию умаления прав как вторжения в их содержание. Однако, не имея теоретической концепции содержания (сущности) права, он останавливается в этом вопросе на полпути.
3 Показательно в этом плане то обстоятельство, что в ст. 21 Конституции РФ, согласно которой «ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности», этот термин сопрягается с таким ключевым для концепции естественных прав понятием, как достоинство человека. Фундаментальное значение категории «достоинство человека» как основы всей системы его естественных прав закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека,
493
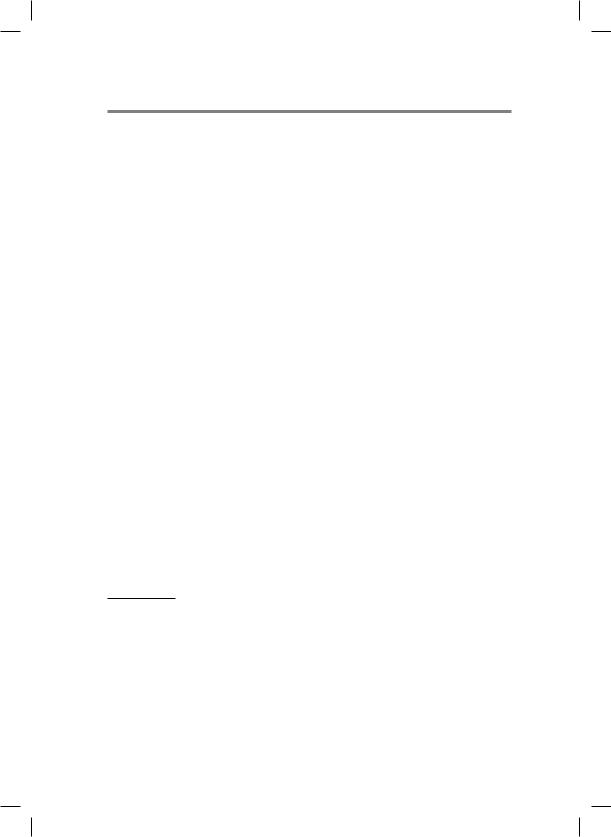
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
изменение не количественных, а качественных характеристик объекта. Поэтому термин «умаление» означает принижение значения основного содержания этих прав, «законодательное установление
всфере соответствующих прав свободы меньшей, чем необходимая с точки зрения основного содержания этих прав и свобод»1. В конечном итоге, речь идет о вторжении в содержание права.
Разница между умалением и ограничением прав определяется, на мой взгляд, тем, происходит ли при этом вторжение в само содержание права или речь идет лишь о регламентации внешних способов проявления этого содержания. Для уяснения этой разницы важно иметь в виду, что под ограничением прав человека понимается не ограничение свободы как содержания того или иного права, а ограничение условий и пределов реализации этой свободы в соответствующей сфере общественной жизни (то есть ограничивается не сама свобода как благо, предоставляемое тем или иным правом, а продолжительность, полнота и качество пользования ею2). Для вторжения
всферу свободы (то есть в сферу формального равенства субъектов права), составляющую сущность и содержание прав человека,
вКонституции РФ и используется термин «умаление права». Таким образом, ограничение права касается лишь меры свободы, предоставляемой в распоряжение того или иного субъекта права, а умаление права означает посягательство на саму свободу как таковую. С позиций такого подхода можно сказать, что положение ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, запрещающее издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, несет на себе
которая гласит: «Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира». В свете этого очевидно, что положение ст. 21 Конституции РФ предусматривает, что нельзя игнорировать значение права на достоинство как критерия меры свободы человека и основы всей системы его естественных прав.
1 Конституция российской Федерации. Проблемный комментарий / Под ред В. А. Четвернина. М., 1997. С. 31.
2 Беломестных Л. Л. Ограничение прав человека. М., 2003. С. 8, 9.
494
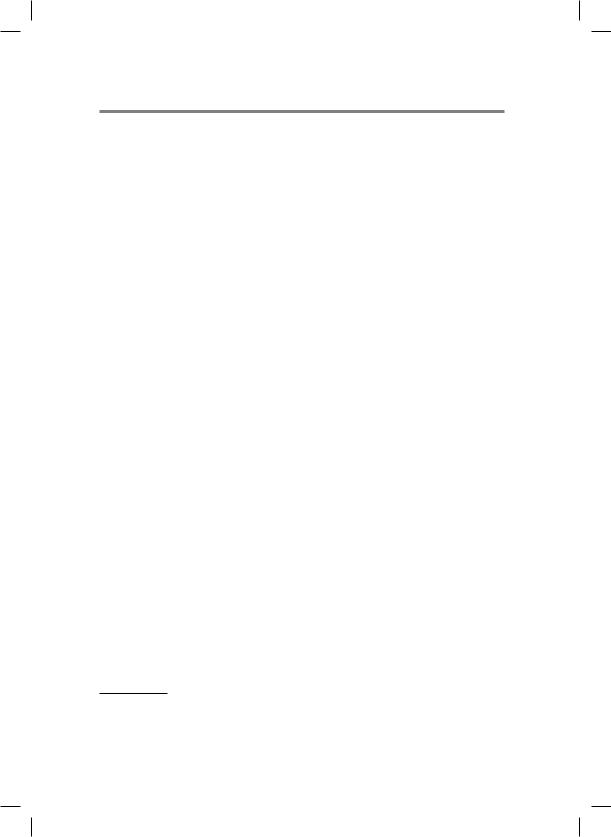
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
ту же смысловую нагрузку, что и норма ст. 19 Конституции ФРГ о том, что законом нельзя затрагивать существо содержания основного права. Закон, затрагивающий и искажающий существо содержания (то есть сущность) права, перестает быть правовым законом. Именно в этом смысле В. С. Нерсесянц трактует норму ч. 2 ст. 55 как «прямой запрет антиправового (правонарушающего) закона1.
Такая теоретическая конструкция позволяет ввести в границы конституционного текста исключительно важную правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой ограничения федеральным законом конституционных прав и свобод не должны затрагивать само существо конституционного права. Однако соответствие правовой позиции Суда букве Конституции, еще не гарантирует соответствие ее духу, то есть заложенному в ее основу правовому смыслу. Здесь многое зависит от того, что понимается под существом (то есть сущностью) права. Ведь если у судей Конституционного Суда нет опирающейся на положения Конституции теоретической позиции по вопросу о сущности права, то само по себе требование не вторгаться в существо права, сформулированное в правовой позиции Суда, не станет гарантией против произвола со стороны государства.
Для демонстрации трудностей, с которыми сталкивается конституционное правосудие в отсутствии надлежащей теоретической концепции сущности права, можно сослаться на рассмотрение Судом вопроса о численности политических партий в Российской Федерации. Среди отечественных конституционалистов бытует представление, что данная проблема носит сугубо количественный характер и никак не связана с содержанием права на политическое объединение. Между тем количественный, на первый взгляд, вопрос о допускаемой законом численности партии — это, по сути дела, вопрос о качественных характеристиках российской партийно-
1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. С. 688.
495
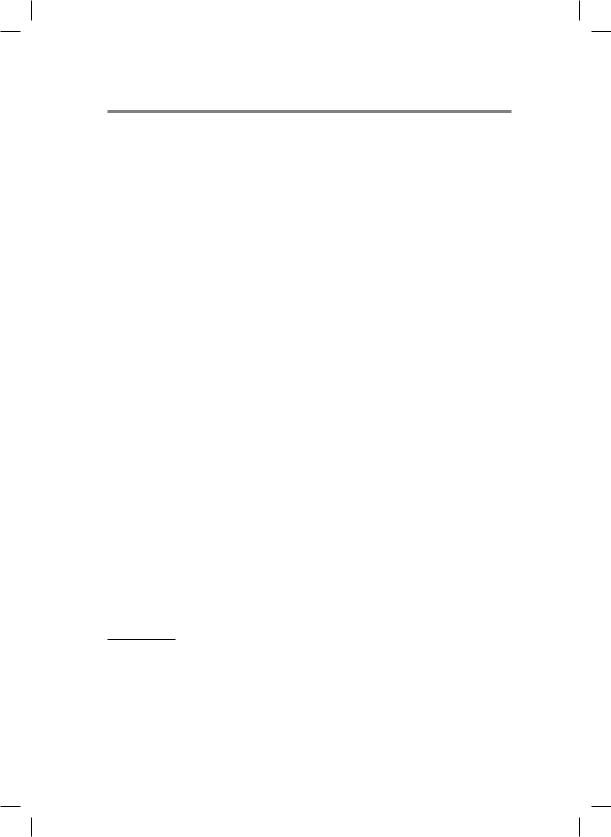
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
политической системы, а значит, и отечественной демократии в целом. История решения этого вопроса в российском законодательстве последних десятилетий красноречиво отражает наиболее значимые этапы развития отечественной многопартийности (а, соответственно, и всей политической системы) в постсоветский период. Практика убедительно показала, что от законодательной планки численности политических партий во многом зависит, являются ли партии результатом самоорганизации общества в условиях свободной политической конкуренции или это организации, которые могут создаваться и функционировать лишь при поддержке со стороны государственной власти и связанных с нею бизнес-структур. В конечном итоге речь идет о том, какую демократию мы строим — правовую или управляемую. Очевидно, что проблема такого рода и такого уровня носит качественный характер и относится к правовой сути дела. Об общественной значимости этой проблемы свидетельствует уже тот факт, что Конституционный Суд вынужден был дважды обращаться к ее рассмотрению.
Первый раз, когда оспаривалась планка численности в десять тысяч членов, Суд, отметив, что численный состав партии не должен быть чрезмерным, чтобы не посягать «на само существо (основное содержание) права граждан на объединение»1, связал существо права на политическое объединение со своеобразно трактуемым им принципом многопартийности. «Количественные критерии, — отмечается в Постановлении Суда, — могут приобрести неконституционный характер в том случае, если результатом их применения окажется невозможность реального осуществления конституционного права граждан на объединение в политические партии, в том
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона “О политических партиях» в связи с жалобой общественно-политической организации «Балтийская республиканская партия”» (п. 4 мотивировочной части Постановления) // Рос. газета. 2005. 8 февр.
496
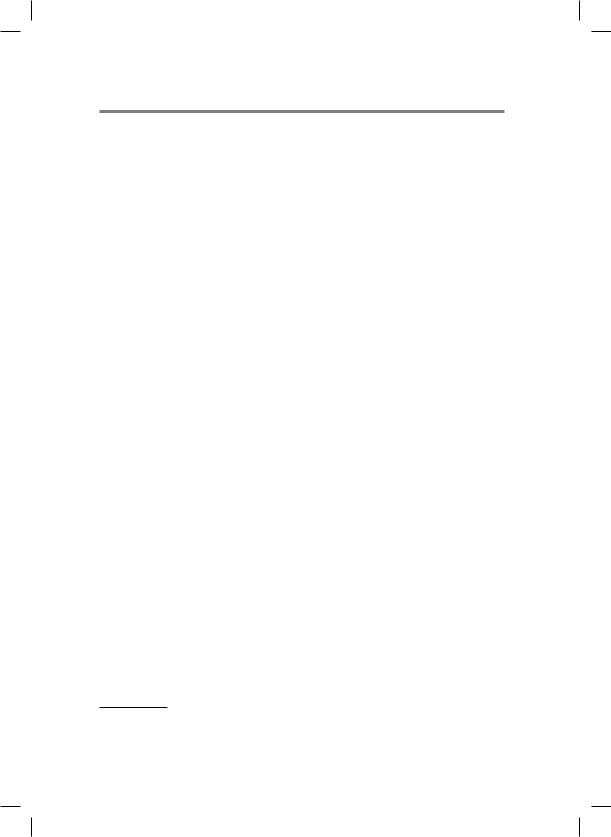
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
числе, если — в нарушение конституционного принципа многопартийности — на их основании будет создана лишь одна политическая партия»1. А поскольку после повышения численности партий
встране осталось больше, чем одна партия, то, по логике Суда, данная норма не привела к ограничению права граждан на объединение в политические партии.
По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, «невозможность реального осуществления конституционного права» означает лишение права, а вовсе не его ограничение. Ситуация, когда в стране действует одна партия — это как раз ситуация отсутствия права на политическое объединение. Во-вторых, нарушение конституционного принципа многопартийности может произойти не только тогда, когда «будет создана лишь одна политическая партия». Конституирующим признаком многопартийности является не множественность партий (истории известны режимы фактической монополии одной партии при формальном существовании в стране иных партий), а наличие реальной политической конкуренции, то есть возможности ротации правящих партий. Главный показателем того, что в стране есть реальная многопартийность, — существование такой политической оппозиции, которая имеет шансы победить на выборах (или хотя бы наличие правовых условий для появления такой оппозиции). И именно в этой ситуации, то есть при наличии реальной политической конкуренции, можно говорить об ограничении, а не о лишении, права на политическое объединение и рассматривать вопрос о том, происходит ли при этом вторжение
всущество права. Например, у граждан может быть право на политическое объединение в уже существующие крупные партии, но они будут ограничены в своем праве на создание новой партии или на сохранение малочисленной партии. И весь вопрос в том, в каких пределах такие ограничения можно считать правомерными, то есть не затрагивающими существо права на объединение в партию.
1 Там же.
497
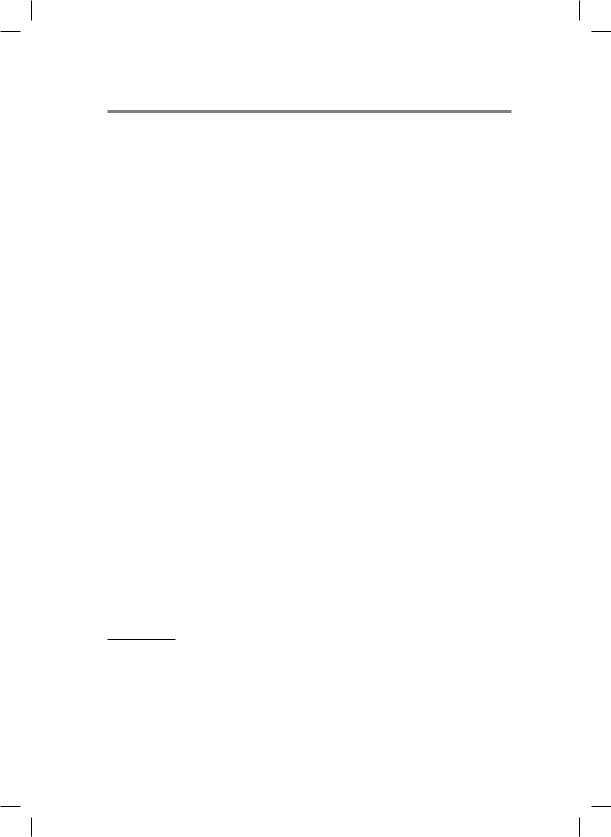
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
При повторном обращении в Конституционный Суд РФ по данному вопросу (когда оспаривалась численность уже в 50 тыс. членов) Суд в целом повторил свою прежнюю правовую позицию, добавив к этому, что установленные законом количественные критерии численности партии «не носят дискриминационного характера, поскольку … в равной мере распространяются на все общественные объединения, позиционирующие себя в качестве политических партий... и не посягают на само существо права граждан на объединение. Их применение, как показала практика, сохранило возможность реального осуществления конституционного права граждан на объединение в политические партии, имеющие в условиях действия конституционного принципа многопартийности равные правовые возможности для участия в политическом волеобразовании многонационального народа Российской Федерации»1. Таким образом, ключевая для понимания сущности права проблема равенства сведена судом лишь к равенству перед законом. По логике такого (легистского в своей основе) подхода можно обосновать конституционность единой для всех планки численности партии и на гораздо более высоком уровне.
С позиций же либертарно-юридического правопонимания речь идет не просто о равенстве перед законом, а о равенстве перед правовым законом, соответствующим правовому принципу формального равенства, а значит — исключающим привилегии для одних партий и дискриминацию других. Задача Суда состояла как раз в том, чтобы выяснить, является ли данный закон правовым в части, касающейся требований к численности партий. Логика рассуждений в данном случае состоит в следующем.
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой политической партии «Российская коммунистическая рабочая партия — Российская партия коммунистов» (п. 3.3 мотивировочной части Постановления). Режим дoступа: eurolawco.ru›practicenews…2007/07/16…1096.html.
498
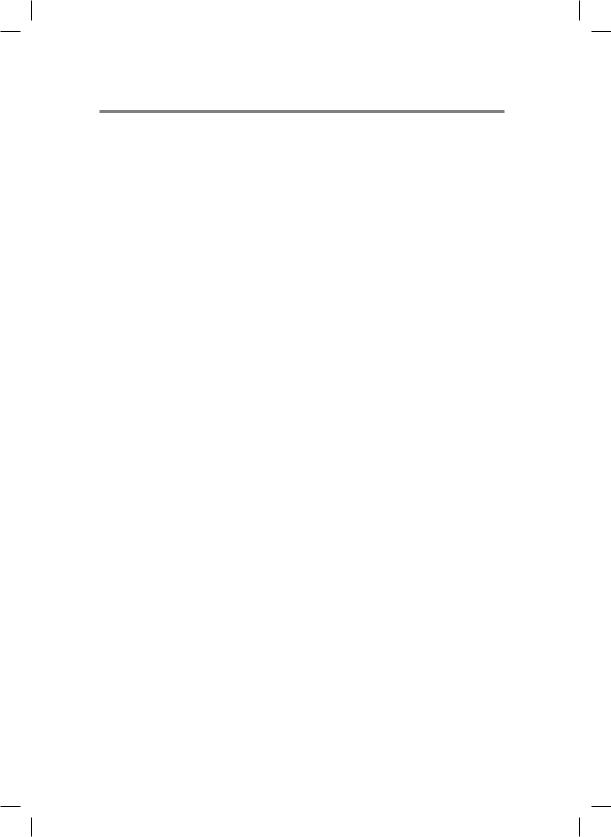
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Если законодатель считает, что без указания в законе требований к численности партии невозможно предотвратить участие в выборах под видом политических партий различного рода клановых организаций, преследующих не политические, а корпоративные интересы, то он вправе ввести требование к минимальной численности партии. Конкретный уровень планки численности политической партии может считаться соответствующим Конституции РФ в том случае, когда он обеспечивает принцип правового равенства, исключающий возможность привилегий одних партий перед другими.
В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить равенство партий независимо от наличия или отсутствия у них финансовых и административных ресурсов, необходимых для создания многочисленной партии. Это означает, что закон о партиях должен предоставить политически активным гражданам реальную возможность создать общенациональную партию, опираясь главным образом на свой энтузиазм, свои организационные ресурсы и политический потенциал своей идеологии. Решение данного вопроса требует знания социального контекста действия Закона. Поэтому законодателю, принимающему закон о партиях и правоприменителю в лице Конституционного Суда РФ, решающего вопрос о конституционности этого закона, необходимо знать и учитывать позицию представителей небольших партий, а также независимых экспертов (политологов и политиков), способных определить, при какой численности политической партии она может быть создана и поддержана в своем функционировании усилиями рядовых граждан. Особое внимание при этом важно уделить финансовой стороне вопроса, выяснив сумму (а она хорошо известна специалистам), необходимую для создания и поддержания деятельности общероссийской политической партии при той или иной ее численности. Наряду с этим надо учитывать и законодательный контекст действия рассматриваемой нормы, имея в виду, что Федеральный закон «О политических партиях» не предусматривает существование региональных и межрегиональных партий, а также региональных и общероссийских
499
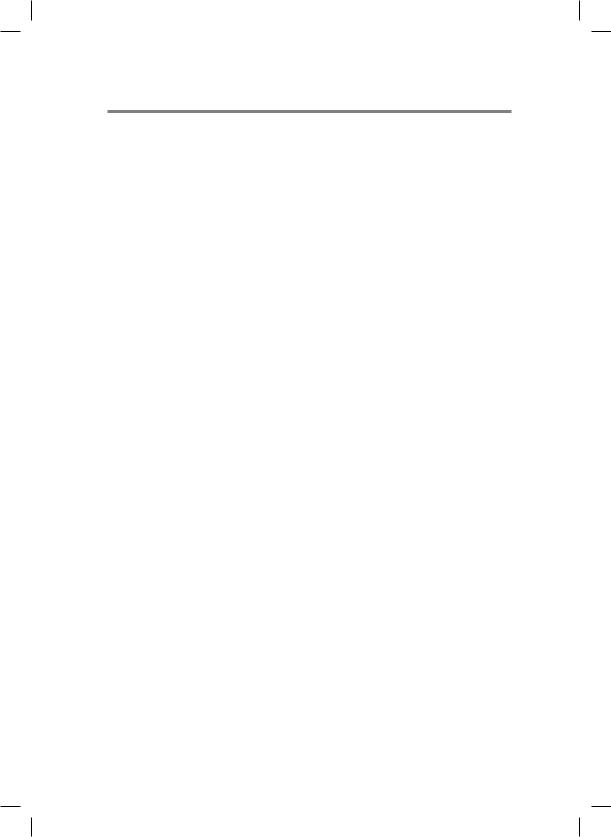
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
политических движений, на базе которых со временем могли бы вырасти «снизу» партии общероссийского масштаба.
Равенство партий — это лишь форма выражения более фундаментального равенства граждан в осуществлении ими своего права на политическое объединение. В конечном итоге речь идет о том, что планка минимальной численности политической партии должна быть установлена на таком уровне, чтобы вводимое при этом ограничение не вторгалась бы в существо данного права, то есть не нарушало бы равенство граждан в осуществлении ими своего права на политическое объединение Наличие такого ясного критерия существа права позволяет с большой мерой определенности, а в случае глубокого знания правового и социального контекста действия рассматриваемой нормы — почти с математической четкостью (именно в этом смысле и сказано, что право — это математика свободы) ответить на вопрос, правомерно ли ограничение прав человека в каждом конкретном случае.
На этом примере хорошо видно, что Суд, не имея теоретической позиции по поводу того, в чем состоит существо права, может произвольно оперировать таким критерием ограничения права человека, как необходимость сохранения его существа. Надо признать, что Конституционным Судом РФ проделана большая и важная работа по накоплению эмпирического опыта защиты прав человека от неправомерного вторжения со стороны федерального законодателя. Однако отсутствие четкой теоретической позиции по данному вопросу приводит к тому, что Суд каждый раз заново и как бы на ощупь определяет ту меру возможного ограничения прав человека, относительно которой можно говорить о вторжении в существо права. По сути дела вопрос о мере ограничения того или иного права Суд решает применительно к каждому конкретному случаю на эмпирическом уровне, то есть ad hoc.
Проблема усугубляется тем, что и у Европейского Суда по правам человека нет теоретико-правовой позиции по вопросу о сущности права. Общая логика рассуждений Суда при рассмотрении им споров
500
