
10027
.pdf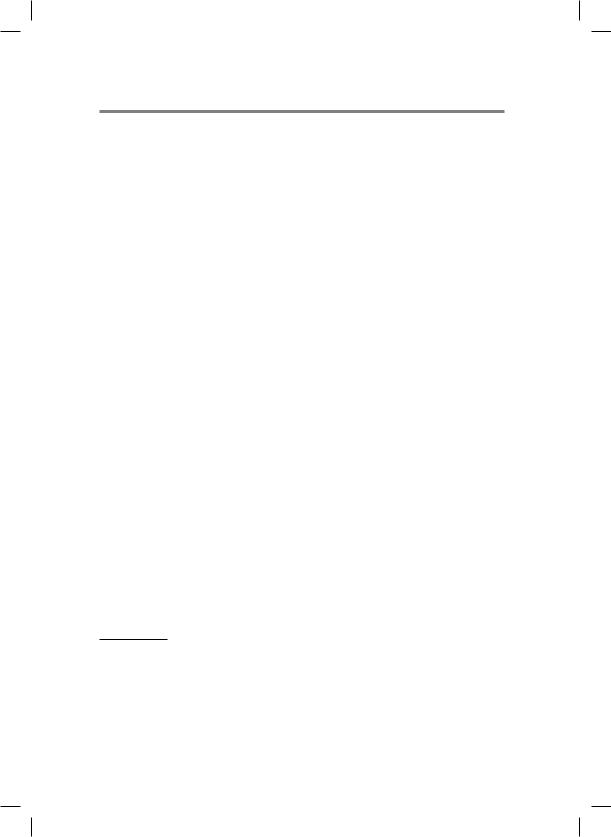
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
выступающий в своем личном, а не институциональном качестве1. Подобная «экстраполяция правдоносительства на главного государственного лидера, — как верно замечает Н. Ф. Медушевская, — характерна и для современного правового сознания»2. А в этих условиях все высокие рассуждения о нравственной природе справедливости, которой право должно соответствовать, на практике «работают» на укрепление режима личной власти, не ограниченной правом. История России наглядно продемонстрировала, что поиски справедливости за рамками права чреваты властным произволом и насилием. Придание категории справедливости нравственного характера и, соответственно, отрицание правовой природы справедливости, по существу, означает утверждение вместо нее какой-либо версии неправовой (антиправовой или внеправовой) справедливости»3, выражение которой в нашей стране традиционно берет на себя царь, вождь или президент.
Что касается типа правопонимания, стоящего за подобной этизацией права в российском культурном пространстве, то при ближайшем рассмотрении в большинстве случаев мы увидим все тот же легизм, слегка облагороженный призывами к законодателю «обратиться к сфере нравственных ценностей». Правда, надо признать, что в современных условиях речь идет уже не о прежнем легизме советского образца. Нынешний легизм существенно подкорректирован и улучшен тем обстоятельством, что в Конституции России и в текущем законодательстве получили закрепление естественные (прирожденные и неотчуждаемые) права человека. Однако можно продекларировать в Конституции РФ приоритет неотчуждаемых прав человека перед другими источниками права, закрепить
1 Медушевская Н. Ф. Интеллектуально-духовные основания российского права
2 Там же.
3 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция / Философия и история философии: Актуальные проблемы. К 90-летию Т. И. Ойзерман. М., 2004 С. 245.
341
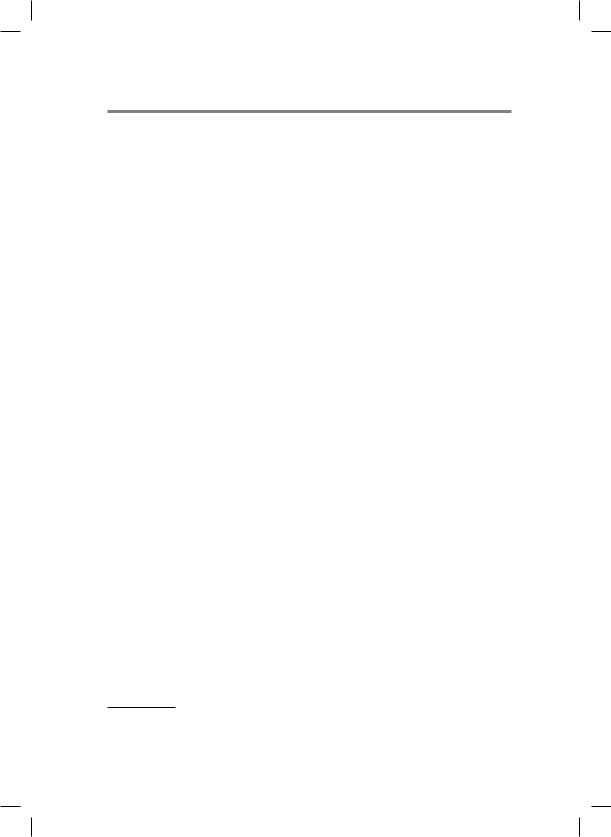
Глава 6. Правопонимание в России
современный каталог основных прав и т.д., но если содержание конституционных норм, определяющих критерии ограничения этих прав, интерпретируется законодателем и правоприменителем с позиций системоцентристского подхода (что нередко и происходит на практике), то реально действующим оказывается легистское правопонимание. Когда легализованное в Конституции РФ прирожденное право человека ограничивается федеральным законом для защиты доминирующих над этим правом конституционных ценностей (а текст ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права человека могут быть ограничены законом для защиты «основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» нередко толкуется именно таким образом), это означает, что государство, выражающее указанные общие ценности и создающее закон, который их защищает, произвольно решает, что есть право человека.
После принятия Конституции РФ ни одна сколько-нибудь серьезная легистская версия правопонимания уже не обходится без реверансов в сторону естественного права. Весьма типичной в этом плане представляется позиция С. С. Алексеева, который следующим образом определяет то общее (и, надо полагать, сущностное) начало, которое объединяет естественное и позитивное право: «Право при самом широком его понимании, — пишет автор, — состоит в том, что оно дает признаваемую в данном обществе… обоснованность, оправданность определенного поведения людей, свободы (возможности) такого поведения»1. Если уйти от стилистических погрешностей этого определения и сформулировать, что есть право (а не что оно дает обществу), то не останется ничего другого, как сказать, что право — это форма свободы. С таким понятием права нельзя не согласиться. Правда, в данном случае речь должна идти не о «самом широком», а о наиболее абстрактном понятии права,
1 Алексеев С. С. Философия права. М., 1997. С. 6.
342
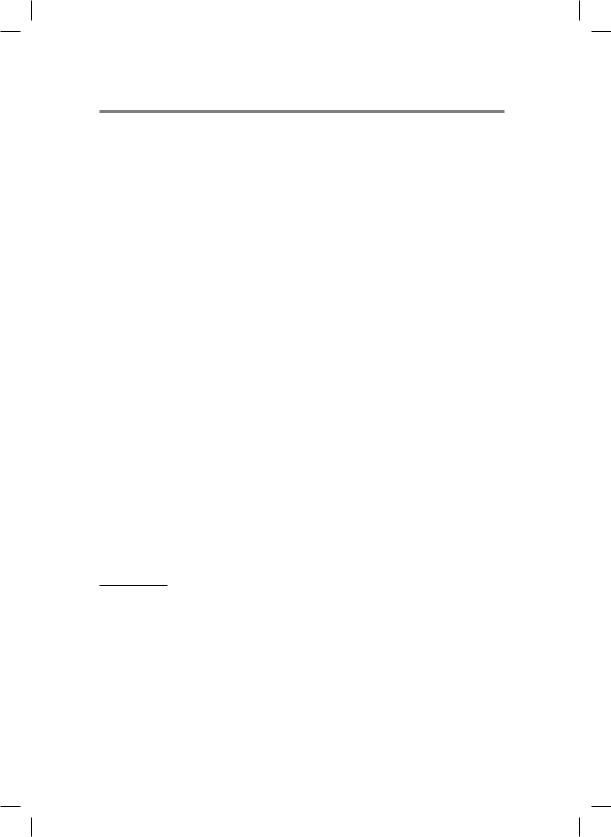
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
и автору следовало бы показать, как это абстрактное понимание права конкретизируется в определениях естественного и позитивного права. Вместо этого далее выясняется, что право в «самом широком его понимании» отождествляется с естественным правом1, которое при этом оказывается вовсе и не правом, а моралью, религией, обычаями и т.д. «Естественно-правовые требования и прообразы норм, — отмечает он, –… выражаются в морали, обычаях, религиозных и иных идеологических положениях, и в этом качестве … не конкретизированы в достаточной степени, не обладают строгой определенностью…»2. Эти неправовые по своей природе регуляторы, «преломляясь через правосознание, его культурные коды», почему-то «приобретают правовой облик и в соответствии с этим выступают в виде правовых требований и прообразов… норм позитивного права»3.
Показательно, что далее, говоря о позитивном праве, С. С. Алексеев рассматривает его вне какой-либо связи с этими правовыми требованиями естественного права. О последнем автор вспоминает лишь тогда, когда касается вопроса о генезисе позитивного права. Позитивное право, пишет он, «проходя несколько этапов, в том числе предправовое состояние, (именно здесь в отношении позитивного права вполне уместно говорить о доправовом состоянии, которое — как это ни парадоксально звучит — фиксируется главным образом на уровне естественного права»4. При этом остается неясным (и в этом смысле более, чем парадоксальным), почему
1 «Естественное право, — пишет он, — является правом лишь в широком значении, то есть в значении социально оправданной свободы (возможности) определенного поведения…. Для того, чтобы стать регулирующим фактором, требования и прообразы норм, образующие естественное право должны воплотиться в конкретизированных нормативных положениях. … оно выступает в качестве известного базисного основания позитивного права, его своего рода предосновы…» (Там же. С. 27).
2 Там же.
3 Там же. С. 26.
4 Там же. С. 29.
343
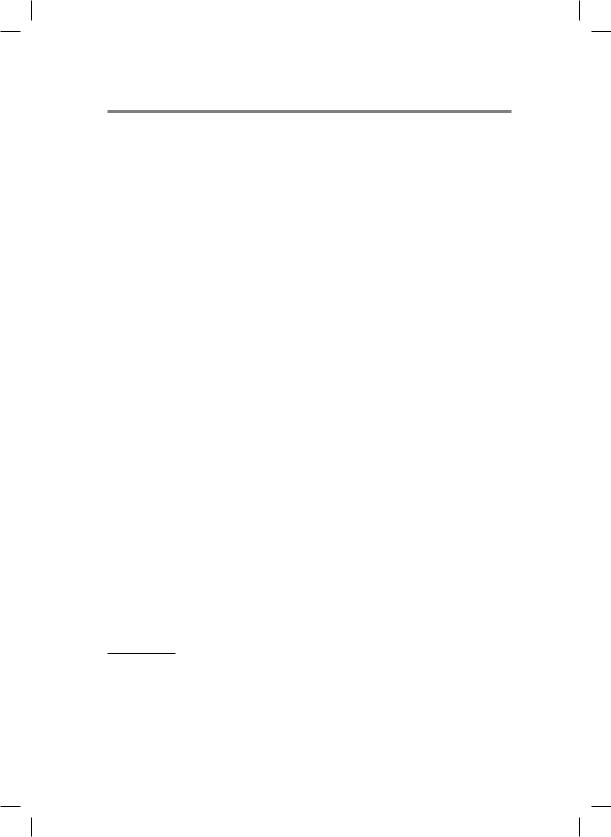
Глава 6. Правопонимание в России
естественное право фиксируется главным образом на доправовом состоянии и отсутствует там, где оно прежде всего и должно быть, а именно в правовой сфере, где оно значимо как критерий оценки позитивного права? Таким образом, очевидно, что собственно правом С. С. Алексеев называет только позитивное право, которое, как и прежде, рассматривается им в полном отрыве от принципов и норм естественного права. Примеры подобных безуспешных попыток ухода от легистского правопонимания в современной теории права (когда после расчистки противоречий и несогласованностей в «сухом остатке» мы видим все тот же легистский подход) можно продолжать долго1.
С учетом критики, которой в последние десятилетия был подвергнут легистский тип правопонимания в советской, а затем российской юриспруденции, а главное, под влиянием перемен, происходящих в стране в постсоветский период, он не столько сдал свои доминирующие позиции в российской юридической науке и практике, сколько модифицировался, приняв более благообразный вид. Так, например, один из наиболее активных сторонников данного подхода — М. И. Байтин — в последнее время определяет право как выраженную в законе государственную волю общества.
Новое в такой трактовке нормативного понимания государственной воли, отмечает он, «проистекает из признания необходимости познания права не только с классовых, но и с общечеловеческих позиций, раскрытия его понятия с учетом сочетания в нем одновременно и общесоциальных, и классовых начал»2. Связь норм права с государством, продолжает он далее, «состоит в том, что они, в отличие от иных социальных норм, издаются или санкционируются государством и охраняются не только воспитанием и убеждением,
1 Некоторые примеры подобного рода приводит, в частности, Н. В. Варламова (См.: Варламова Н. В. Философия права и юридическая догматика (проблема внутренней непротиворечивости правовой теории // Юриспруденция XXI века: горизонты развития: Очерки. СПб., 2006. С. 273–275).
2 Байтин М. И. Сущность права. М., 2005. С. 60.
344
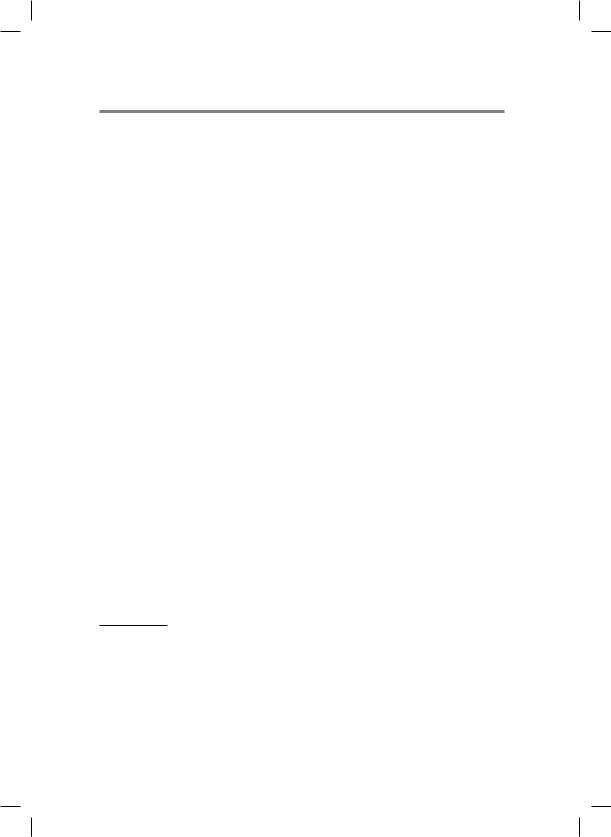
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
что свойственно и другим социальным нормам, но и возможностью применения, когда это необходимо, принудительных юридических санкций»1. Отличие такого понимания права от формулировки Н. Я. Вышинского (где право — это нормы, «применение которых обеспечивается принудительной силой государства») состоит, по мнению автора, в том, что здесь говорится лишь о возможности государственного принуждения как гарантии реализации правовых норм, которые, как правило, исполняются большинством граждан сознательно и добровольно.
Однако при всех подчеркиваемых М. И. Байтиным отличиях от легистского правопонимания советского образца предлагаемое им определение права сохраняет главные черты легистского подхода — отсутствие сущностного признака права как особого социального явления и признание в качестве основания для отличия правовых норм от иных социальных норм их обеспеченности законодательно оформленными мерами государственного принуждения2. Тезис о том, что право — это воля общества, получившая государственное выражение, остается в предложенной автором концепции содержательно не раскрытым. Он нигде не дает ответа на вопрос — любая ли выраженная в законе государственная воля является волей общества. Если автор полагает, что выраженная в законе государственная воля всегда совпадает с волей общества, то понятие «воля общества» является в его определении права излишней конструкцией (это такая же словесная дань правовому мировоззрению, какую в рамках классовой концепции права представляли собой рассуждения о материальной обусловленности права экономическими отношениями). Если же он различает понятия «воля общества»
1 Там же. С. 64, 65.
2 Нормы права, — пишет он, отличаются от других социальных норм рядом таких, присущих только праву, признаков, как: «связь с государством, охрана от нарушений, возможность государственного принуждения; общеобязательность; формальная определенность; институционность; качество официального регулятора общественных отношений» (Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 102).
345
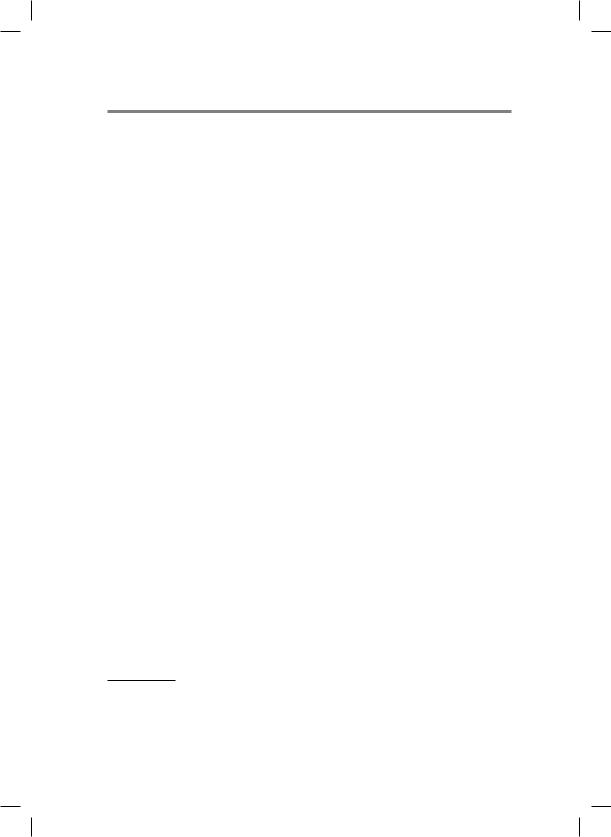
Глава 6. Правопонимание в России
и «государственная воля», то он должен был бы дать критерии такого различия. Это, по сути дела, означало бы формулирование сущностных критериев права как специфического нормативного регулятора, что выводило бы рассматриваемую позицию за рамки легистско-позитивистского подхода. Ведь спор идет не о том, выражается ли право в законе. Главный вопрос, адресованный сторонникам легистского правопонимания со стороны их оппонентов звучит так: «Все ли, что выражено в законе как государственная воля, является правом?».
Сторонники легистского правопонимания, вынужденные как-то приспосабливать его если не к духу, то хотя бы к букве Конституции страны, все чаще предпочитают чистому легизму эклектичные конструкции, определяющие право как неотчуждаемые права человека, позитивированные в законе, и т.п. Поскольку в основу действующей Конституции РФ положен именно естественно-правовой тип правопонимания, перед юристами встала задача теоретической взаимоувязки таких источников права, как закон и нормы естественного права. Нередко эту проблему пытаются решить самым незамысловатым образом — путем механического объединения этих двух таких различных по своей сути типов правопонимания. Так, В. М. Шафиров, претендующий на разработку концепции «естест- венно-позитивного права» или «позитивного права в человеческом измерении», определяет сущность права как «возведенную в закон (иные официальные источники) волю большинства людей, провозглашающую человека, его права и свободы высшей ценностью»1. Однако с точки зрения логики выработки научного понятия, фиксирующего сущностные признаки того или иного явления, в рамках этого понятия необходимо выразить тот единственный, главный, существенный (то есть сущностный) признак, который принадлежит этому явлению при любых условиях и который отличает его от
1 Шафиров В. М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики): Автореф. дисс…д-р. юрид. наук. Н.-Новгород, 2005. С. 10. См. также: Он же. Естественно-позитивное право: введение в теорию. Красноярск, 2004.
346
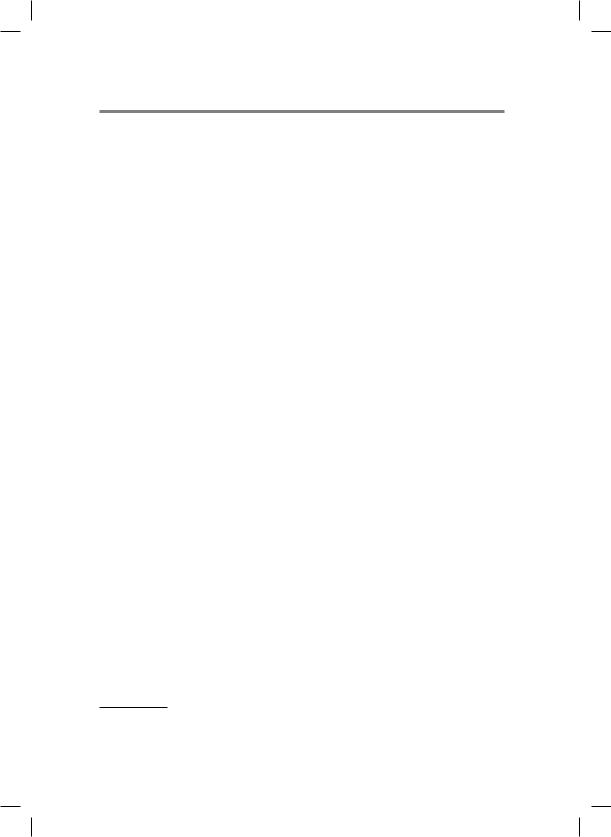
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
иных явлений. В процитированном выше определении это может быть либо возведенная в закон воля (и тогда мы имеем дело с позитивистским подходом), либо права и свободы человека (что соответствует естественно-правовому подходу). Кроме того, подобное «интегративное» правопонимание не учитывает то обстоятельство, что прирожденные права человека в силу их естественного (а значит — неисчерпаемого) характера никогда не могут быть полностью выражены в законе. Практика, не имеющая четких теоретических ориентиров в этом вопросе, сталкиваясь с ситуацией, когда закон не соответствует норме естественного права, будет руководствоваться законом.
Конечно, на уровне явления позитивистский и естественно-пра- вовой подходы к праву вполне могут сочетаться. Это происходит в тех случаях, когда нормы естественного права получают закрепление в действующем законодательстве (именно по этому пути и идет современная практика правотворчества). Если между этими двумя подходами нет внутреннего противоречия, то есть если нормы позитивного права соответствуют нормам и принципам естественного права, мы говорим, что на практике идет процесс позитивации естественного права. Однако, чтобы оценить эту ситуацию с позиций научного подхода к правопониманию, надо понять, на какую трактовку права должна быть ориентирована практика в случае противоречия между этими двумя подходами. Если закон не соответствует норме естественного права, то, что мы в данном случае должны считать правом — норму этого закона или противоречащую ему норму естественного права? Поскольку сам В. М. Шафиров, отвечая на этот вопрос, говорит, что правовое содержание закона «вытекает из природы человека, зиждется на его правах и свободах» и что закон, подавляющий естественное человеческое начало, не является правовым1, то он по сути придерживается естественно-правового типа правопонимания.
1 Там же. С. 21.
347
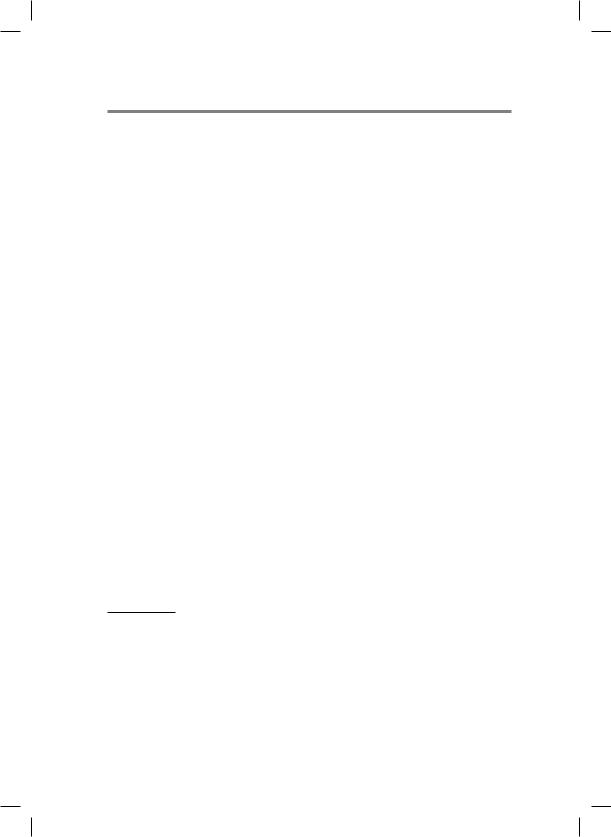
Глава 6. Правопонимание в России
Многие авторы поступают еще проще: они определяют «понятие» права путем перечисления его компонентов, к которым обычно относят нормы, установленные или санкционированные государством, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, являющиеся, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, составной частью российской правовой системы. А поскольку в число общепризнанных принципов и норм международного права входят и нормы, выражающие прирожденные и неотчуждаемые права человека, то такой подход иногда называют интегративным, подразумевая, что он объединяет легизм и юснатурализм1. Однако сторонники подобного соединения позитивного и естественного права в рамках единого «понятия» должны сказать себе и другим, какая из этих составляющих понятия права является главной, определяющей. Здесь недостаточно признать, что «в современных условиях неотъемлемые права человека по своей юридической силе не только не уступают в современных демократических государствах установлениям национальных законов всех рангов, но и в принципе имеют по отношению к ним приоритетное юридическое действие»2, или сказать, что Конституции РФ, «различая в своем идейном базисе доктрины естественного права и позитивизма, не противопоставляет их, не приводит к состоянию антагонистического противоречия, а напротив, стремится к выработке их синтетического, взаимосогласованного понимания в целях эффективного правоприменения»3 и что «содержащиеся в правах и свободах ес- тественно-правовые начала должны объективироваться в позитив-
1 См. напр.: Ершов В. В. Теоретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и правоприменения // Росс. правосудие. 2008. № 7. С. 10–13.
2 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 645.
3 Бондарь Н. С. Философия российского конституционализма: в контексте теории и практики конституционного правосудия // Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики. М., 2010. С. 53.
348
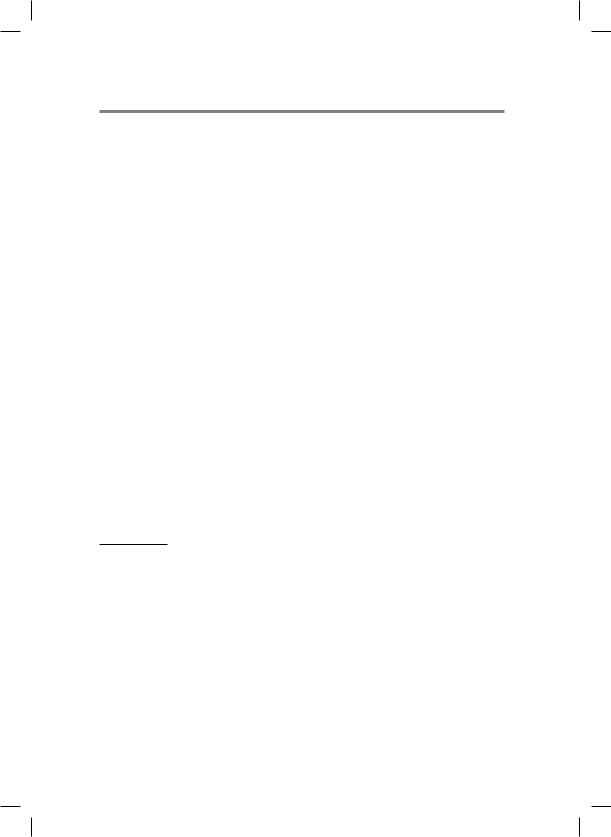
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
ных (принимаемых государством) законах»1. Вопрос, на который надо ответить, звучит так: если содержащиеся в правах и свободах естественно-правовые начала не позитивированы в действующем законодательстве, то чем должен руководствоваться правоприменитель — законом или естественным правом?
Такая ситуация в принципе возможна не только из-за дефектов законодательства (в этом случае вопрос может быть решен, по крайней мере, в теоретической плосткости, путем принятия решения в соответсвии с ратифицированными Россией международными договорами), но и потому что все юридически значимое содержание естественных прав и свобод человека не может быть в полной мере нормативно преобразовано и выражено в виде соответствующих норм законодательства. Наряду с позитивным правом в системе права всегда будут оставаться и непозитивированные на данный момент нормы естественного права. И перед познающим субъектом (ученым, законодателем, правоприменителем и т.д.) всегда будет стоять вопрос: можно ли считать правом право эти непозитивированные в законе естественно сложившиеся нормы. Отвечая на него, он окажется в ловушке позитивистского или естественноправового подхода. В первом случае он будет вынужден сказать, что признает естественное право только в той мере, в какой оно позитивировано2(со всеми вытекающими отсюда недостатками,
1 Там же. С. 54.
2 Так, С. С. Алексеев, хотя и говорит о том, что «неотъемлемые права человека по своей юридической силе … имеют … приоритетное юридическое действие» (Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С. 645), однако остается на легистских позициях, поскольку имеет в виду лишь те естественные права, которые позитивированы в законодательстве. «Само по себе естественное право, — пишет он, — не может (не должно по самой своей сути) выполнять функции, присущие позитивному праву, — выступать в качестве регулятора поведения людей — непосредственного критерия юридической правомерности или неправомерности этого поведения. Иначе, скажу еще раз, ни о какой законности, верховенстве права в обществе не может быть и речи. (Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. Режим доступа:http: // www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Alex…index.php).
349
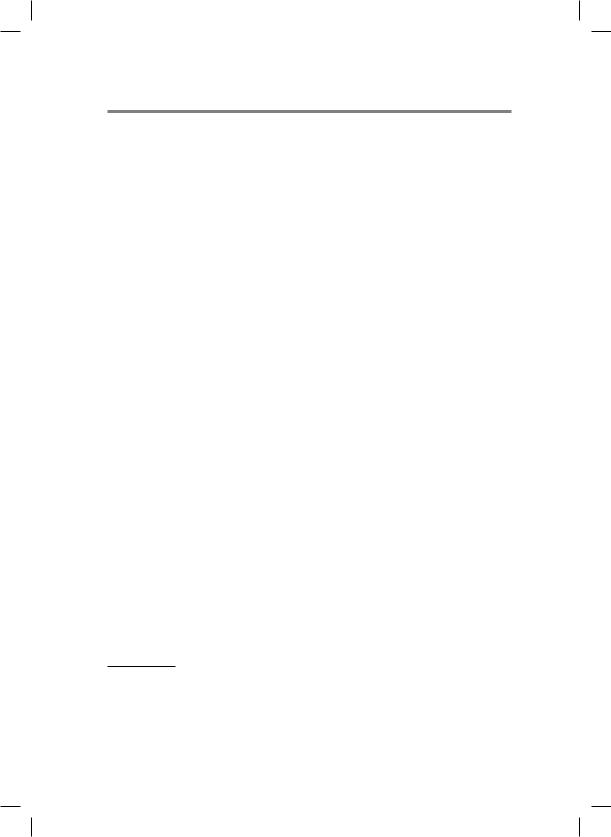
Глава 6. Правопонимание в России
характерными для позитивистского правопонимания), а во втором случае, считая, что право включает также и нормы естественного права, он утратит критерии различения правового и нравственного начала и не будет уверен в том, что все эти непозитивированные нормы естественного права по своей природе являются именно нормами права, а не нравственными, религиозными или еще каки- ми-то иными регуляторами.
Встречаются и более оригинальные комбинации легизма с юснатурализмом, когда, например, «под правом в объективном смысле понимается система юридических норм, выраженных (объективированных) в соответствующих нормативных актах (законах, указах, кодексах, конституциях) и не зависящих от каждого отдельного индивида; а под правом в субъективном смысле — система наличных прав и свобод субъектов, их конкретные правомочия, вытекающие из указанных выше актов или принадлежащие им от рождения и зависящие в известных пределах от их воли и сознания, особенно в процессе использования»1. Здесь определение объективного права дано в версии легизма, а субъективное право включает прирожденные права человека. При этом остается неясным, что объединяет эти столь различные понятия, позволяя назвать и то, и другое правом.
Наряду с подобным «интегральным» правопониманием, выстраиваемым на базе той или иной комбинации легизма и юснатурализма, существуют также попытки объединить легизм с социологическим подходом к праву. В качестве примера можно привести позицию Р. А. Ромашева, предложившего идею так называемого реалистического позитивизма как интегративного правопонимания, в рамках которого им выделено два основных признака права: общезначимость и результативность2. «Общезначимость
1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы правопонимания. Саратов, 2003. С. 81, 82.
2 Современные концепции правопонимания: Материалы «круглого стола». СПб., 2004. С. 12.
350
