
10027
.pdf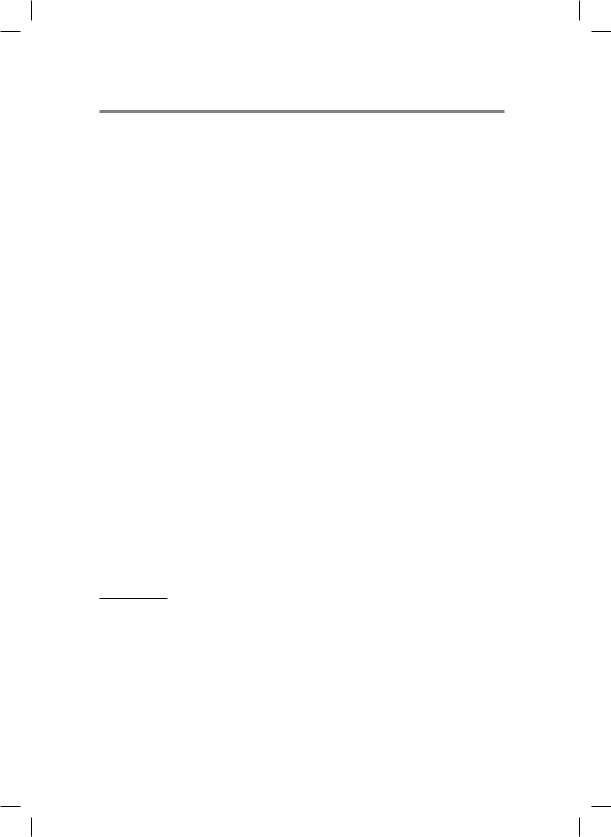
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
устройства провоцирует вывоз капиталов из страны. Все это происходит на фоне незатихающего передела собственности, вступившего в новую фазу так называемого «государственно-частного партнерства», суть которого состоит в перераспредлении собственности
впользу менеджеров государственных кампаний и представителей государственного аппарата1. В этой ситуации разговоры о модернизации экономики и переводе ее на инновационное развитие лишаются смысла.
Вполитической сфере эта же нелигитимность собственности подтолкнула исполнительную власть, не способную обеспечить сколь- ко-нибудь серьезную общественную поддержку таким реформам, к созданию квазиобщественной поддержки из чиновников, объединяемых в партии власти (а точнее — в партии исполнительной власти), с тем чтобы сохранить контроль над властью и собственностью. После неудачной попытки получить социальную опору
влице электората партий праволиберального толка (гайдаровского «Выбора России» и т.п.) исполнительная власть была вынуждена создать собственную «партию власти», а затем планомерно, последовательно и жестко расчистить для нее политическое пространство. Российские партии, призванные представлять интересы общества во власти, оказались властеобразованными, а не властеобразующими структурами. Будучи, по сути дела, своего рода десантом власти в гражданское общество, они выражают не столько интересы общества в системе государственной власти, сколько интересы власти в обществе. В итоге мы имеем общество, самую
правовое перераспределение собственности (включая ее захваты путем рэкета или рейдерства), и коррупционные поборы с бизнеса со стороны части «чиновной братии», — значительной частью общества воспринимаются чуть ли не как «восстановление справедливости». (См.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С. 327).
1 «Государственно-Частное Партнерство», пишет А.Илларионов, — это когда миллиардные активы достаются менеджерам госкомпаний и чиновникам (см.: Илларионов А. Август 2006. Победа ГЧП // Новая газета. 2006. 31 июля — 2 авг. С. 17).
321
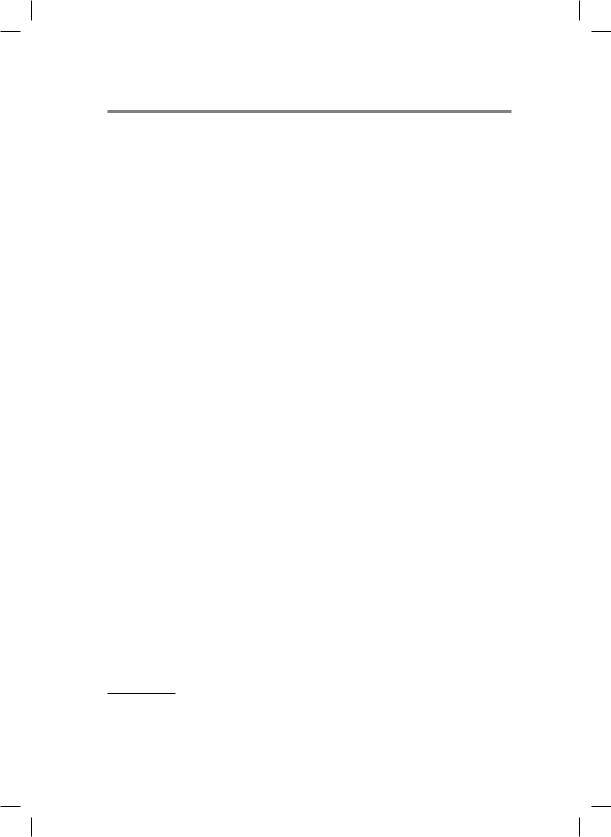
Глава 6. Правопонимание в России
организованную часть которого до сих пор составляет организованная преступность, а бюрократия, пользуясь этим, выступает сейчас под лозунгом укрепления российского государства, в очередной раз присваивая себе полномочия по произвольному ограничению свободы людей в своих зачастую небескорыстных интересах. При этом сложилась совершено уникальная, по словам Г. А. Явлинского (такого еще не было в истории!), ситуация: монополия одной партии при наличии частной собственности. Такая ситуация, подчеркнул он, неизбежно ведет не просто к коррупции, а к беспредельной коррупции1. Эта очень резкая характеристика сложившегося в стране положения дел тем не менее является не достаточной: мы имеем дело не просто с коррупцией, а с неофеодальным слиянием власти
исобственности. И если коррупцию можно охарактеризовать как социальную болезнь, а беспредельную коррупции как тяжелую болезнь, в принципе поддающуюся операционному лечению, то для характеристики нынешней ситуации гораздо больше подходит термин «социальная мутация».
Вобласти права неправовой характер приватизации обусловил низкое правовое качество принимаемого в стране законодательства. Дело в том, что в силу имманентной связи права и государства монополизация политического пространства неизбежно приводит к утрате законодательством того необходимого правового качества, которое является результатом согласования социальных интересов
ипоиска баланса воль субъектов правового регулирования в ходе демократического законотворческого процесса.
Вкачестве идеологического сопровождения этих процессов активно реанимировались старые идеи соборности, евразийства, византийства, державности и т.д. Все эти традиционные течения отечественной социально-политической мысли в своих слегка осовремененных версиях по-прежнему проповедуют идею особого пути
1 Беседа Г. Явлинского с Л. Велиховым // ТВ Канал «Совершенно секретно». 11.11.2011.
322
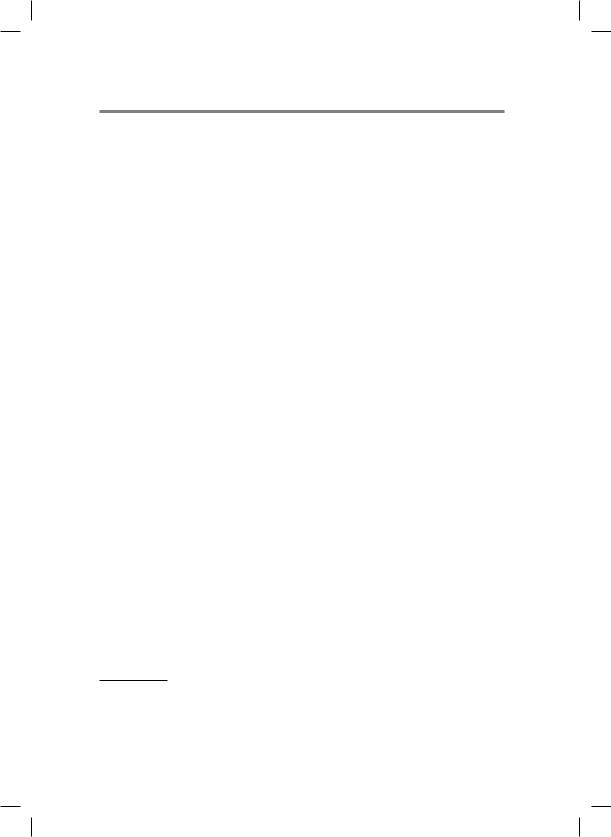
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
России, не вписывающегося в вектор либерально-правового развития западной цивилизации, оспаривают универсальный характер прав человека и пытаются обосновать авторитарную самобытность отечественного права и демократии приверженностью российского общества системоцентристскому пониманию общего блага. В последние годы они получили подкрепление со стороны концепций управляемой демократии, а затем — суверенной демократии, претендующих на теоретическое обоснование авторитарной самобытности отечественного права и демократии.
Сторонники перечисленных подходов любят ссылаться на трудности и неудачи либеральных преобразований, свидетельствующие, по их мнению, о том, что российское общество не готово к правовой свободе и стремится подменить ее антиправовым произволом. В этом моменте с ними смыкаются и многие отечественные либералы, которые, не вникая в суть произошедшего (то есть не признавая неправовую природу приватизации и ее колоссальное деформирующее значение для социально-правового развития страны), привычно сетуют на правовой нигилизм российского общества, возникший «в силу исторических особенностей и специфики национального менталитета», и говорят об изначальной обреченности идеи «соединить либерально-демократический реформизм с традиционализмом правовой культуры»1.
Между тем, рассуждать так — значит перекладывать с больной головы на здоровую. Конечно, наш народ, у которого не было опыта правовой демократии, виноват (перед собой и своей историей) в том, что не сумел сформировать ответственные перед обществом органы власти и был «переигран» новой российской бюрократией, вышедшей из второго эшелона партийной элиты КПСС и силовых структур. Но очень важно все-таки отделить ошибки народа от своекорыстия и непрофессионализма сформированной им власти.
1 Медушевская Н. Ф. Интеллектуально-духовные основания российского права: Автореф. дисс. … д-р. юрид наук М., 2010. Режим доступа: http://vak. ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=8170&from54=3.
323
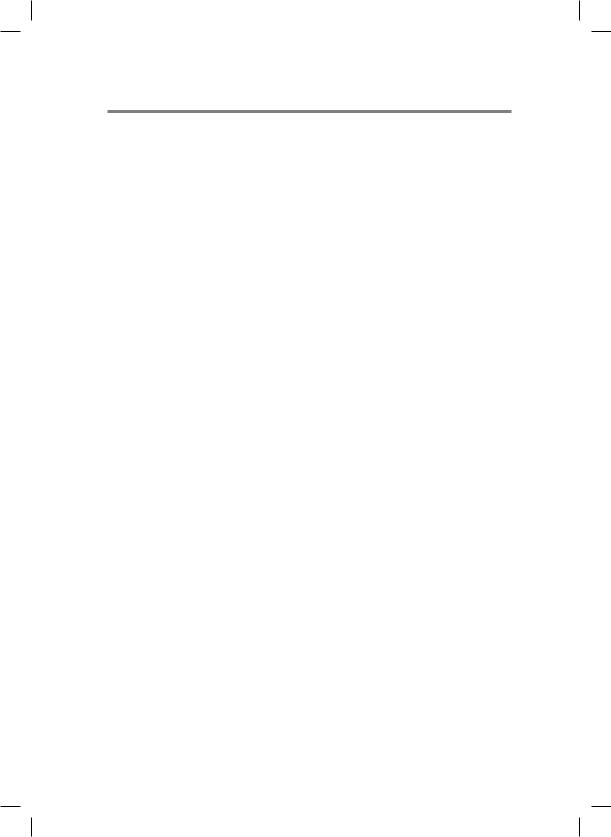
Глава 6. Правопонимание в России
И тогда станет ясно, что та тяга россиян к правовому нигилизму, которую так любят преувеличить некоторые аналитики, вполне могла быть преодолена уже на первых этапах преобразований, если бы власть действовала более честно и грамотно. Однако вместо сложной и кропотливой работы по созданию надлежащих правовых условий формирования гражданского общества, по выстраиванию и укреплению правовых границ его свободы представители новой российской власти начали азартно делить и перераспределять наше общее социалистическое наследство.
В результате сложилась ситуация, когда новые собственники, получившие свою собственность зачастую привилегированным путем (во многом благодаря близости к старой партийной номенклатуре, успевшей конвертировать власть в собственность, либо к новому постсоветскому чиновничеству), приобрели вместе с собственностью и жесткую зависимость от власти. Именно нелигитимность итогов приватизации создает ситуацию, при которой крупные собственники, лишенные социальной поддержки, оказываются беззащитными в своих взаимоотношениях с властью (ярким свидетельством чему является знаковое дело «ЮКОСА»). Кроме того, неправомерность приватизации каждый раз дает повод для пересмотра ее итогов и новой борьбы за собственность. При таком положении дел крупный бизнес, который в иной ситуации мог бы стать опорой формирования гражданского общества, создания конкурентной политической среды и укрепления правовых начал государственной и общественной жизни, оказывается не заинтересован в нормальном политико-правовом развитии страны.
Показательна в этом плане позиция авторского коллектива, состоящего из известных экономистов-рыночников, которые пишут: «Суть необходимой и целесообразной экономической (и не только экономической) политики в настоящее время можно определить как либеральный национализм. Это сочетание либеральной экономической политики (государство вмешивается только там, где оно может себе это позволить) и национализма (в английском
324
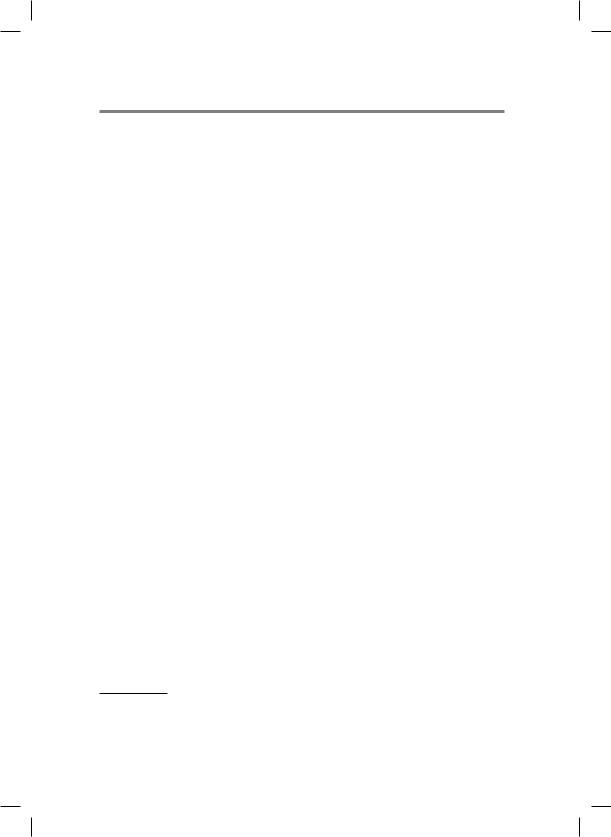
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
понимании этого термина: доминирование интересов страны над общечеловеческими ценностями)»1. Здесь в неявной форме предложены условия договора (а по сути дела — сговора) между властью и бизнесом, по смыслу которого власть не будет вмешиваться
вдела бизнеса (в том числе и для защиты интересов иных слоев населения), а бизнес согласится с «доминированием интересов страны над общечеловеческими ценностями», что на уровне реальной политики означает приоритет государственных интересов, выразителем и интерпретатором которых выступает бюрократия, перед правами человека как главной общечеловеческой ценностью. Правда, до недавнего времени власть не была заинтересована
вподобном «договоре», а резкое изменение политической ситуации
встране после парламентских выборов в декабре 2011 г. неожиданно вывело на политическую арену нового субъекта общественного договора — политически активную часть общества, которая, судя по всему, уже не допустит какого-либо сговора за ее спиной.
Сейчас уже достаточно очевидно, что наш либерализм оказался верхушечным, недемократическим, ориентированным на свободу для некоторых. Между тем если либерализм не имеет опоры в демократии, то демократия не будет его поддерживать и будет выражаться в неправовых формах. И эта опасность в ближайшее время встанет перед нами со всей своей остротой. Чтобы избежать ее, надо найти стык либерализма и демократии прежде всего в вопросе собственности. Для права и демократии в России нужна реальная основа в виде цивилитарной собственности или (поскольку этот исторический шанс уже упущен) такой социальной политики, которая освободила бы массы от задавленности нуждой, компенсировав рядовым гражданам хотя бы частично те потери, которые они понесли, лишившись своей правомерной доли социалистического наследства.
1 Рыночная демократия в действии / Под ред. В. А. Мау, А. А. Мордашева, Е. В. Турунцева. М., 2005. С. 367.
325
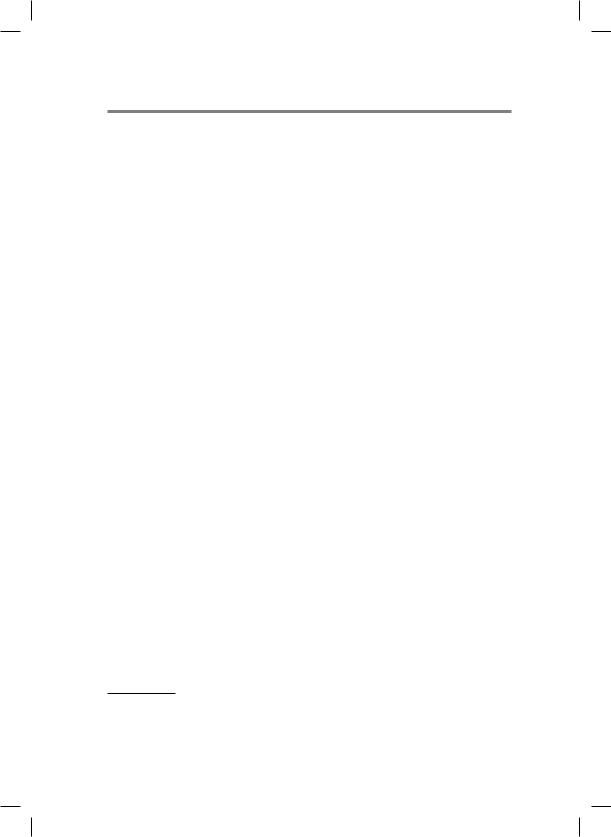
Глава 6. Правопонимание в России
Этот экскурс в новейшую историю страны имеет самое непосредственное отношение к рассматриваемой нами проблематике правопонимания. Его цель — показать, что специфика России состоит не в каком-то особом понимании права и демократии, а в более острой (по сравнению с другими странами) потребности в выработке того правового синтеза индивидуального и социального начал, в сторону которого развивается современная европейская теория и практика социального правового государства. При этом у России, проделавшей «черновую работу всемирной истории, связанную с реализацией и практической проверкой общечеловеческой коммунистической идеи»1, был (и в какой-то мере все еще остается) шанс на то, чтобы воспользоваться плодами этих беспрецедентных усилий и «цивилизовать» коммунистическую идею социального равенства, придав ей правовую форму, то есть введя ее в границы принципа формального равенства. Этот шанс так или иначе связан с концепцией цивилизма В. С. Нерсесянца как соци- ально-политической и социально-экономической проекцией его либертарно-юридической теории.
Сам автор рассматривал свою концепцию цивилизация как итог творческого применения диалектического принципа единства и борьбы противоположностей к анализу социальных процессов, позволяющего диалектически «снять» противоречие между капитализмом и социализмом не в рамках старой идеи конвергенции, безуспешно пытавшейся соединить два непримиримых принципа, а путем поиска нового принципа, то есть новой формы собственности. В контексте же нашего анализа такой подход означает снятие противоречия между принципами индивидуализма и солидаризма. Таким образом, можно сказать, что либертарно-юридическая теория права, сложившаяся на базе философского осмысления трудного исторического опыта России и мировых достижений в исследовании
1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 44.
326
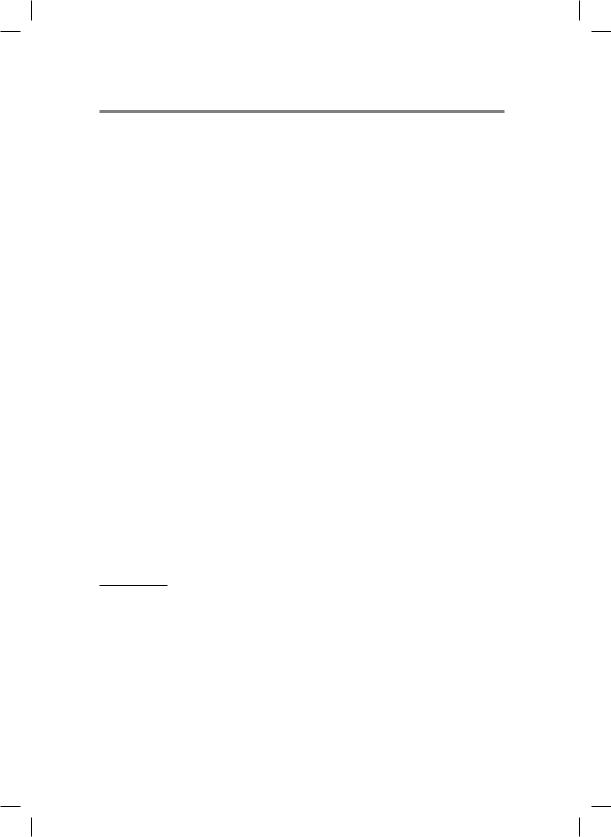
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
права, а также логически связанная с ней концепция цивилизма обеспечивают тот искомый синтез индивидуального и социального начал (индивидуальной свободы и всечеловеческой солидарности), который на данном историческом этапе может быть достигнут в границах правового принципа формального равенства.
6.2.Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
Наблюдающийся в постсоветской юриспруденции заметный интерес к проблематике правопонимания1 во многом обусловлен необходимостью приведения российской правовой системы в соответствие с потребностями осуществляемой в стране широкой социальной трансформации общественной жизни, а также с общемировыми тенденциями юридической глобализации (то есть универсализации и унификации права в международном масштабе2), требующей своего осмысления с позиций новых подходов к пониманию права. Систематизируя все обилие типов правопонимания, которое обсуждается сейчас в российской теории права, можно сказать, что главный мировоззренческий разлом в этих дискуссиях, как и раньше, проходит по линии противоборства между традиционным для России системоцентристским подходом, рассматривающим право как инструмент воздействия на человека в интересах доминирующего над ним государственного начала, и формирующимся
1 См.: Графский В. Г. Основные концепции права и государства в современной России. По материалам «круглого стола» в Центре теории и истории государства и права ИГП РАН. (Государство и право. 2003. № 5. С. 5–33; Концепции современного правопонимания // Материалы «круглого стола». СПб., 2004; Проблемы понимания права // Право России: Новые подходы. Вып. 3. Саратов. 2007; Теоретические и практические проблемы правопонимания: Сб. ст. по материалам научной конференции в Российской академии правосудия // Отв. ред. В. М. Сырых, М. А. Занина. М., 2009 и др.
2 Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире // Государство и право. М., 2005. № 5. С. 40.
327
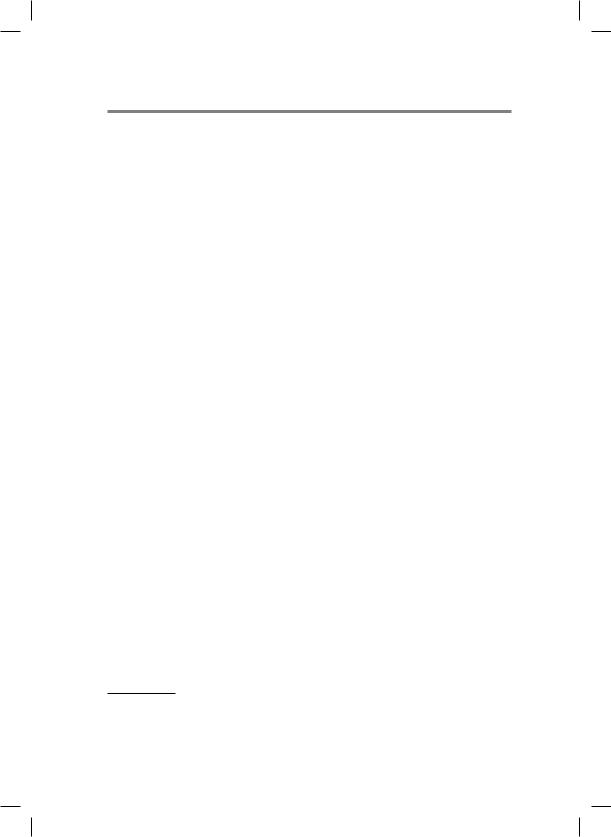
Глава 6. Правопонимание в России
человекоцентристским типом правопонимания, а рамках которого право человека предстает в качестве высшей ценности в системе ценностно-нормативной регуляции. Результатом этих дискуссий должен стать такой теоретический консенсус по вопросу о понятии права, который мог бы лечь в основу базовых доктринальных положений о позитивном праве, составляющих в своей совокупности догму права. В конечном итоге речь идет о выборе между человекоцентристским и системоцентристским подходами к трактовке права, который позволит с большой долей вероятности судить в целом о характере осуществляемых в стране преобразований.
Думаю, нам не стоит обольщаться тем обстоятельством, что для западной философии права теоретические расхождения между естественно-правовым и юридико-позитивистским подходами уже не носят характер принципиального противостояния между человекоцентристской и системцентристской парадигмами социального развития. И когда некоторые специалисты (в частности, И. Л. Козлихин) говорят, что на Западе «позитивисты безоговорочно разделяют либеральные ценности, что позволяет им различать правовые и неправовые нормативные системы»1, то отсюда вовсе не следует, что стремление к «взаимодополняемости подходов в изучении права»2, наблюдаемое сейчас в отечественной теории права, тоже имеет либеральную направленность. Кстати, если с тезисом о том, что приверженность большинства западных ученых либеральным ценностям не зависит от их теоретико-методологичес- ких предпочтений, можно согласиться, то утверждение о наличии у позитивистов критерия для различения правового и неправового характера нормативных систем вызывает серьезные сомнения. Но в контексте нашего анализа в высказанных суждениях важнее другое, а именно нежелание увидеть то обстоятельство, что столь популярные в постсоветский период эклектичные комбинации легизма
1 Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право. С. 11. 2 Там же.
328
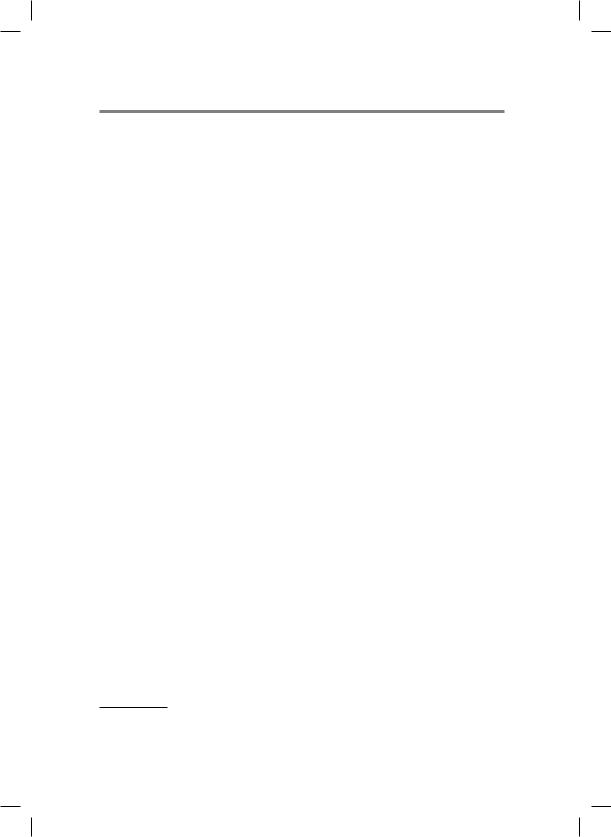
6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права
с юснатурализмом, социологическим позитивизмом и т.д. — это, как правило, всего лишь словесный флер, придающий традиционному легизму более современный и привлекательный вид, но очень мало влияющий на реальную правовую практику.
Если под этим углом зрения рассматривать очень верное замечание И. Л. Козлихина о том, что в российской юриспруденции «конфликт существует не между различными типами правопонимания, а между типами миропонимания; либерально-индивидуалистичес- ким — правовым по своей сути и коллективистско-этатистским — по своей сути неправовым»1, то надо признать, что подавляющее большинство столь популярных сейчас в российском правоведении теоретических конструкций, ориентированных на «взаимодополняемость подходов в изучении права», не выходит за рамки коллективистско-этатистской парадигмы. И в этом моменте они существенно отличаются от современного юридического позитивизма западного образца.
Дело в том, что западный юридический позитивизм, подвергнутый в середине прошлого века очень жесткой критике за свою теоретико-методологическую «лояльность» нацистскому режиму (критике, остро переживаемой его сторонниками, — вспомним упомянутую ранее Л. Фуллером чрезмерную горячность Г. Харта в его защите от нападок этого рода), смягчил свой прежний теоретический ригоризм. Что касается российского легизма, то он не имел опыта подобного рода «чистилища», который мог бы подвигнуть его приверженцев к переосмыслению наиболее одиозных теоретических конструкций. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что между «мягким позитивизмом» позднего Г. Харта и отечественной эклектикой, выстраиваемой на укорененном в нашей юриспруденции фундаменте легистского подхода, принципиальная разница, позволяющая говорить именно о разных типах миропонимания. Природа и характер этой разницы не оставляют надежды на то, что
1 Там же.
329
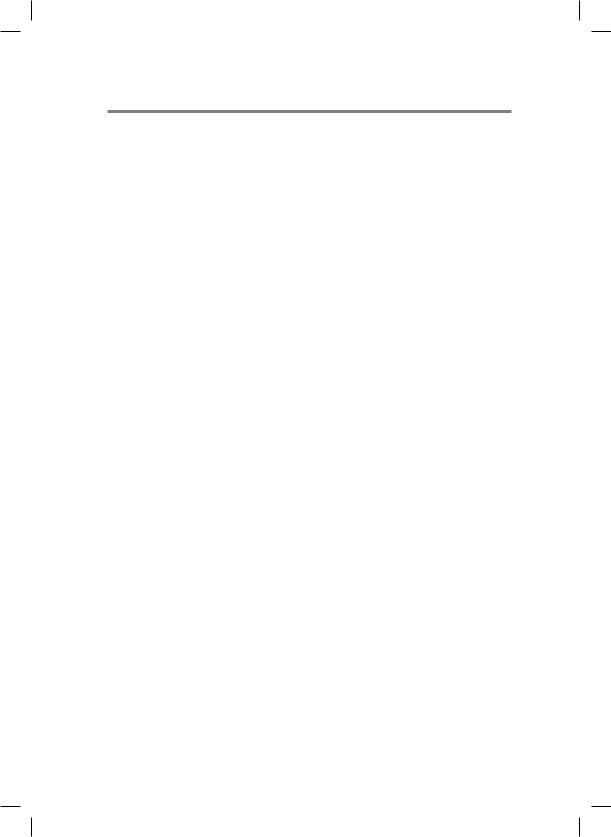
Глава 6. Правопонимание в России
некоторая корректировка юридического позитивизма в духе так называемого теоретического плюрализма поможет нам повернуть российскую теорию права (а через нее и правовую практику) «лицом к человеку». Такой поворот может быть осуществлен только
спозиций четко сформулированного на уровне доктрины и догмы права и воспринятого практикой человекоцентристского в своей идейной основе типа правопонимания.
Между тем, в последнее время системоцентристский подход к праву, заметно ослабевший после краха социализма, получает все более активное идеологическое подкрепление со стороны набирающих силу течений политической философии, представители которых прямо заявляют о невозможности для России развиваться по демократическо-правовой модели или нежелательности такого развития (поскольку этот путь не вписывается в российскую ментальность, ориентированную, по их мнению, прежде всего на нравственные, а не на правовые ценности), либо утверждают, что бывает разное право и разная демократия, не утруждая себя пояснением, почему это «разное» они называют правом и демократией. Этот процесс приобрел такие масштабы, что можно говорить о явной смене идеологических ориентиров, а вслед за ними — и методологических подходов к изучению социально-правовых явлений. Так, известный отечественный социолог В.Шляпентох отмечает, что, если в 90-е гг. в научном сообществе страны преобладала вера в то, что новая российская власть «сумеет коренным образом трансформировать социально-экономические и политические структуры России, одновременно изменив ментальность россиян» (что ориентировало социологию на изучение роли агентов изменений в рамках «активистской» исследовательскую парадигму, противостоящей «культурологической» парадигме, делающей акцент на национальных особенностях россиян), то «в начале «нулевых» годов в связи
сполитическими процессами в стране и нарастанием авторитарных тенденций произошел резкий сдвиг в сторону культурологического подхода. Возросло число статей и книг с утверждениями
330
