
10027
.pdf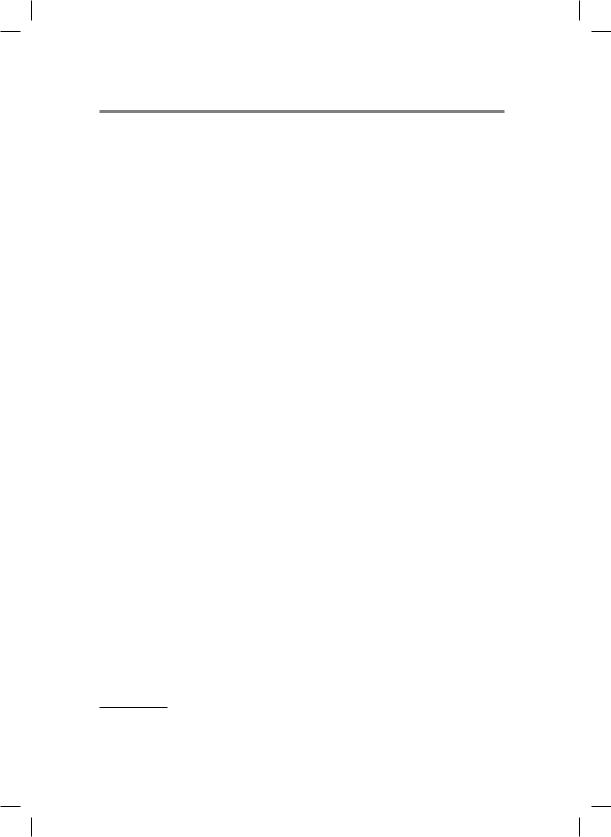
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
начала. Однако поиски русской философией права подобного синтеза велись, главным образом, в сфере отношений религиознонравственного порядка, в силу чего свобода индивида неизбежно оказывалась подавленной религиозным авторитетом или величием нравственного начала. Приверженцы морально-религиозного течения в рамках отечественной философии права, которых можно повидимому рассматривать в качестве выразителей неких фундаментальных особенностей российского менталитета, трактовали общее благо не как условие реализации блага каждого, а как форму проявления стоящих над индивидом нравственно-религиозных ценностей милосердия, правды, социальной справедливости и т.д. Подобное общее благо составляет, по их мнению, основы человеческой солидарности, достижение которой требует от каждого индивида ограничения его индивидуальной свободы. «Как бы ни были разнообразны нравственные понятия у различных народов, — писал, например, Е. Н. Трубецкой, — все они сходятся между собой в том, что человек должен поступаться некоторыми личными интересами ради блага общего, ограничивать свой произвол ради ближних… И не подлежит сомнению, что именно в этом принципе всеобщей человеческой солидарности выражается не преходящая точка зрения той или другой исторической эпохи, а вечный непреложный закон добра …»1.
Характерные для русских философов представления о возможности достижения всеобщей солидарности на нравственных началах самоограничения индивидуальной свободы ради общего блага свидетельствуют о непонимании (а скорее, — о психологическом неприятии) того обстоятельства, что общечеловеческая солидарность может утвердиться лишь на основе и в границах формального правового равенства, гарантирующего людям свободу и справедливость в общественной жизни. На базе религиозных и нравственных ценностей можно выстроить лишь партикулярную солидарность,
1 Трубецкой Е. Н. Труды по философии права. С. 311, 312.
311
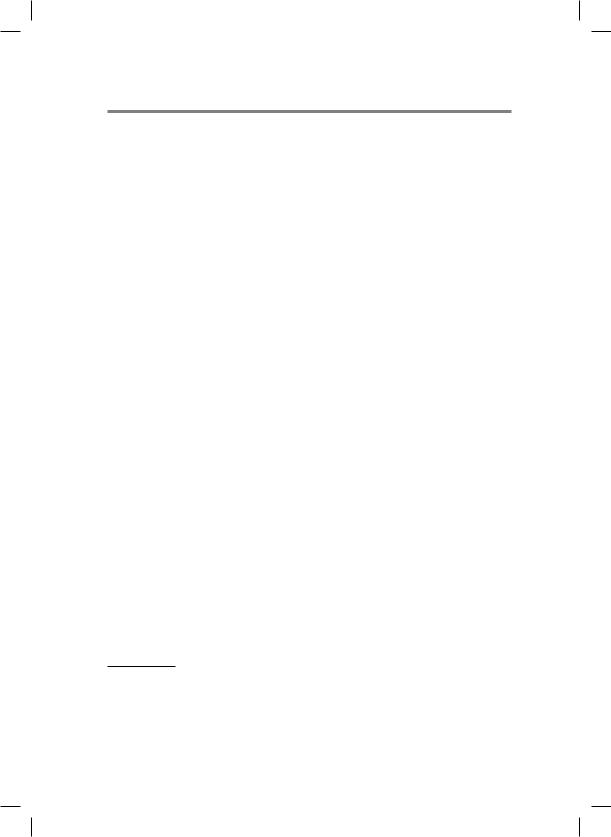
Глава 6. Правопонимание в России
поскольку «любой моральный или религиозный порядок не допускает существования внутри себя порядка, основанного на иных моральных или религиозных догматах. … Право же конституирует социальный порядок максимально абстрактный и формализованный. Гарантируя свободу и формальное равенство всех участников социального взаимодействия, право предоставляет им и свободу морального и религиозного самоопределения»1. Таким образом, индивидуальная свобода — это не антипод общественной солидарности, а необходимое условие для придания солидарности общезначимого, общечеловеческого характера. Дело в том, что право (которое, в конечном итоге, всегда есть право человека) является единственно возможной формой такого опосредования отношений взаимодействующих субъектов, которое позволяет им (при всех их отличиях) общаться на равных основаниях, реализуя свою свободу и самобытность до тех пор, пока это не мешает свободе и самобытности партнеров по взаимодействию.
Или свобода в правовой форме равенства, говорил В. С. Нерсесянц, или произвол в его многоликих проявлениях2. Третьего тут не дано чисто логически. Потому что свобода в человеческих взаимоотношениях, то есть свобода человека в его взаимоотношениях с другими людьми, возможна только в пределах действия принципа формального равенства, в рамках которого один человек равен другому человеку, следовательно, независим от него, а значит — свободен. За рамками этого принципа, где вступают в действие нравственные, религиозные или идеологические регуляторы, человек как субъект общественных отношений попадает в зависимость от степени нравственного совершенства, а также религиозной или идеологической терпимости своих партнеров по взаимоотношениям. Поэтому в рассмотренной нами ранее полемике Б. Н. Чичерина
1 Варламова Н. В. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: проблема соотношения / Наш трудный путь к праву: Материалы первых философ- ско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 293.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 40.
312
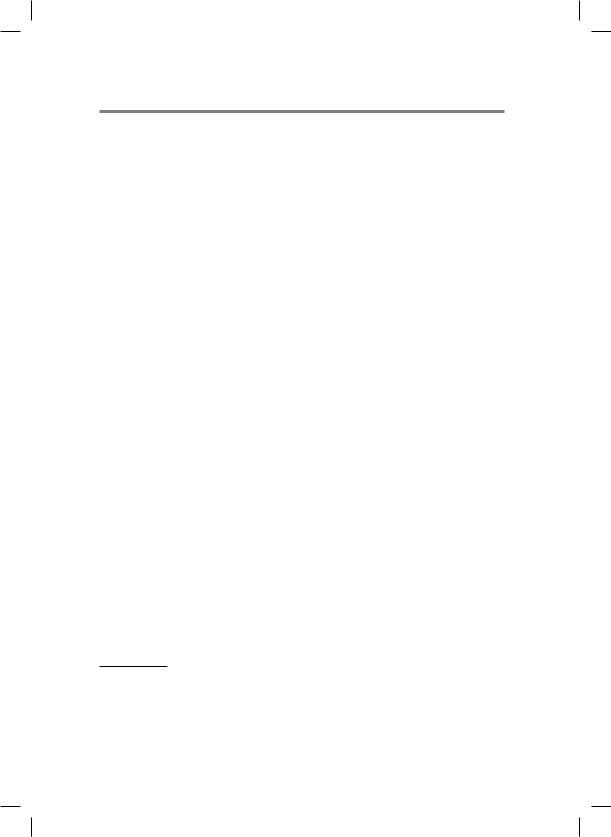
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
и В. С. Соловьева по поводу принудительного характера той минимальной нравственности, которую В. С. Соловьев трактует как право, гораздо убедительнее выглядит позиция его оппонента, справедливо опасавшегося, что власть будет произвольно определять и границы этого минимума и силу своего принуждения. На практике всякое отступление в сторону нравственности или религии от твердой основы правового принципа формального равенства означает, что человек попадает на зыбкую почву произвола и оказывается в зависимости от степени нравственного совершенства, от религиозной или идеологической терпимости своих партнеров по взаимоотношениям.
При этом формы произвола столь многолики именно потому, что произвол, в отличие от равенства, не имеет собственного принципа, «его принципом, если можно так выразиться, является как раз отсутствие правового принципа, … его нарушение и игнорирование»1. Самым привлекательным ликом произвола является любовь, о которой нередко говорят как о принципе нравственности. Однако любовь — это, строго говоря, не принцип, то есть не основополагающий признак, обладающий формальной определенностью и позволяющий ввести то или иное явление в определенные границы. Это значит, что любовь легко может оказаться лишь маской, в которую рядится тирания. Показательно, что даже авторы, призывающие использовать субстанцию любви (как сострадания к ближнему) в качестве своего рода «общественной скрепы»2, с помощью которой следовало бы обеспечивать искомую социальную солидарность, и противопоставляющие эту христианскую идею языческому культу силы (в современном варианте — культу власти и денег), вынуждены признать утопичность и даже опасность подобного общественного устройства3.
1 Там же.
2 Кантор М. К. Учебник рисования. М., 2006. Т.2. С. 778.
3 «Если исторической идеей станет идея сострадания, — пишет М.Кантор (талантливый проповедник идей братства и милосердия как основы обще-
313
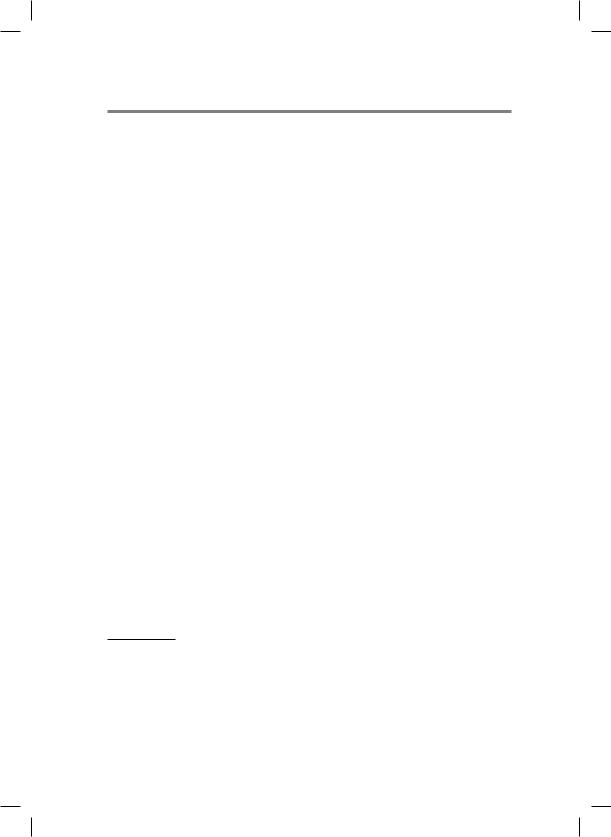
Глава 6. Правопонимание в России
Релятивизм этической концепции права был ярко продемонстрирован в советские годы, когда население с удивительной легкостью адаптировало свои религиозно-нравственные представления о праве, справедливости, общем благе и т.д. к классовой идеологии большевизма. Отсутствие в общественном сознании правового стержня
ввиде идеи формального равенства позволило большевикам увлечь людей идеологемой фактического равенства, в рамках которой равенство в правах подменялось потребительской уравниловкой, всеобщая человеческая солидарность — классовым единством, общее благо — общественными интересами коллектива, право — партийными директивами, справедливость — классовой диктатурой, а свобода — произволом. В итоге оказалось, что ментальная нацеленность «русской души» на нравственно-религиозные ценности
вруках умелых манипуляторов массовым сознанием превратилась
всвою противоположность и привела к разрушению как традиционной общечеловеческой нравственности, так и религии.
Неразвитость правового сознания основной массы российского населения, ввергнувшая ее во власть большевистской диктатуры, проявлялась в том, что она веками понимала свободу как волю, то есть как произвол, реализующий себя через насилие. Подобным народным чаяниям отвечали такие политические «брэнды», как «Земля и воля», «Народная воля» и т.п. Большевики смогли прийти к власти именно потому, что пообещали такую вольницу социальным низам и даже на какое-то время ее допустили. Из этого порыва к воле, умело и жестко направленного новой властью в русло коммунистической идеологии, и вырос тот реальный энтузиазм масс, который позволил обществу вынести огромное напряжение
ственной жизни), — если именно любовь будет принята как единственная скрепа общественного договора, это создаст непреодолимые препятствия для многих, отмеченных — и не случайно, а по заслугам — привилегиями ума, достатка и права. Способны они от привилегий отказаться, а главное, нужно ли это — неизвестно. Вполне вероятно, что это приведет к иным испытаниям и бедам, еще людьми не испытанным» (Там же. С. 781).
314
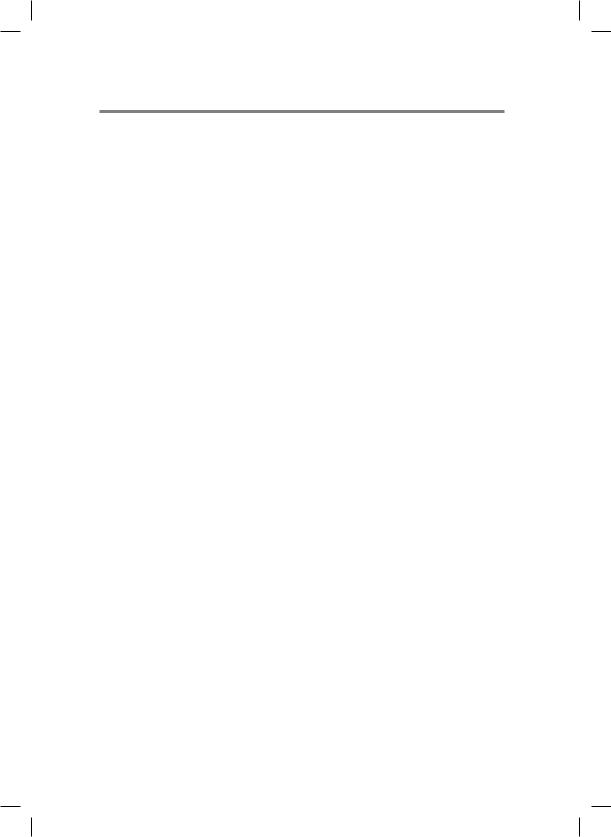
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
гражданской войны, коллективизации, индустриализации, отечественной войны и послевоенного подъема страны. Инерция этого энтузиазма, сохранявшаяся и в годы сталинских репрессий (совершенно неизбежных для обуздания постреволюционной вольницы) и во времена хрущевской оттепели, окончательно иссякла лишь к периоду застоя.
Последующеепродвижениенашегообществаксвободеужеимело более осмысленный характер и осознавалось именно как движение к праву. Показательно, что диссиденты, выступившие инициаторами этого движения, в качестве своего главного требования к власти выдвинули соблюдение Конституции СССР и закрепленных в ней прав человека. В этой связи важно отметить, что превращение идеи прав человека в фактор политического противостояния советскому тоталитаризму — это вовсе не результат злонамеренных происков Запада против слабеющего СССР (такая версия событий, которую под флагами лжепатриотизма «проталкивают» сторонники самобытности отечественной демократии и российского права, как раз очень ущербна для национального самосознания). Концепция прав человека, пишет А. Даниэль, «отнюдь не была ни западным заимствованием, ни поздним воспоминанием о слабых опытах российского либерализма второй половины ХIХ и начала ХХ века. Она явилась на советской почве автохтонно и внезапно, в те годы, когда основная стратегия западной пропаганды по расшатыванию устоев советского общества сводилась к передачам по радио современной легкой музыки. … Идея прав человека родилась из опыта отечественной истории ХХ столетия как идеология антисталинизма, как формализация коренной русской идеи свободы и справедливости, как язык независимой общественной активности. … Почему именно эта концепция оказалась на тот момент настолько востребованной? … Один ответ очевиден: социуму, досыта наевшемуся грязной и кровавой политики первой половины ХХ века…, позарез необходима была идея открытого гражданского неполитического действия… . Права человека оказались подходящей для этого базой,
315
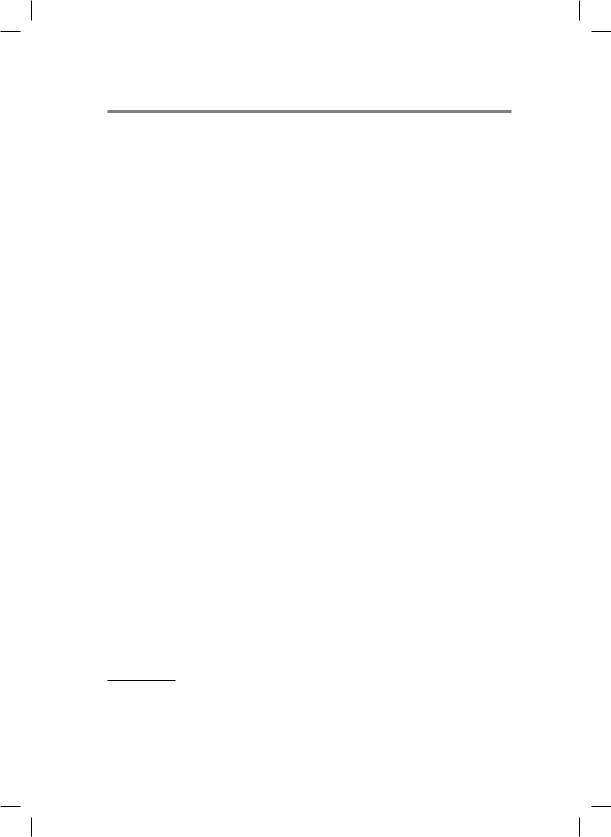
Глава 6. Правопонимание в России
не подверженной отчуждению и перерождению».1 Идея прав человека, резюмирует он, «не просто была переоткрыта российскими диссидентами заново. Она была переосмыслена русской культурой и русской общественной мыслью, превратившими ее из правовой концепции в философию нового глобализма»2.
Правда, когда А. Даниэль говорит о том, что идея прав человека родилась из опыта отечественной истории в качестве формализации коренной русской идеи свободы и справедливости, он недооценивает степень новизны этой идеи для российских реалий. На самом деле идея прав человека не была обусловлена историческим опытом России, она, как верно отмечает сам автор, явилась своего рода интеллектуальным продуктом, остроумной творческой находкой, появившейся в результате глубокого осмысления векового опыта бесправия. Это яркий пример того, как сила мысли преобразует реальность. Причем главные преобразования происходят не на поверхности общественной жизни, где небольшая группа диссидентов «бодается» с властью, как теленок с дубом.
Гораздо важнее преобразования глубинных пластов российской ментальности, связанные с медленной, но верной трансформацией в понимании того, в чем состоит достоинство человека. От прежней трактовки достоинства только как внутренней свободы от греха общество постепенно переходит признанию достоинства человека как субъекта правовых отношений. Думаю, что далеко не последнюю роль в этом процессе сыграла и сама советская власть, которая (и здесь надо отдать ей должное) не ограничивалась демагогией возвеличивания «простого человека», а приложила немалые усилия к тому, чтобы кардинально поднять уровень образования всех слоев советского общества. Средний (так называемый «простой») советский человек эпохи застоя — это хорошо образованный даже по западным меркам, а значит, и умеющий думать человек. И хотя
1 Даниэль А. Возможно ли принуждение к демократии // Росс. бюлл. по правам человека. 2007. Вып. 24. С. 11.
2 Там же. С. 14.
316
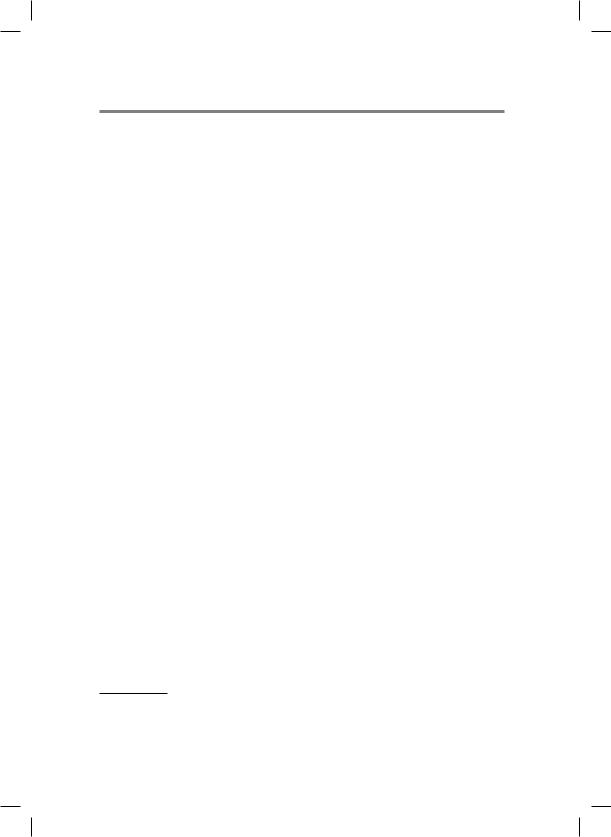
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
встране, где чуть менее 150 лет назад большая часть населения находилась в рабском статусе крепостных, а несколько поколений советских людей были «пушечным мясом» для тоталитарного государства с его прожектами коммунистического строительства, достоинство человека не могло быть увязано в общественном сознании с правом, население СССР эпохи позднего застоя уже вполне было готово для того, чтобы понять имманентную связь между этими категориями. Главная заслуга советских диссидентов состоит
втом, что они перевели категорию достоинства человека в правовую плоскость.
Следующей вехой на пути в сторону реализации этой идеи стало провозглашение М. С. Горбачевым курса на гласность и плюрализм мнений (советские суррогаты свободы слова и политического плюрализма), отмена ст. 6 Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль Коммунистической партии, и, наконец, — принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Новая Российская Конституция (при всех неизбежных недостатках) отвечает своему главному историческому предназначению — она является правовым по своей сути документом, опирающимся на «исторически апробированное положение о правах и свободах человека как основной показатель признания и соблюдения права и справедливости в общественной и государственной жизни людей»1. Другое принципиально важное правовое достижение Конституции связано с закреплением в ней перехода от системы советов, основанной на слиянии законодательной и исполнительной власти при руководящей роли правящей партии, к парламентаризму и разделению властей. Независимость законодателя и суда от традиционно доминировавших в России структур исполнительной власти, а также реальный политический плюрализм, предполагающий наличие эффективной (то есть способной
1 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. С. 684.
317
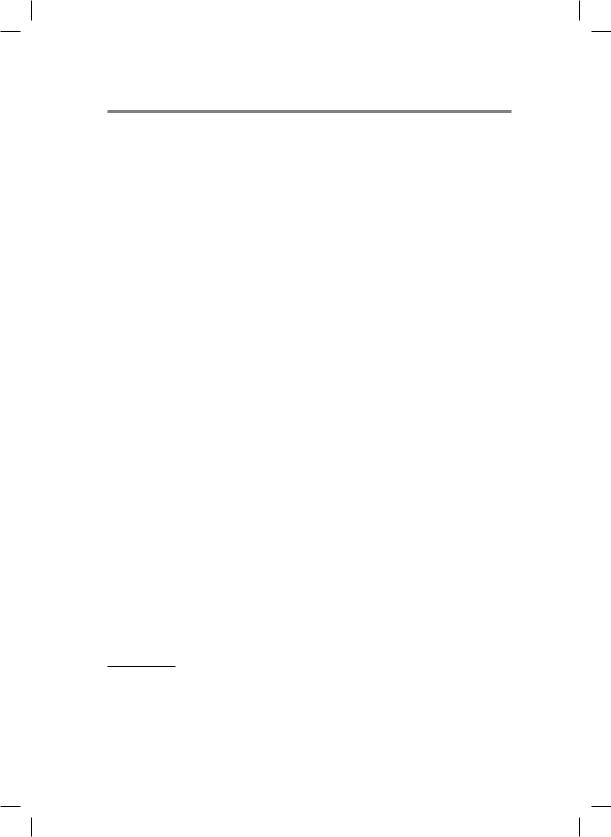
Глава 6. Правопонимание в России
придти к власти) оппозиции, должны были стать гарантиями недекларативности конституционных положений о правах человека как высшей ценности, определяющей смысл и содержание деятельности органов власти.
На этом историческом переломе, связанном с крушением социализма и поиском Россией нового типа общественного устройства, у страны появился шанс выстроить такую политико-правовую систему, в рамках которой можно было бы достичь искомый русской философией синтез индивидуальной свободы и социальной солидарности на основе и в границах права. На мой взгляд, именно такой синтез индивидуального и социального начал составляет философ- ско-правовую суть разработанной В. С. Нерсесянцем (и в общих чертах опубликованной им уже к началу 1990-х гг.1) концепции цивилизма как постсоциалистического общественного строя, который мог сложиться на основе правовой десоциализации так называемой социалистической собственности. Однако вопрос о необходимости поиска правовой модели приватизации, способной согласовать интересы всех слоев общества в этом самом важном для него моменте постсоциалистических преобразований, не был поставлен в повестку дня ни одной политической силой. В отсутствии осмысленной и активной позиции общества по этой проблеме властные сруктуры сочли возможным для себя пойти на самый неправовой (то есть самый произвольный, самый пренебрежительный по отношению к интересам подавляющего большинства членов общества) вариант приватизации. По классификации Мирового банка российская приватизация, проведенная главным образом в интересах узкой номенклатурной прослойки, обозначена как инсайдерская, что намного хуже так называемой макиавеллевской приватизации, которая
1 Нерсесянц В. С. «Закономерности становления и развития социалистической собственности» // Вестник АН СССР. 1989. № 9; Он же. Концепция гражданской собственности // Сов. государство и право.1989. № 10; Он же. Прогресс равенства и будущность социализма // Вопросы философии. 1990. №3.
318
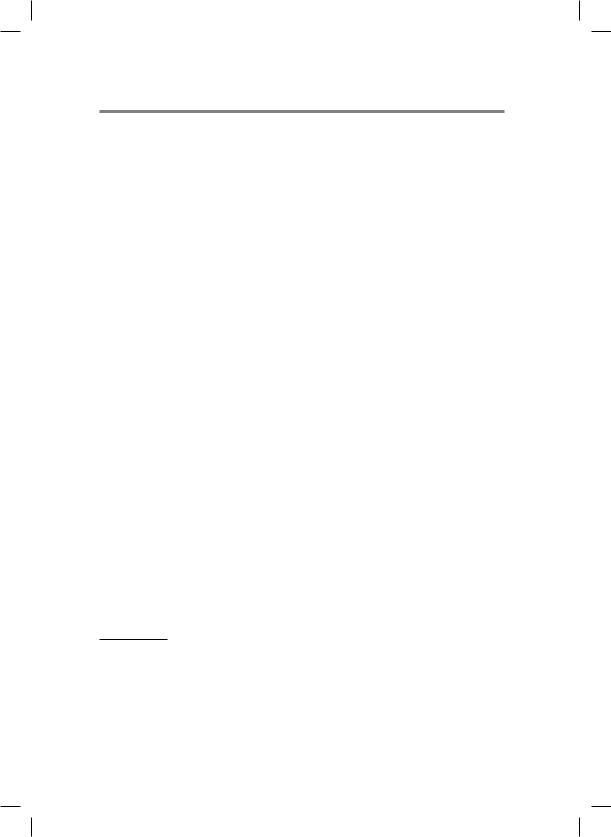
6.1.Исторические особенности формирования и развития правопонимания в России
проводится «политическими партиями правительства в интересах собственных сторонников и собственного электората»1.
Откровенно неправовой характер начатой в 90-х гг.масштабной приватизации предопределил, в конечном итоге, и все известные деформации системы политико-правовых отношений постсоветской России. Суть дела заключается в том, что в ходе реформ (вопреки риторике самих реформаторов) было осуществлено не разгосударствление собственности, а напротив, огосударствление прежней социалистической собственности (то есть собственности «всех вместе» и «никого в отдельности»), которая до этого и не была собственностью в политико-экономическом смысле этого слова. Лишь с помощью приватизации «постсоветское государство как раз и создало экономико-правовые условия, необходимые для самоутверждения в качестве настоящего собственника. По смыслу этого процесса вся масса объектов бывшей социалистической собственности становится настоящей собственностью государства именно потому, что некоторые ее объекты ... переходят к отдельным членам общества (индивидам, трудовым коллективам, объединениям, акционерным обществам и т.д.)»2. Формирование в результате такого огосударствления собственности множества самостоятельных центров власти-собственности, названное парадом суверенитетов, подрывало государственный суверенитет и вело к «отсутствию в стране общего правопорядка и единой законности, девальвации роли закона, бездействию общих правовых принципов и норм, конкуренции источников права в центре и на местах, раздробленности и хаотичности правовой регуляции, «сословно-цеховому» характеру различных правомочий и правовых статусов»3.
1 Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. Изд. 2-е. М., 2010. С. 336.
2 Нерсесянц В. С. Гражданская концепция общественного договора об основах постсоциалистического строя // Социс. 2001. № 2. С. 31.
3 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 50.
319
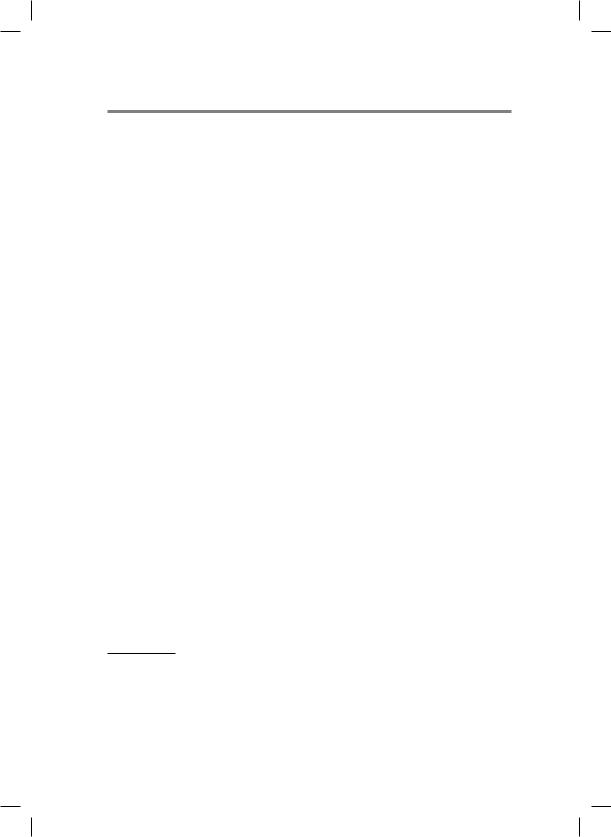
Глава 6. Правопонимание в России
Выход из сложившейся ситуации мог быть осуществлен либо
всторону выправления тех деформаций правовой системы, которые были обусловлены неправовым характером приватизации (путем частичного пересмотра ее итогов, а главное — за счет соответствующей налоговой и социальной политики, а также обеспечения правового характера последующих приватизационных этапов), либо
внаправлении построения «вертикали власти» и установления жесткого контроля исполнительной власти над законодательным и правоприменительным процессами. Как известно, был избран второй сценарий развития событий. В результате вместо некоего подобия раннефеодальной раздробленности мы получили своего рода аналог позднефеодальной централизации, не избавившись при этом от коренного порока сложившейся системы общественного устройства, позволяющего говорить о ее неофеодальном характере, а именно — от слияния власти и собственности. Чиновники постсоветской России, которые реально распоряжаются государственной собственностью, управляя процессами ее приватизации и рыночного функционирования, а также представители крупного бизнеса, получившие в результате приватизации из рук чиновников государственную собственность, сформировались в новый правящий класс, представляющий собой феодальный по своей природе симбиоз власти и собственности, деформирующий как экономические отношения, так и их политико-правовые формы.
Вэкономике эти деформации проявляются прежде всего в преимущественно паразитарных формах использования ресурсов и достижений прошлого без сколько-нибудь заметных усилий по их воспроизводству и развитию. При этом очевидная нелигитимность собственности1 и складывающегося на ее основе общественного
1 «Именно нелигитимность возникшей в стране крупной собственности (усугубленная последующей ситуацией с опять-таки нелигитимными залоговыми аукционами), — считает В. Д. Зорькин, — лишает представителей крупного российского бизнеса общественной поддержки и создает тот массовый социальный фон «негативного или злорадного равнодушия», на котором и не-
320
