
10027
.pdf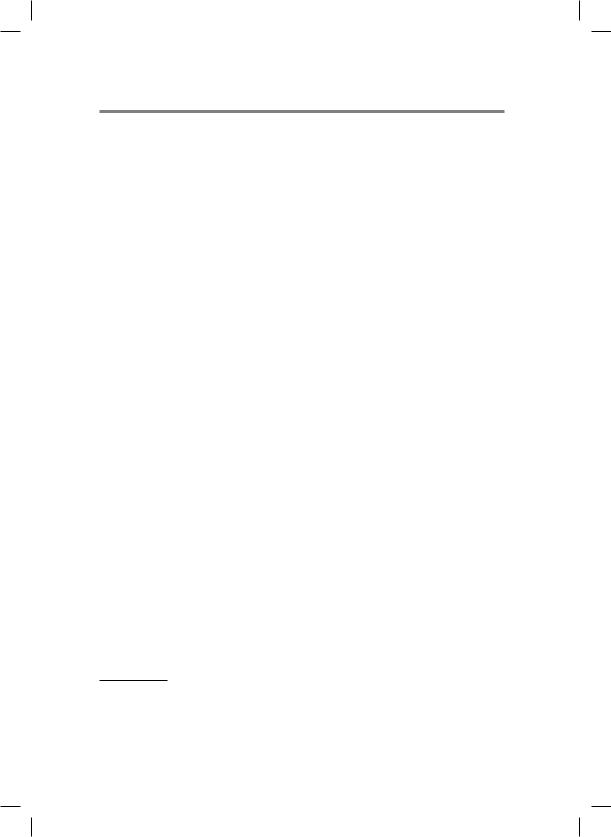
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
нином» в качестве существенного элемента в процессе создания права (показательно, что здесь говорится именно о молчаливом сотрудничестве), Л. Фуллер дает этому верному тезису ограничительную трактовку, не позволяющую ему выйти за рамки позитивистского подхода. Он не имеет в виду, что закон существует лишь для человека, который либо участвовал в его создании, либо согласился с ним (в противном случае, считал Ж.-Ж. Руссо, — это не закон, а заповедь или приказ). Следовательно, автор не считает, что в ситуации, «когда люди не принимают участия в выработке общих решений, касающихся их же собственного благосостояния и счастья», ущемляются, как говорил И.Кант, «не просто их интересы (последнее могут обеспечиваться даже при деспотическом правлении), а самое способность суждения, свобода которой нравственно очевидна для каждого»1. Соответственно, он не согласился бы с В. С. Нерсесянцем в том, что свобода возможна лишь там, где «люди не только ее адресаты, но и ее творцы и защитники»2. В этой идее о том, что каждый, на кого направлено действие закона, должен иметь возможность в той или иной форме принимать участие в его создании, выступая таком образом в качестве субъекта, а не объекта государственной правовой политики (идее, общей для целого ряда направлений классической естественно-правовой доктрины и либертарно-юридического правопонимания), находит свое наиболее полное выражение тот принцип соблюдения достоинства человека, о котором Л.Фуллер вспоминает лишь в связи
снарушениями внутренней моральности права.
Сучетом сказанного можно, на мой взгляд, сделать вывод, что концепция права Л.Фуллера, изложенная в его книге «Мораль права», не выходит за рамки социологического и юридического позитивизма, хотя и расширяет правовые горизонты данных подходов. Автор стремится преодолеть недостатки этих типов правопонимания,
1 Соловьев Э. Ю. Выступление на «круглом столе» «Право, свобода, демократия // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 6.
2 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
271
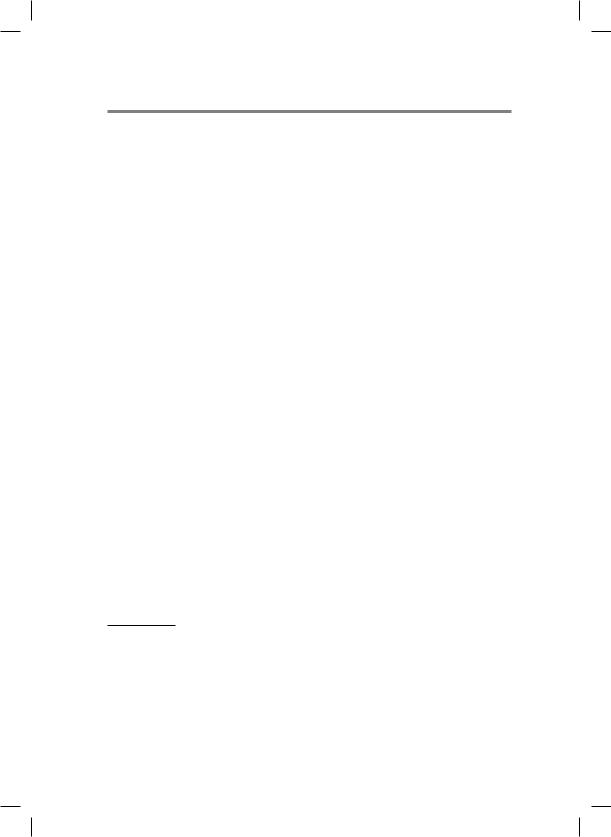
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
не позволяющие выявить собственный, имманентный признак права как особого социального явления. «Если право — это просто очевидный факт авторитета или социальной власти, тогда, — как верно подчеркивает он, — … мы теряем возможность определения меры, в которой правовая система как целое достигает идеала законности; чтобы не противоречить своим посылкам, мы не сможем, к примеру, утверждать, что правовая системы страны Х в большей мере соответствует принципам законности, чем правовая система страны У»1. Но отказ от поиска сущностного признака права и ориентация лишь на процедурный критерий не оставляют ему возможности сделать это2. В итоге предложенный им набор процедурных критериев законности оказывается не способен, как мы видели, в полной мере отразить правовое качество системы нормативной регуляции.
При этом Л. Фуллер не хочет пользоваться и внешним по отношению к праву моральным критерием, осознавая юридическую ущербность такого подхода. Он стремится, как верно отмечает И. Ю. Козлихин, понять право «из самого себя»3, избегая ограниченности позитивистского типа правопонимания. Однако подобные попытки в принципе не могут быть успешны в силу логической невозможности выразить понятие какого-либо явления, не прибегая к внешним критериям. В математической логике эта мысль получила строгое доказательство в рамках известной теоремы К. Гёделя о невозможности доказать непротиворечивость формальной системы средствами самой системы. «Логическая полнота (или неполнота) любой системы аксиом, — гласит так называемая вторая теорема Гёделя, — не может быть доказана в рамках этой системы. Для
1 Фуллер Л. Мораль права. С. 176.
2 Для В. С.Нерсесянца таким критерием оценки степени правовой развитости различных национальных систем права является реализация в рамках этих правовых систем принципа формального равенства (см.: Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. 2001. № 6. С. 5–15).
3 Козлихин И. Ю. Указ соч. С. 53.
272
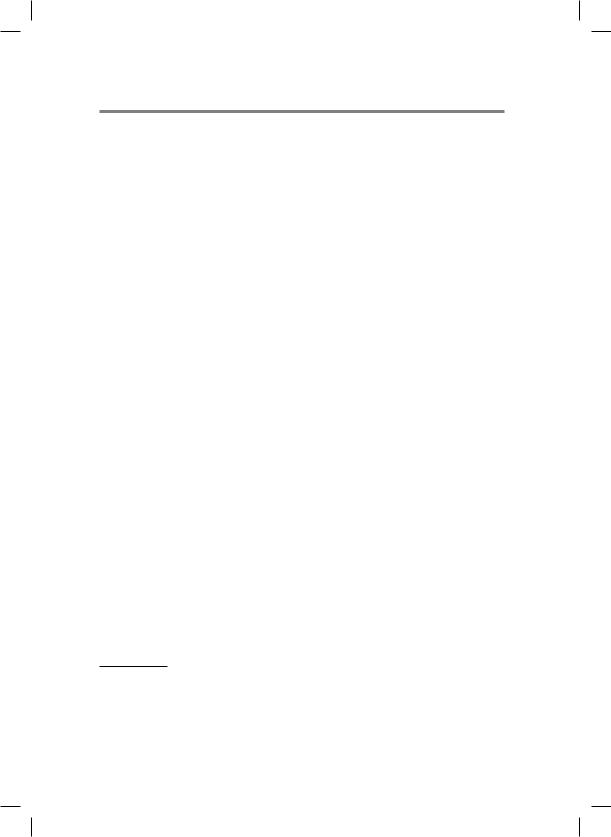
5.4.Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка понять право из процедуры его формирования и реализации
ее доказательства или опровержения требуются дополнительные аксиомы (усиление системы)»1.
В. С. Нерсесянц решает обе проблемы, в тисках которых оказался Л. Фуллер. Во-первых, он предлагает для определения правового начала идеальный критерий (принцип формального равенства), взятый из более абстрактной по отношению к праву сферы — из математики и логики. Во-вторых, этот внешний по отношению к праву критерий не является у него моральным или религиозным (что характерно для естественно-правовой доктрины). Именно наличие такого критерия в концепции В. С. Нерсесянца позволяет понять, почему правила, в подчинении которым Л. Фуллер видит цель института права, носят общий, то есть общезначимый характер. В рамках либертарно-юридического правопонимания такой характер права обусловлен лежащим в его основе принципом формального равенства. Право носит всеобщий, а не партикулярный характер, то есть «выступает как всеобщая форма» 2, поскольку оно является равной мерой свободы, с которой все субъекты соответствующего круга правоотношений согласны именно потому, что она равная, то есть справедливая.
Свою книгу Л. Фуллер заканчивает тезисом, не оставляющим сомнений в позитивистской ориентации его подхода. «Возможно, со временем, — пишет он, — философы права перестанут заниматься главным образом выстраиванием «концептуальных моделей» для представления правовых систем, оставят свои бесконечные споры о дефинициях и повернутся к анализу социальных процессов, которые и составляют правовую реальность»3. В этой связи уместно отметить, что задача науки состоит как раз в том, чтобы в процессе таких «бесконечных споров» понятийно структурировать правовую реальность, укладывая ее «в прокрустово
1 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 516. Режим доступа: http: // www.ru.wikipedia.org›wiki/Вторая_теорема_Гёделя.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 37.
3 Фуллер Л. Мораль права. С. 285.
273
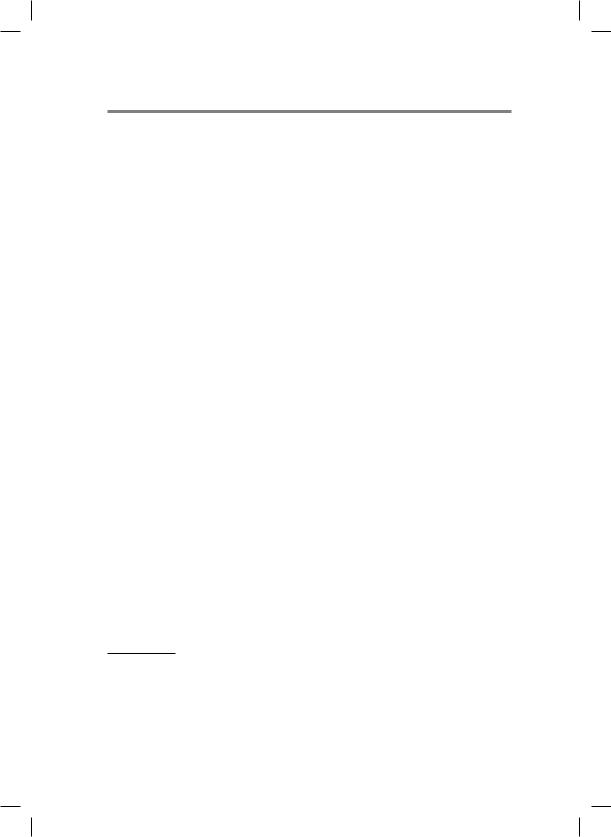
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
ложе дефиниций», о котором автор ранее отзывался также весьма скептически. Отличительной особенностью либертарно-юридичес- кой концепции В. С. Нерсесянца является как раз то обстоятельство, что она представляет собой концептуальную модель, выстроенную на основе единого исходного правового принципа и единого исходного правового понятия путем последовательной конкретизации понятия, несущего в себе правовой принцип, через систему соответствующих правовых дефиниций1.
5.5. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса
Свой краткий обзор с позиций либертарного правопонимания наиболее ярких и широко обсуждаемых в настоящее время концепций права я хотела бы закончить анализом взглядов Ю. Хабермаса — исследователя, который по своим политико-правовым установкам наиболее близок В. С. Нерсесянцу. Эта близость позиций отнюдь не очевидна в силу приверженности авторов разным типам научной рациональности. Как уже отмечалось ранее, социальная философия Ю. Хабермаса развивается в русле постклассической рациональности, а философии права В. С. Нерсесянца имеет «легко различимые греко-римские и кантианско-гегелевские истоки»2 и, соответственно, принадлежит к классической парадигме.
Главный недостаток классической философии эпохи модерна Ю.Хабермас видит в монологичности (то есть субъект-объектной направленности) ее исследовательской парадигмы, в ее претензиях на получение объективного научного знания о социальных процессах в результате индивидуальных усилий познающего субъекта. Взамен он предлагает диалогичный (т. е. не субъкт-объектный,
1 Подробнее см.: Нерсесян В. С. Правовой принцип формального равенства // Государство и право. 2011. № 2. С. 91–97.
2 Графский В. Г. О своеобразии русской философии права // Философия права в России: история и современность // Третьи философско-правовые чтения памяти акад. В. С. Нерсесянца. М. 2008. С. 28.
274
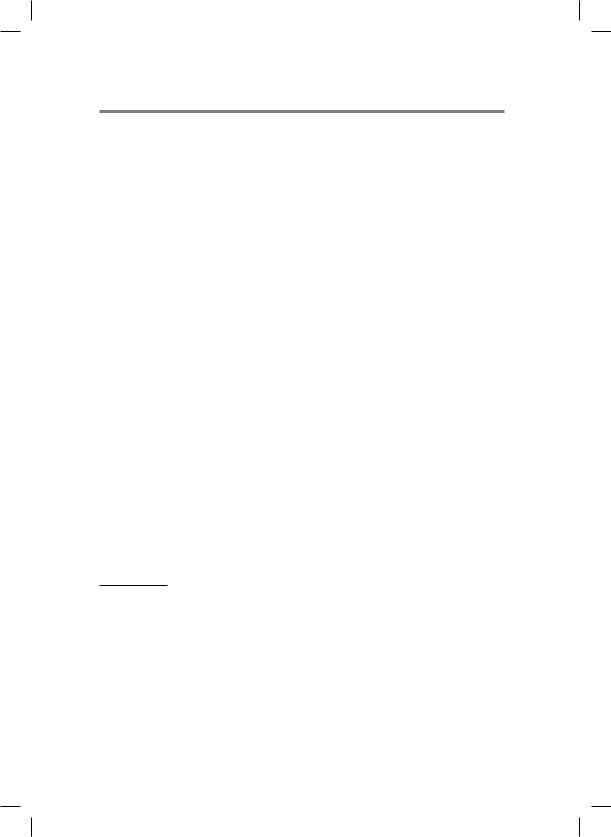
5.5. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса
а межсубъектный, интерсубъектный) поиск истины в процессе социальной коммуникации, направленной на консенсус. В этом смысл его идеи коммуникативного разума, формирующегося в ходе социального дискурса, который приходит на смену индивидуальному разуму, лежащему в основе классической философии модерна. При этом ключевая идея, проходящая лейтмотивом через все творчество Ю. Хабермаса, состоит в единстве познания и коммуникативной социальной практики. С позиций такого подхода теория познания предстает у Ю.Хабермаса как теория общества1, а теория истины — как теория консенсуса2. Дискурс, представляющий собой ориентированный на консенсус многовекторный диалог, который ведется «с помощью аргументов, позволяющих выявить общезначимое нормативное в высказываниях»3, трактуется им и как процесс познания, и одноврменно как процесс формирования познаваемой социальной реальности. Если участники дискурса обладают надлежащей «коммуникативной компетенцией», мы имеем дело с той «идеальной разговорной ситуацией», которую автор рассматривает в качестве основы своей «этики дискурса».
Коммуникативный разум в трактовке Ю. Хабермаса отрицает субстанционально-нормативный характер истины, обусловленный трансцендентальной природой человеческого разума. Истина рассматривается им как «коммуникативный процесс, принимающий форму теоретического дискурса, включающего различные уровни аргументации, различающиеся по глубине рефлексии»4. С позиций
1 Режим доступа: http://www. ru.wikipedia.org/wiki/Хабермас
2 Денежкин А. «Фактичность и значимость» Ю.Хабермаса: новые исследования по теории права и демократического правового государства // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. С. 188.
3 Слоян Г. Г. Правосудие или коммуникативный дискурс справедливости // Философия права в России: Теоретические принципы и нравственные основания. СПб., 2008. С. 98.
4 Чубукова Е. И. Коммуникативно-прагматическая концепция истины в философии языка Ю. Хабермаса // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана: Материа-
275
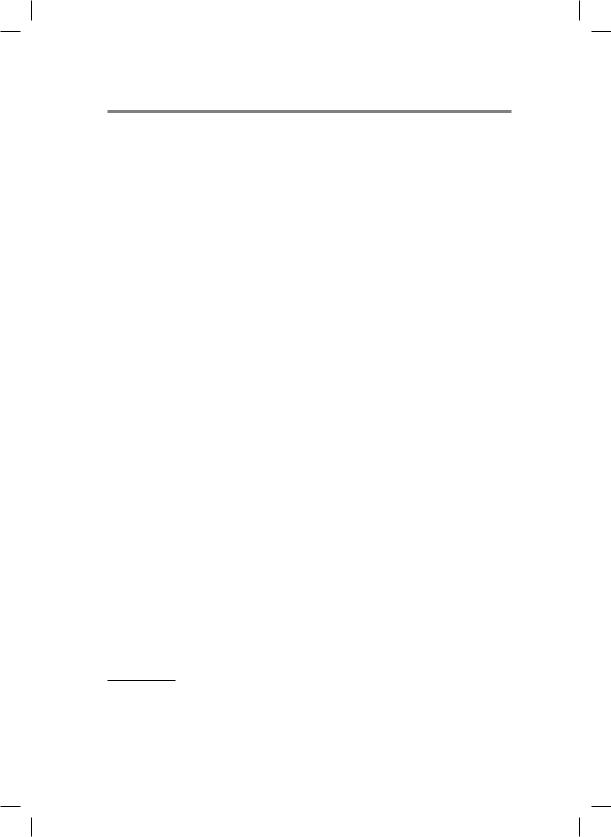
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
такого подхода истинно моральное (нормативно значимое) решение предстает как лишенный субстанциональной основы постоянно меняющийся (и в этом смысле — «принципиально погрешимый»1) результат социального дискурса. Такой подход означает, что рациональность в концепции Ю. Хабермаса имеет не сущностный характер, в соответствии с которым значимость нормы (а применительно к праву — ее общезначимость) задается неизменным, трансцендентальным по своей природе сущностным признаком, а процедурный характер. Именно в этом моменте состоит главное отличие правовой концепции Ю. Хабермаса от либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца, в основе которой лежит как раз такой трансцендентальный, абстрактный, сущностный признак — формальное равенство, обусловленный, в конечном итоге, разумной природой человека.
Для понимания позиции Ю. Хабермаса в этом вопросе показателен его спор с другим немецким философом К.-О. Апелем, который раньше него начал разрабатывать этику коммуникативного дискурса. Основу разногласий между этими авторами составляет отношение к вопросу о возможности трансцендентального по своей природе окончательного обоснования (так называемого «последнего обоснования») коммуникативной дискурсивной этики, то есть обоснования принципов, лежащих в ее основе. С точки зрения Ю. Хабермаса, дискурсивная этика может быть обоснована лишь путем обращения к ресурсам реального жизненного мира. Философский дискурс, считает он, всегда исторически ограничен социокультурным жизненным миром конкретной эпохи, и, следовательно, не существует лежащих за рамками этого мира неоспоримых предпосылок понимания. Таким образом, Ю. Хабермас исходит из того, что не бывает метадискурса как дискурса более высокого порядка, задающего правила для подчиненных дискурсов. По мнению
лы междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Вып. 12. СПб., 2001. С. 256.
1 Там же. С. 189, 190.
276
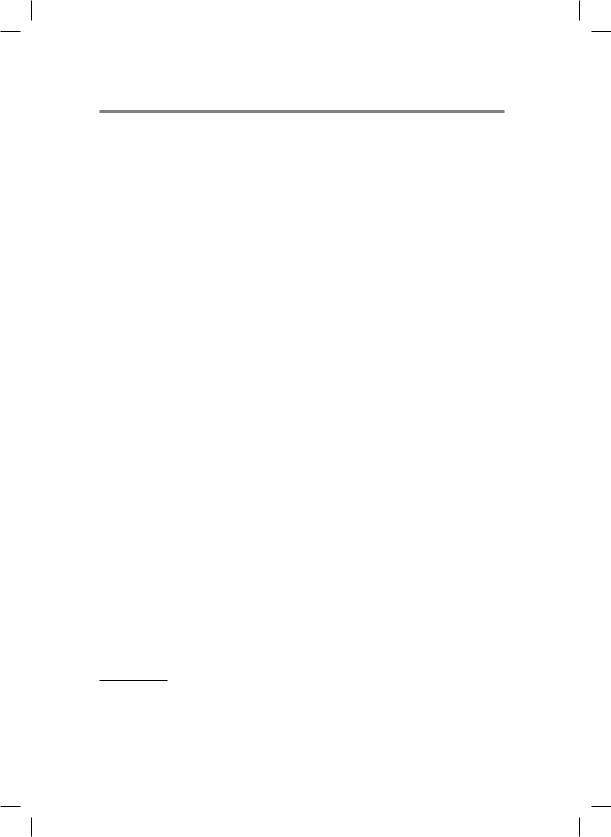
5.5. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса
К.-О. Апеля, «метадискурсы возможны, и предложения, сформулированные на самом высоком уровне рефлексии и обобщения, могут быть обоснованы окончательно. А поэтому они являются условием возможности любого дискурса, выступают его строгой трансцендентальной предпосылкой. … Если резюмировать суть различий между обоими подходами, то можно утверждать, что мы имеем дело с двумя стратегиями обоснования дискурсивной коммуникативной этики … В принятии посылки окончательного обоснования Апелем и ее неприятии Хабермасом лежит главная линия водораздела между формально-прагматической теорией и трансцендентально-праг- матической теорией Апеля»1.
Однако, хотя Ю. Хабермас и отрицает наличие априорной идеи или принципа, которым должно соответствовать существо решения, полученного путем коммуникативного консенсуса, тем не менее очевидно его стремление реализовать через процедуру социального взаимодействия идею свободы, которая в своем процедурном оформлении предстает как формальное равенство участников взаимодействия. Именно субстанциональный (трансцендентальный) принцип формального равенства стоит за сформулированным им основополагающим процедурным принципом дискурсивной этики, согласно которому «...та или иная норма лишь в том случае может претендовать на значимость, если все, до кого она имеет касательство, как участники практического дискурса достигают (или могли бы достичь) согласия в том, что эта норма имеет силу»2. Такое равенство слагается в его концепции из следующих компонентов: «1) равенство шансов на применение коммуникативных речевых актов участниками дискурса; 2) равенство шансов на тематизацию мнений и критику; 3) свобода самовыражения, предотвращающая формирование подавленных комплексов; 4) равенство шансов на применение регулятивных речевых
1 Там же.
2 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.,
2000. С. 104.
277
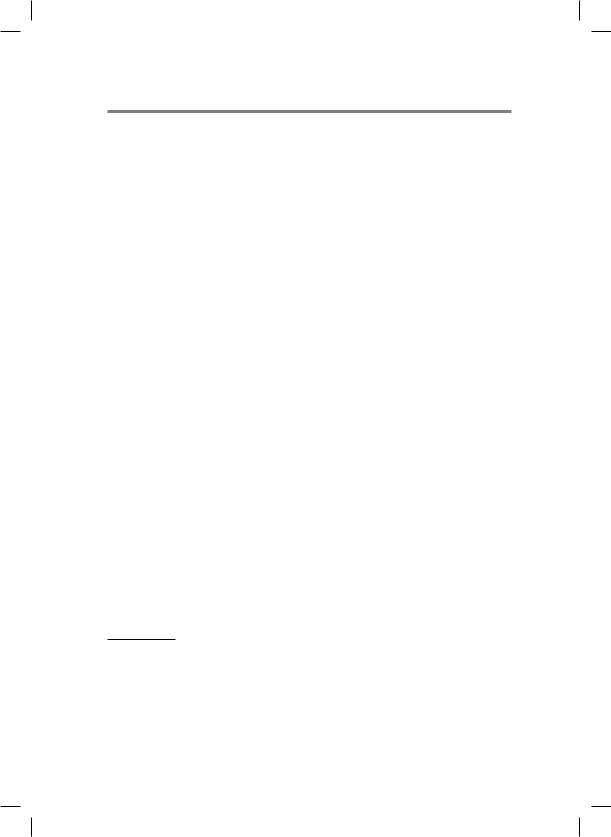
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
актов, обеспечивающее взаимность отношений участников дискурса и исключающее привилегии — односторонне обязывающие нормы общения»1.
Таким образом, отрицание трансцендентальной рациональности касается у Ю. Хабермаса лишь содержания коммуникации (здесь он выступает как ситуационалист, с позиций которого «истину процесса коммуникации определяют только участники процесса»2). Но в отношении процедуры коммуникативного дискурса он предстает как универсалист и моралист, для которого «правила корректности процесса нормативно даны заранее как требования идеальной ситуации»3. Более того, за лежащим в основе формально-прагма- тической позиции Ю. Хабермаса социальным оптимизмом (пусть и очень сдержанным, но все же определенно допускающим возможность консенсуса в процессе общечеловеческого дискурса) проглядывает вера в тот индивидуальный человеческий разум, природа которого не может быть объяснена в рамках социальной или психо-биологической эмпирии. «Сегодня, — сказал он в своей лекции «Вера и знание», состоявшейся спустя всего месяц после сентябрьских взрывов в Нью-Йорке 2001 г., — у нас осталась не более чем робкая надежда на хитрость разума — и немного на самовразумление»4. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что тема этой лекции перекликается с названием не менее знаменитой статьи А.Эйнштейна «Религия и наука», где великий физик говорил о рациональном устройстве мира и о том космическом религиозном чувстве, которое является «сильнейшей и благороднейшей из пружин научного исследования», направленного на познание «даже мельчайших отблесков рациональности, проявляющейся
1 Денежкин А. Цит. соч. С. 190.
2 Фливберг Б. Хабермас и Фуко — теоретики гражданского общества // Социологические исследования. 2000. № 2. С. 127.
3 Там же.
4 Хабермас Ю. Вера и знание. Режим доступа: http: //www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos…Ver_Znan.php.
278
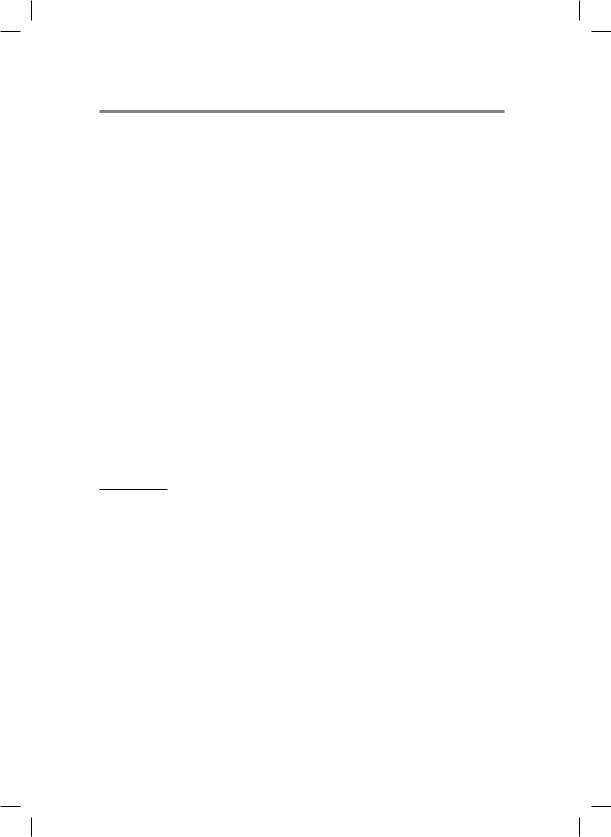
5.5. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса
в этом мире»1. Думается, что упомянутая Ю. Хабермасом «робкая надежда на хитрость разума» в чем-то сродни «космическому религиозному чувству» А. Эйнштейна, позволяющему верить в разумность мироустройства. Важно подчеркнуть, что в ситуации, когда человеческий разум стал считаться слишком изменчивым и погрешимым, чтобы служить надежным фундаментом человеческой культуры, когда по мнению многих, «традиционная апелляция к Разуму и Опыту оказалась совершенно немыслимой в духовной атмосфере западной культуры ХХ в., развенчавшей многовековой (идущий от Сократа) культ разума»2, Ю. Хабермас не только остался верен идее разума, но и стремится продемонстрировать регулятивный потенциал этой идеи, адаптируя ее к сложным реалиям современной социальной жизни.
Применительно к рассматриваемой нами проблематике правопонимания коммуникативная теория Ю. Хабермаса предполагает отказ от классического монологизма в правопонимании и ориентацию на коммуникативный, диалогичный характер процесса познания права, соответствующий принципам социального и идеологического плюрализма3. Правопонимание для Ю. Хабермаса — это не тип
1 Эйнштейн А. Религия и наука. Режим доступа: http://scepsis.ru/library/ id_48.html. «Только тот, — писал он, — кто сам посвятил свою жизнь аналогичным целям, сумеет понять, что вдохновляет таких людей … Люди такого склада черпают силу в космическом религиозном чувстве. Один из наших современников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди» (Там же).
2 Шишкин И. З. Карл Поппер и позитивистская традиция // Поппер К. Все люди — философы. М., 2009. С. 11.
3 Чичнева Е. А. Актуальные проблемы современного права, или Новое правовое мышление (Взгляд философа) // Вестник Моск. ун-та. Сер.7. Философия. 2001. № 2. С. 85–110. Предложенное им расширительное истолкование критерия рациональности, пишет она, означает «уже не универсальность формы, которой должно обладать право, а универсальность положений, которые переосмысливаются в терминах «дискурсивной этики». Такие положения порождаются и находят свое подтверждение в «интерсубъективной практике аргументации», которая есть ни что иное, как процедуральное по своему характеру существование открытого дискурса. Рациональность, таким образом,
279
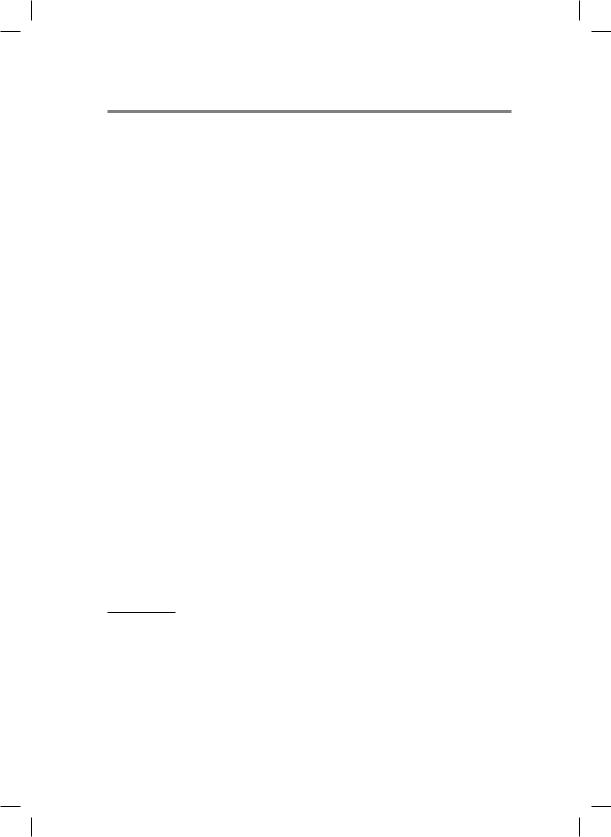
Глава 5. Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: сравнительный анализ
рефлексии, а социальная коммуникация, в ходе которой формируется не только понятие права, но и само право как факт социальной жизни. Процесс познания права смыкается в его концепции с процессом правообразования, потому что идея права у него не привносится в социальную практику извне, а формируется и постоянно обновляется в ходе социального дискурса. Правда, Ю. Хабермас признает, что позитивное право нуждается в моральном обосновании, подтверждающем его справедливость. Однако он полагает, что «с постметафизической точки зрения нельзя считать, что философия может представить неоспоримые и рационально обоснованные моральные нормы. Философские исследования в лучшем случае могут лишь обозначить условия для тех процессов, в рамках которых нормы могут быть легитимированы людьми, исходя из их жизненного мира»1.
Такой подход означает, что Ю. Хабермас отказывается от идеи права (как меры свободы, формального равенства, формальной справедливости, естественных прав человека и т. д.), заменяя ее
идеей процедурной справедливости дискурса. Данное обстоятельство, как верно замечено, ставит автора «в весьма затруднительное положение в тех случаях, когда его задачей становится построение критической теории общества, так как понятие критики подразумевает не только рассмотрение определенных социокультурных жизненных форм, обусловливающих специфическое содержание ресурсов жизненного мира, но и необходимость введения нормативных стандартов, оправдывающих эту критику …»2.
Философско-правовые взгляды Ю. Хабермаса, основанные на его теории коммуникативного действия, наиболее полно изложены
сохраняется не как раз и навсегда достигнутая и зафиксированная структура, а как вновь и вновь устанавливаемая, то есть как непрекращающаяся, непрерывная «процедура» (Там же).
1 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. СПб., 2007. С. 468.
2 Назарчук А. В. Ю.Хабермас и К.-О.Апель: два подхода к обоснованию теории общества в современной немецкой философии. Режим доступа: sbiblio. com›biblio/archive/nasarchuk_ju.
280
