
10027
.pdf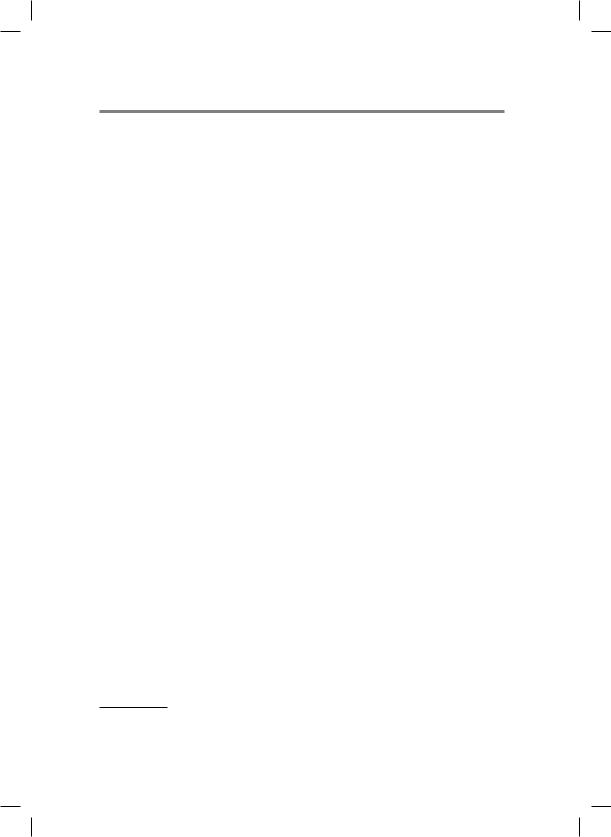
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
сути права, выраженной через образ Весов Правосудия, обозначающих равенство и справедливость. Ведь латинское слово «юстиция» (iustitia), как известно, переводится одновременно и как справедливость, и как правосудие. Все эти аспекты правового смысла слова «юстиция», пишет В. С. Нерсесянц, «нашли адекватное отражение
вобразе богини Справедливости Фемиды с Весами Правосудия. Используемые при этом символические средства (богиня с повязкой на глазах, весы и т.д.) весьма доходчиво выражают верные представления о присущих праву (и справедливости) общезначимости, императивности, абстрактно-формальном равенстве (повязка на глазах богини означает, что абстрагированный от различий равный правовой подход ко всем, невзирая на лица, — это необходимое условие и основа для объективного суждения о справедливости) (курсив мой. — В. Л.)»1.
Очевидно, что, если Конституция является подлинно правовым документом, достойным того, чтобы оказаться в руках Фемиды, то суть права, выраженная через образ Весов Правосудия, должна быть заложена в тексте Конституции. А значит, она может и должна быть выявлена в процессе его судебного толкования. Задача конституционного правосудия состоит именно в том, чтобы каждый раз находить такое судебное решение, которое соответствует этой глубинной правовой сути и конкретизирует ее применительно к рассматриваемой судом конкретной правовой проблеме. Возвращаясь под этим углом зрения к позиции Конституционного Суда РФ по вопросу о критериях ограничения прав человека, я хотела бы, не оспаривая эту исключительно важную правовую позицию, предложить иную логику ее обоснования, позволяющую ввести ее
вграницы конституционного текста и более полно сочетать с заложенным в нем правовым смыслом.
Прежде всего, надо отметить, что при формировании данной правовой позиции Конституционному Суду можно было бы, на мой
1 Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. М., 2006. С. 45.
481
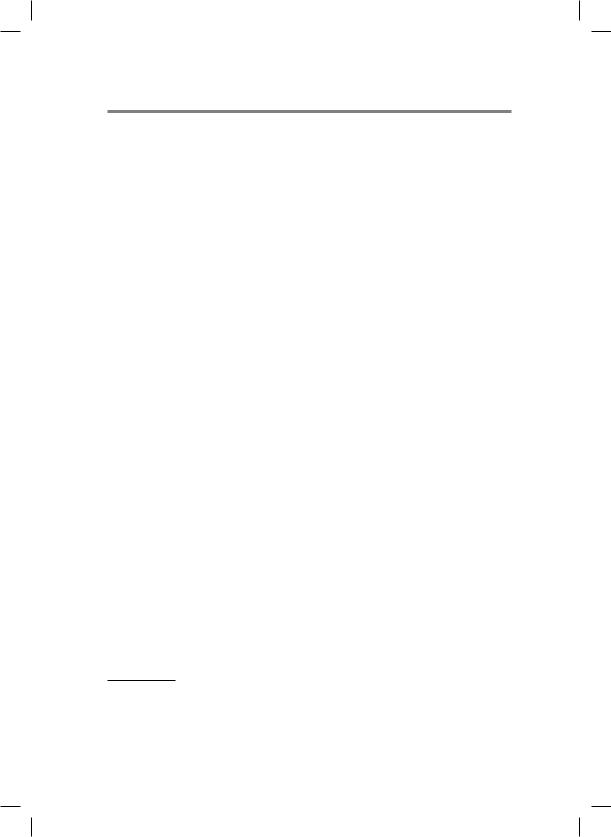
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
взгляд, указать только на те критерии ограничения прав человека, которые содержатся в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. С формальной точки зрения сформулированные здесь пределы ограничения прав человека при их надлежащей интерпретации являются достаточной гарантий против произвола со стороны законодателя и в полной мере соответствуют букве и духу Конституции. Если под пределами ограничения прав понимать границы права, за которые законодатель не должен выходить (в противном случае его решения утрачивают правовой характер, то есть становятся произволом в форме закона), то требование соразмерности между ограничениями прав человека
изначимостью защищаемых конституционных ценностей вполне достаточно для очерчивания этих границ. Наполнение данного требования надлежащим правовым смыслом зависит уже от того, каким образом (в конечном итоге, — на какой мировоззренческой основе) законодатель и правоприменитель осуществляют соизмерение прав человека с такими ценностями общего блага, как основы конституционного строя оборона страны и безопасность государства, нравственность и т.д. При этом правовая логика (в том числе
илогика Конституции РФ как правового по своей сути документа) предполагает, что в процессе такого соизмерения конституционные ценности должны быть выражены через корреспондирующие им права человека.
Именно такой подход продемонстрировал, в частности, Европейский Суд по правам человека при рассмотрении жалобы российской Республиканской партии, когда указал, что при отсутствии жалоб со стороны членов партии-заявителя, касающихся организации и проведения съездов, допущенные при выборе делегатов недочеты не оправдывали серьезного вмешательства государства во внутреннюю деятельность партии1. Такая позиция означает, что ограничение прав граждан на политическое объединение с целью
1 §88 мотивировочной части Постановления ЕСПЧ по делу Республиканской партии России — против России. Режим доступа: http://jurix.ru›…news… espch…respublikanskoj-partii).
482
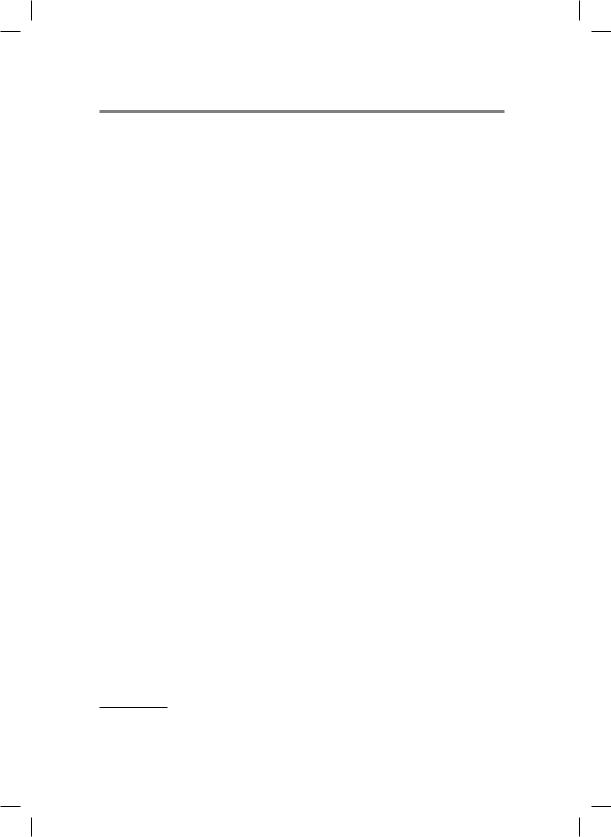
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
защиты ценностей общего блага, связанных с надлежащей организацией внутрипартийной жизни, может считаться правомерным лишь постольку, поскольку оно способствует защите иных прав человека и гражданина (в данном случае — прав самих членов партии). Причем угроза для этих прав должна носить не гипотетический характер, а подтверждаться конкретными фактами. Так, в этом же решении Европейского Суда (хотя и по иному поводу) отмечается, что применяемые государством санкции, заключающиеся в ограничении прав человека, должны быть «связаны с выявлением реальной угрозы национальным интересам, в частности, с фактами, основанными на конкретной информации» (§129 мотивировочной части Постановления).
Необходимость выразить конституционные ценности, защищаемые посредством ограничения прав человека, через корреспондирующие этим ценностям другие права человека, соответствует не только правовой логике Конституции РФ, объявившей права
исвободы человека высшей ценностью, но и формальной логике, лежащей в основе понятия меры как выражения единства качественных и количественных характеристик предмета (явления)1. Из смысла этого понятия вытекает, что соизмерять можно лишь качественно сопоставимые объекты. Мы не можем соизмерить, например, право человека на объединение в политическую партию
итакую конституционную ценность, как безопасность государства, по поводу которой в России всегда было принято считать, что «мы за ценой не постоим». Этот достаточно очевидный, на мой взгляд, тезис нуждается тем не менее в аргументации, поскольку представления о том, что можно как-то соразмерять степень ограничения индивидуальных прав со значимостью защищаемых при этом ценностей общего блага, получили большое распространение в правовой теории и практике. Поэтому сошлюсь на такого авторитетного юриста, как Р. Дворкин. Хотя «метафора установления равновесия
1 См.: Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 300.
483
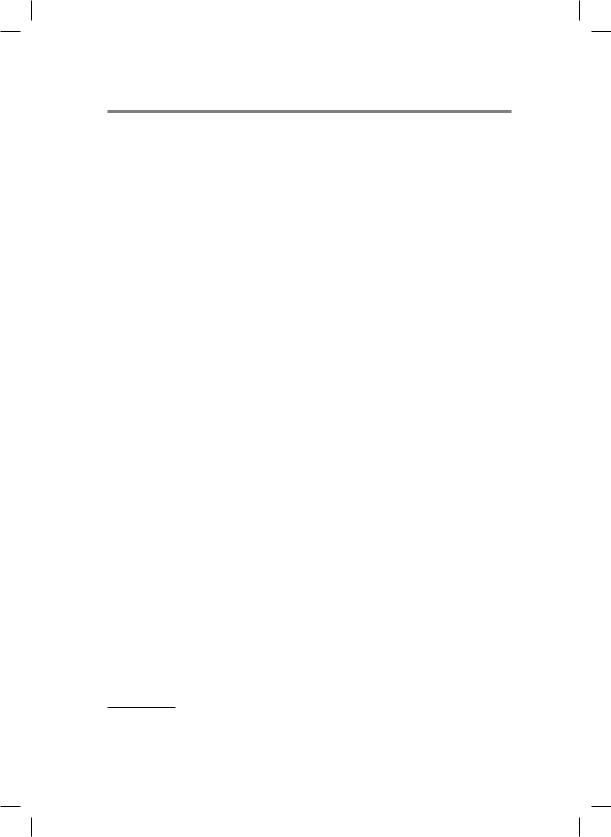
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
между общественными интересами и личными требованиями, — пишет он, — прочно вошла в нашу политическую и правовую риторику, и благодаря этой метафоре данная модель представляется знакомой и привлекательной», тем не менее, такой подход, говорит он, является ложным. Подобное «уравновешивание», считает автор, уместно тогда, «когда государству приходится выбирать между конкурирующими правами, например, между правом южанина на свободу объединений и правом чернокожего на равное образование. В этом случае государство может только оценить по достоинству конкурирующие права и действовать в соответствии со своей оценкой». В противном случае, продолжает он, «имеет место путаница, грозящая разрушить само понятие прав индивида (курсив мой — В. Л.)»1.
Это означает, что при рассмотрении вопроса о правомерности ограничения прав человека Конституционный Суд не может просто констатировать, что, по его мнению, данные ограничения соразмерны необходимости защиты конституционных ценностей. Он должен показать, какие права и свободы человека могут быть нарушены, если не будут должным образом защищены соответствующие конституционные ценности. Только после того, как Суд выявит те права человека, которые корреспондируют соответствующим конституционным ценностям, встает главный вопрос, на который он должен ответить — вопрос о соразмерности между ограничением рассматриваемого права и защищаемыми при этом конституционными ценностями.
Существующие здесь проблемы можно продемонстрировать на примере решения Конституционного Суда РФ по поводу запрета региональных политических партий. По мнению Суда, данный запрет является конституционным, поскольку он не только направлен «на достижение такой конституционно значимой цели, как формирование в стране реальной многопартийности, на правовую
1 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 271.
484
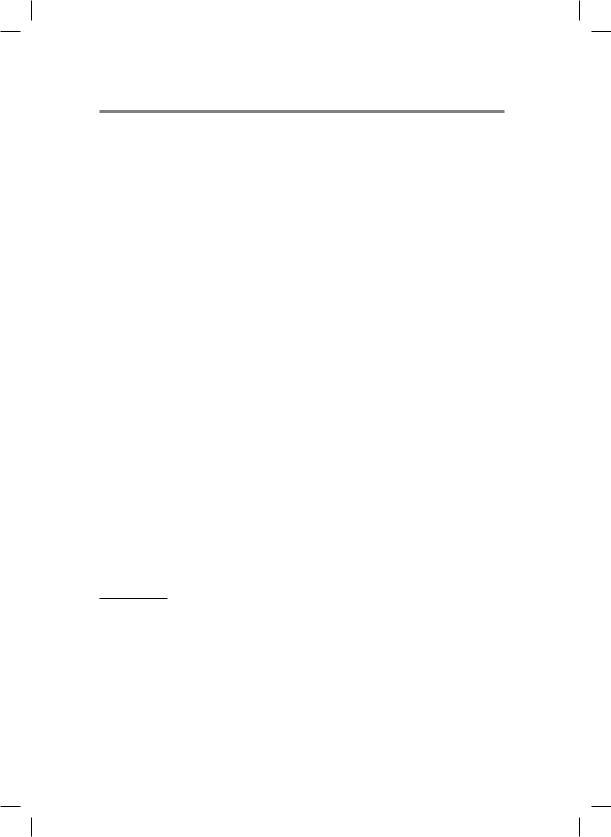
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
институционализацию партий в качестве важного фактора становления гражданского общества и стимулирование образования крупных общенациональных партий, но и необходим в целях защиты конституционных ценностей, прежде всего — обеспечения единства страны в современных конкретно-исторических условиях становления демократии и правового государства в Российской Федерации» (п. 3.1 мотивировочной части Постановления)1. Очевидно, что в этом перечне ценностей общего блага требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ непосредственно соответствует лишь обеспечение единства страны2. В другом месте (п. 3.2 мотивировочной части Постановления) в качестве таких ценностей, ради которых можно ввести дополнительные требования к субъектам конституционного права на объединение, Суд указал государственную целостность и единство системы государственной власти.
Оставляя в стороне вопрос о том, что в данном случае речь должна была идти не об ограничении права на объединение в региональную политическую партию в смысле ч. 3 ст. 55, а о запрете на создание и деятельность региональных партий в соответствии с ч. 5. ст. 13 (к этому вопросу я вернусь позднее), рассмотрим лишь подход Суда к определению соразмерности между ограничением права на объединение и защищаемыми при этом ценностями общего блага. Здесь мы видим, что хотя Суд и отметил необходимость «руководствоваться критерием разумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности» (п. 4 мотивировочной части
1 Российская газета. 2005. 8 февраля.
2 Что касается аргумента о необходимости создания крупных политических партий, то его убедительно опровергнул Европейский суд по правам человека в своем итоговом решении по жалобе Республиканской партии России, подчеркнув, что «маленькие группы меньшинств также должны иметь возможность учреждать политические партии и участвовать в выборах с целью проведения в парламент своих представителей» (Решение ЕСПЧ по жалобе «Республиканской партии России». Режим доступа: http://jurix.ru›…news…espch… respublikanskoj-partii).
485
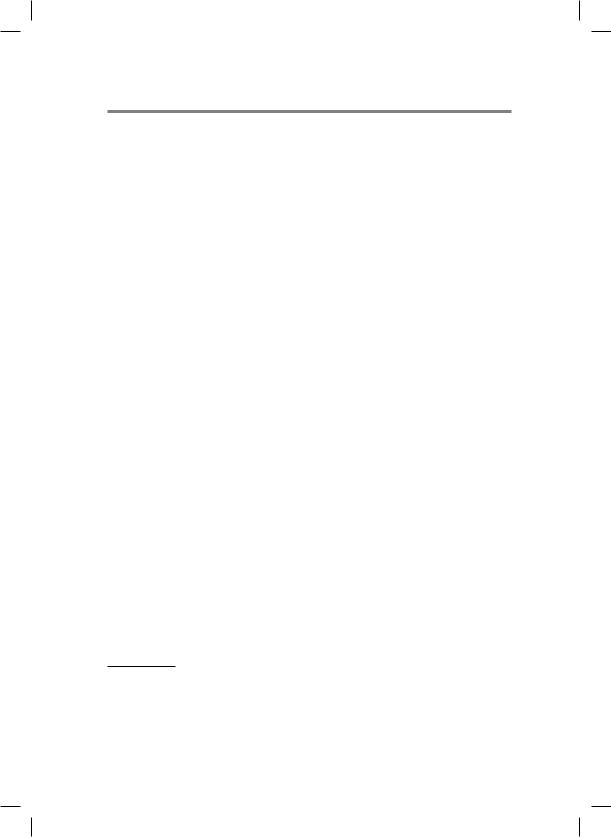
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
Постановления), однако фактически он ограничился лишь констатацией (по сути — декларацией) того, что подобное ограничение права на объединение направлено на защиту указанных выше конституционных ценностей. Между тем, если Конституционный Суд считает, что деятельность региональных партий угрожает основам конституционного строя, то он должен был проанализировать
степень соразмерности между этими ценностями и вводимыми ограничениями права на объединение. Для этого суд должен был: а) показать, какие конкретные права и свободы человека, корреспондирующие таким ценностям, как единство страны, государственная целостность и единство системы государственной власти, могут быть в данном случае поставлены под угрозу, и б) решить вопрос о соразмерности между ограничением права граждан на объединение и защищаемыми при этом конституционными ценностями, доказав, что защита прав, корреспондирующих этим ценностям, невозможна без ограничения права на объединение.1
При таком подходе вопрос о соразмерности между ограничением прав человека и защитой ценностей общего блага переходит в плоскость соотношения различных прав человека и подпадает под действие принципа равенства прав, сформулированного в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
С теоретической точки зрения наибольшие проблемы в процессе конкретизации конституционных ценностей через корреспондирующие им права человека возникают в том случае, когда речь идет о защите такой ценности, как нравственность. В этой связи надо отметить, что появление нравственности в перечне содержащихся в ч. 3 ст. 55 конституционно-правовых ценностей — это
1 Например, по поводу запрета в России региональных партий Европейский Суд справедливо отметил, что существуют иные меры для защиты национальной безопасности России, помимо запрета региональных партий (Там же. §129 мотивировочной части Постановления).
486
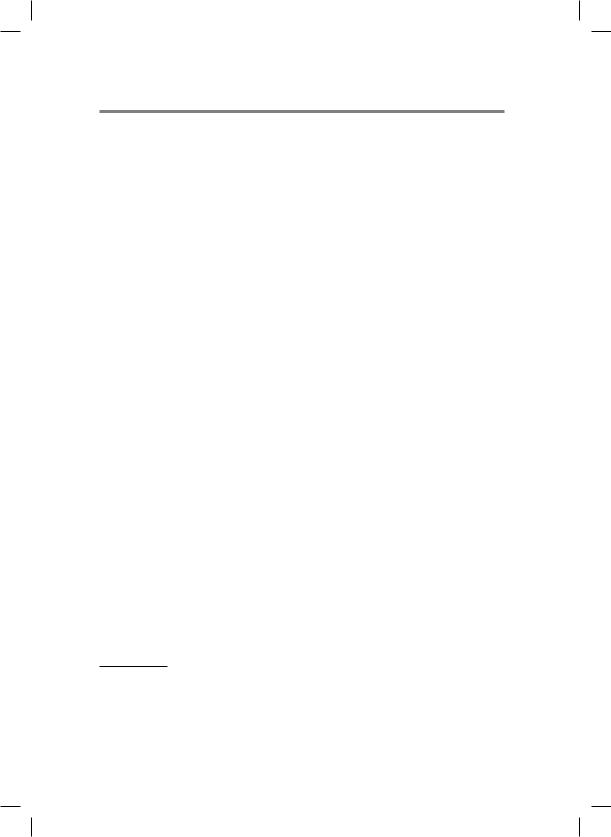
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
дань разработчиков Конституции РФ традиции юснатурализма, для которой характерно смешение правового и морально-нравс- твенного начал. За неоднократными апелляциями нашей Конституции к архаичной в своей основе доктрине юснатурализма явно просматривается желание уйти от более опасного смешения права
сбезнравственным властным произволом. Очевидно, что создатели Конституции ориентировались в этом вопросе на п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которому, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом …
сцелью обеспечения … признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали (курсив мой. —
В. Л.), общественного порядка и общего благосостояния». Данное положение Всеобщей декларации, принятой вскоре после окончания Второй мировой войны, стало результатом резкого всплеска интереса мировой общественности к естественно-правовой доктрине как теоретической альтернативе того легистско-позитивистско- го типа правопонимания, на котором основывались тоталитарные режимы фашистской Германии и СССР. Однако если на Западе сторонники этой доктрины выстраивают свои взгляды на правовом фундаменте тезиса о том, что люди рождаются равными в своем достоинстве и правах (что придает западным версиям юснатурализма либеральную направленность), то в России смешение права
снравственностью зачастую приобретает явно выраженный антилиберальный характер.
Дело в том, что в условиях господства системоцентристско-
го мировоззрения отсутствие критериев разграничения права и нравственности означает не возвышение права до уровня нравственных требований1, а ограничение прав человека для
1 Именно такой характер носит, например, запрет на применение смертной казни. «…Отмена смертной казни за умышленное убийство, — подчеркивает в данной связи В. С. Нерсесянц, — это не простая замена одной санкции другой,
а отказ от принципа права и равноценной правовой ответственности в самом
487
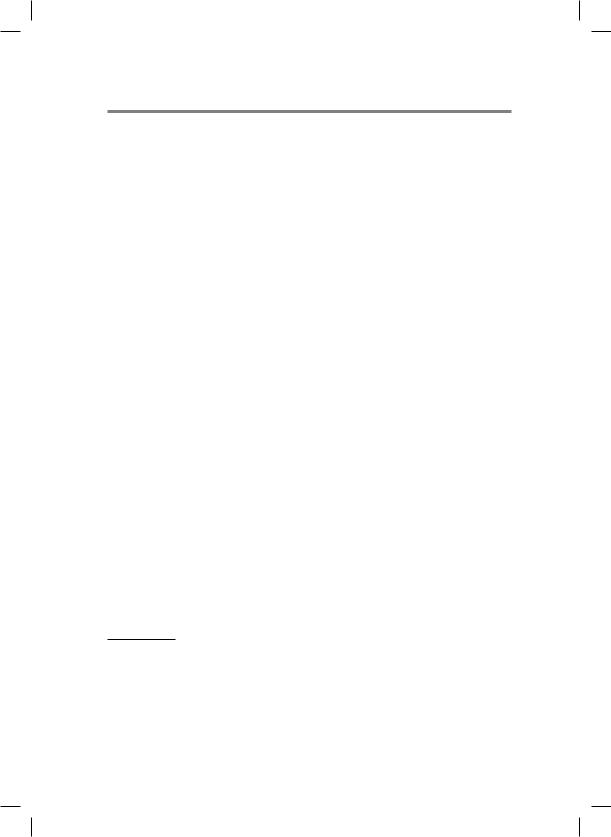
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
защиты общественной нравственности, выразителем которой, в конечном итоге, выступает государство. Не останавливаясь на аргументации этого тезиса, сошлюсь на авторитет Б. Н. Чичерина, который в упомянутой ранее полемике с В. С. Соловьевым по вопросу о соотношении права и нравственности убедительно показал, что смешение этих разных по своей сути социальных феноменов неизбежно ведет к расширению границ государственного произвола.
В рамках системоцентристской правовой традиции всякое упоминание в законодательстве о нравственных ценностях является питательной почвой для суждений о том, что право на проведение гей-парадов противоречит «культурным и религиозным традициям нашей страны»1 или что отказ от правового запрета гомосексуализма — это неоправданная дань такой «стратегии морального развития общества, при которой большая часть общественно признанных моральных требований к поведению людей лишается поддержки права, не может усиливаться средствами закона»2 и т.п. При этом наиболее последовательные сторонники нравственной концепции права выступают вообще против позитивистских, по их мнению, представлений о том, что «существует некоторый тип безвредного имморализма, в отношении которого законодатель должен быть терпимым»3. Например, Г.В Мальцев в качестве примера такого опасного для общества имморализма приводит отказ от правового запрета гомосексуализма и правовую регламентацию проституции. В этой связи автор возражает Г. Харту, который обосновывает необходимость распространения законодательного запрета только на те неодобряемые людьми поступки, которые приводят к появ-
важном и напряженном пункте правовой регуляции вообще» (Нерсесянц В. С. Философия права. С. 629).
1 Зорькин В. Д. Отношения человека и государства строятся через призму конституционных ценностей // Судья. 2011. № 10. С. 11.
2 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 348. 3 Там же. С. 368.
488
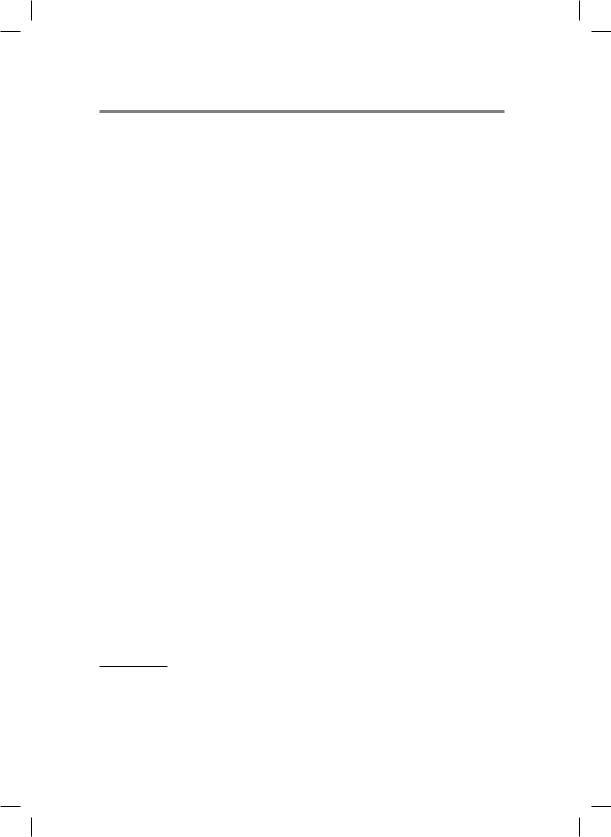
7.2.Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
лению у них дистресса, ощущаемого ими в качестве морального вреда (что, как считает Г.Харт, означает публичный характер этих поступков). «Если посмотреть, — пишет Г. В. Мальцев, — к чему направлена вся эта замысловатая конструкция, необычные построения и сверхтонкие различения (вроде отличия аморального поведения от непристойного), то мы обнаруживаем нечто знакомое, лежащее в основе всех либертарианских позиций — стремление к расширению частной сферы, свободной от общественного вмешательства»1. Между тем за этими действительно очень тонкими с юридической точки зрения рассуждениями Г.Харта стоит стремление автора не расширить сферу приватности человека, а лишь ограничить ее правовыми рамками, оградив от произвольного вторжения со стороны законодателя. Ведь если законодатель будет действовать, исходя из соображений нравственного порядка, то это будет означать возможность произвольного, то есть лишенного правовых критериев, ограничения прав человека, поскольку представления о нравственности всегда имеют партикулярный характер.
Правда, у Г.Харта отсутствуют теоретико-правовые критерии выявления того морального вреда, который трактуется им как нравственные страдания человека, имеющие правовое измерение. Как и все позитивисты, он не признает возможности содержательного (то есть теоретического) обособления моральных и правовых норм2 и, по сути дела, отдает решение вопроса о разграничении между правовой категорией морального вреда и общественной моралью, не подлежащей правовой регламентации, на усмотрение правовой практики (т.е. на эмпирический уровень решения проблемы). Очевидно, что такой подход чреват не меньшим произволом, чем смешение права и морали, предлагаемое сторонниками
1 Там же. С. .348.
2 Варламова Н. В. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: проблема соотношения // Наш трудный путь к праву. Материалы философскоправовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 280.
489
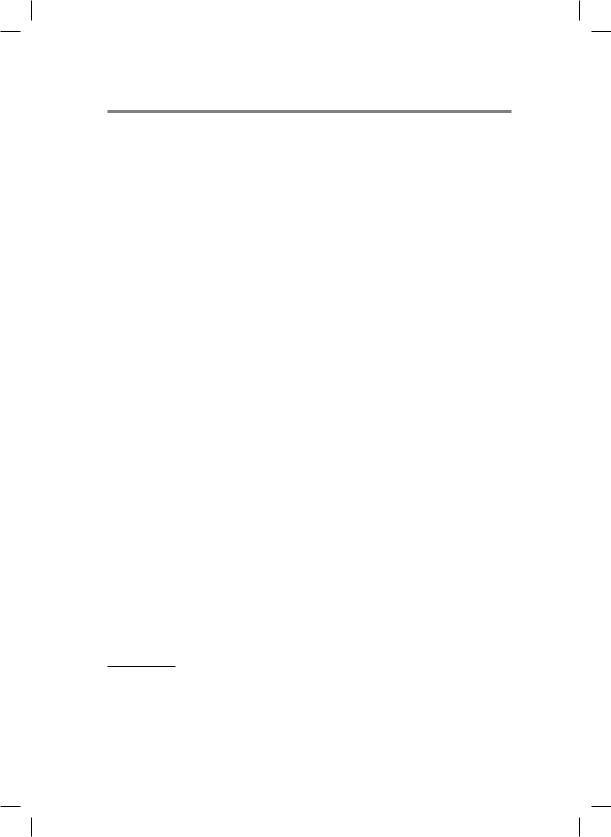
Глава 7. Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций либертарно-юридического правопонимания
нравственной концепции права. Конечно, в ситуации развитой по- литико-правовой культуры, которая гарантирует высокий уровень правового сознания законодателя и правоприменителя, опасность произвольного ограничения прав человека из-за отсутствия теоретических критериев различения права и нравственности, не столь велика. Однако подобные соображения никак не применимы к нынешней российской ситуации, где теоретическая неопределенность
вэтом принципиальном вопросе становится дополнительным (и не последним по значимости) фактором расширения масштабов государственного произвола.
Между тем, вопреки представлениям Г. В. Мальцева, идея разграничения правового и нравственного начал отстаивается не только приверженцами юридического позитивизма. Эта идея заложена
воснову либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца,
врамках которой выделяется сущностный признак права — формальное равенство, — отличающий его от всех иных нормативных регуляторов, в том числе и от норм нравственности. В Конституции РФ равенство субъектов прав и свобод человека прямо продекларировано в ст. 19, ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 14, а также косвенным образом выражено в таких формулировках, как «равные обязанности» (ч. 2 ст. 6), «равный доступ» (ч. 4 ст. 32), «наравне» (ч. 3 ст. 62) и т.д. Содержательно же этот принцип раскрыт через равенство индивидуальных прав и свобод в ч. 3 ст. 17, которая предусматривает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Закрепленный здесь принцип формального правового равенства задает границы взаимосогласованного бытия различных прав и свобод, «определяет … их пределы, рамки их всеобщего признания и реализации»1, выход за которые означает выход за рамки права.
1 Нересянц В. С. Философия права. С. 462. Нормативно-правовой и юри- дико-логический смысл этой нормы, подчеркивает В. С. Нерсесянц, «состоит
вутверждении, что закрепленные в Российской Конституции естественные
права и свободы человека (как, впрочем, и права гражданина) обладают юри-
490
