
Сванидзе А.А. (ред.) - Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. - 1999
.pdfземли. Наконец, владение землей зачастую использовалось по “прямому назначению” - для обеспечения личного хозяйства продуктами питания.
Календари грамот королевской канцелярии, оформляющих зе мельные сделки, несмотря на лапидарность последних, достаточно ин формативны, чтобы проследить на протяжении длительного времени операции бюргерства, прежде всего столичного, с недвижимостью. В грамотах можно выделить следующие объекты земельных сделок: ма норы, держания, ренты, повинности держателей (речь идет об оформ лении прав владения или собственности); оформление сеньориально вассальных отношений между участниками сделки или покупки комп лекса поместья с феодальными и сеньориальными правами, включение реципиента в межфеодальные отношения.
Следует отметить, что из-за неполноты ведения (или сохранности) записи в регистрах распределены неравномерно. Данное обстоятельст во не позволяет цифровым итогам подсчетов претендовать на полную точность и скорее показывают порядок явления, его тенденцию.
На примере характера земельных операций мерсеров, бакалейщи ков, сукноделов попытаемся проследить приоритеты этих групп, осо бенности их деятельности.
По характеру операций у мерсеров преобладает покупка земель, маноров, усадеб (34,4% всех случаев), т.е. фактически вложение капи тала в землю. Столь же интенсивно мерсерами ведется покупка рент (более 28% случаев), что обеспечивало им постоянный приток продук тов, сырья, денежных средств. С покупкой феодальных и сеньориаль ных прав, фактически покупкой комплекса феодального поместья как ячейки феодального хозяйства, связано 14% сделок. Активное участие в земельном рынке стало гарантией сохранения богатств через инве стирование в землю. Финансовое могущество компании м;ерсеров поз воляло им делать значительные инвестиции и получать немалые дохо ды от феодальной собственности. По всей вероятности, для мерсеров земельный рынок - традиционная сфера вложения капиталов: при пер вых двух Генрихах дома Ланкастеров, и при Генрихе IV, когда Столет няя война начала давать англичанам больше потерь, чем выгод, совер шалось примерно равное число сделок. Покупка рент переживает взлет в 30-е годы (почти половина всех случаев).
Накануне “Войны Роз”, в 40-е годы, число операций с землей сни жается (12,5% случаев). Возможно, мерсеры с их хозяйственным опы том лучше оценивали ситуацию и заблаговременно побеспокоились о своих капиталах. Но в целом приобретения мерсеров надежны: прода ют они свои владения редко. Продажа земель, маноров и т.п. составля ет 15% от всех “продаж”, та же доля определяет продажу рент. Чаще мерсеры “продают” вассальные права - 15% всех “продаж” (в “покуп ках” - немногим более 3%) и ленные держания, то есть владельческие права - 25% (“покупка” таковых - около 11%): это та же сфера обмена правами, но не реальной собственностью, недвижимостью.
Больше всего мерсеры продают в первое и третье десятилетия, меньше всего - в 30-е годы. Уступают они, как правило, джентри и чи новникам, но не своим постоянным соперникам - бакалейщикам, хотя знаменитый бакалейщик-гросер Томас Ноуллз и причастен к некото
290
рым сделкам мерсеров. Если рассматривать внутригрупповые отноше ния в сфере земельных операций, то они сводятся к перепродаже чле нам своей же гильдии земель, рент и прав на них, но доля таких опера ций в земельных сделках мерсеров невелика1.
Таким образом, для мерсеров прежде всего характерно вложение капиталов в покупку земель и рент. Первое гарантировало сохранение капиталов в неспокойное время, их приумножение в условиях активно го земельного рынка. Немаловажны доходы от сеньориальной ренты и других поборов. При этом мерсеры не вмешиваются в процесс аграр ного производства, не перестраивают его на новый лад, удовлетворя ясь положением представителя правящего класса, землевладельца феодального типа21. Косвенно об этом свидетельствует и баланс поку пок-продаж феодальных и сеньориальных прав, то есть возможности феодальной эксплуатации: он не в пользу приобретений. Перспектива таких приобретений связана с аноблированием и проникновением в управленческие структуры, втягиванием в межфеодальные отноше ния.
Имеются ли отличия в характере, интенсивности земельных опера ций у бакалейщиков, каковы их особенности, перспективы? Наиболее активно бакалейщики приобретают феодальные и сеньориальные пра ва, целые феодальные вотчины (36% всех сделок), а также земли, ма норы, усадьбы (24%), хотя уступая мерсерам почти в 1,5 раза (у послед них34,4%). Большая доля приобретений прав землевладельца, сеньо ра, возможно, не случайна: стремление бакалейщиков к аноблированию более устойчиво и более осознанно, чем у мерсеров. Вероятно, судьба семейства Ноуллзов в этом отношении типична: Ноуллзы три жды упоминаются в связи с покупкой земель, маноров, усадеб; дважды - с приобретением комплекса феодальных поместий и однажды - вла дельческих прав на поместье. При этом относительно велика доля при обретения именно владельческих прав - на ренту и феодальные и сень ориальные полномочия (12 и 16% соответственно). Цифры могут сви детельствовать о меньших возможностях бакалейщиков на земельном рынке, а также, возможно, о том, что бакалейщики отдавали предпоч тение операциям с движимым имуществом, т.е. сфере более быстрого оборота капиталов.
Наиболее интенсивна деятельность бакалейщиков при Генрихе VI, особенно в 30-е годы; к началу “Войны Роз” уровень ее, по сравнению с мерсерами, падает, но незначительно.
Как выглядят на этом фоне сукноторговцы? Наибольший интерес у них наблюдается к покупкам земельной собственности, в абсолютном процентном отношении они в этом превосходят, хотя и незначительно, бакалейщиков (7 из 22 случаев, т.е. 31,8%). В приобретении феодаль ных и сеньориальных прав они идут за бакалейщиками (более 18% слу
1Только у мерсеров встречаем приобретение и других феодальных прав (в партнерстве): право на ярмарочные, рыночные, таможенные сборы в Кенте и Сэссексе, держание на рынке в Дерби, сукновальную мельницу с оборудованием в Миддлсексе.
2 В держание давались не территории, а определенные расходные статьи, ренты, судеб но-административные права и т.п., что приводило к утрате фьефом его земельного, “реального” содержания.
10* |
291 |
чаев). Но обходят их в долях владения этими правами (доля в покупке рент около 14%). Цифры показывают, что по характеру операций сукноторговцы ближе к мерсерам, чем к бакалейщикам. Однако, что вы деляет сукноторговцев - это приобретение угодий, поместий или прав на них, вместе с мельницами, находящимися на их территории. Едва ли это случайно: все же сукноторговцы теснее связаны с производством шерстяных тканей, нежели с другими видами деятельности. В источни ке не указано функциональное назначение мельниц, но известно, что в этот период сукноделие перемещается из старых городских центров к “быстрой” воде в сельские районы, где больше возможностей для арен ды земли. Можно предположить, что приобретение суконщиками вла дельческих прав на территории с мельницами связано именно с этим процессом, т.е. овладением сетью сельского домашнего производства и переориентацией интересов сукноторговцев на операции с движимым имуществом. К середине XV в. в самой Англии перерабатывалась уже большая часть настригаемой шерсти.
Таким образом, эволюция процесса проникновения в аграрную сферу у торговцев сукном весьма своеобразна в сравнении с таковой у мерсеров и бакалейщиков. Овладение земельной собственностью свя зано у них с ориентацией на развитие шерстяного производства. Такой выбор делает их судьбу весьма перспективной в контексте дальнейше го развития хозяйства Англии, после потрясений “Войны Роз”, в усло виях стабильности.
Итоговые результаты операций с недвижимостью членов корпора ций мерсеров, бакалейщиков, сукноторговцев показывают, что “лицо” каждой из них имеет своеобразие. Могущественные мерсеры, которые стремятся к обладанию землями и доходами от их эксплуатации, лиди руют в доле приобретенных маноров, усадеб, угодий и рент с них. Цель приобретений - вложение капиталов в землю, существенная гарантия их сохранения в неспокойное время и получение постоянного источни ка доходов от обладания землей, дальнейшего обогащения, в том чис ле за счет связей с властными структурами.
Существенна доля в приобретении земельных владений и у бака лейщиков, но они предпочитают стать в один ряд с феодальными соб ственниками земли. Именно у них наибольшая доля приобретений фео дальных поместий в комплексе, а вместе с правами на них - больше по ловины, во всей совокупности прав сеньора, как по отношению к вас салам, так и к крестьянам. Это прямой путь к аноблированию, попол нению рядов правящего класса страны, совсем не обязательно на путях “нового дворянства” Как и у мерсеров, полуфеодальные формы экс плуатации крестьян на принадлежащих им земельных владениях, права юрисдикции и баналитетов, которыми они нередко обладали, опреде лили известные феодальные черты их социального облика. Этому спо собствовало и сближение с родовитым дворянством через браки и об раз жизни.
Вслед за ними в приобретении поместий или прав на них идут сук ноторговцы: у них высока доля приобретения рент, однако эти приоб ретения по возможности делаются с находящимися на них мельница ми, с другим оборудованием. Интерес к таким негоциям, возможно,
292
отражает наименее прочные позиции сукноторговцев на земельном рынке и их интерес к земле как “вместилищу” определенных произ водственных структур; в составе же рент, доля которых уступает лишь мерсерам, возможно присутствие продуктов шерстяного произ водства. Разные цели земельных операций определяют и разную пер спективу гильдий.
Обращение к этой малоизвестной стороне деятельности ведущих купеческих гильдий Англии первой половины XV в. позволяет за ключить, что земельные интересы купцов, их присутствие на земель ном рынке - важный фактор их эволюции. Это столь яркая, подчас скрытая от глаз деятельность оказывала большое влияние на повсе дневную жизнь гильдий, многообразие устремлений, психологию, поведение купцов. Развитие корпораций едва ли можно представить неуклонно поступательным, торговый капитал в условиях внутрен ней нестабильности мог уходить из сферы активного использования, что отражало периоды спада в социальном развитии английского об щества XV в.
ЛИТЕРАТУРА
Золотов В.И. Томас Ноуллз - лондонский гросер первой половины XV в. // Проблемы английской истории и историографии. Горький, 1989.
Косминский ЕЛ . Вопросы аграрной истории Англии в XV в. // Вопросы истории. 1948. № 1.
Репина JI.П. Лондонские землевладельцы в начале XV века (по данным на логового списка 1412 года) // Городская жизнь в средневековой Европе. М., 1987.
Herbert W. The Great Livery Companies of London. L., 1837. V. I. Home G. Medieval London. L., 1927.
Postan M. Some Social Consequences of the Hundred Year’s War // English his torical Review. 1942. Vol. XII.
Thrupp S. The Merchant Class of Medieval London. Chicago, 1948.
ГОРОДСКИЕ МАРГИНАЛЫ
НИЗШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ" БЕДНОСТЬ И БЕДНЯКИ
Историографическая перспектива
Вплоть до начала XX столетия историки рисовали романтические картины равенства и общинного единства средневековых горожан, якобы единым фронтом противостоящих своим светским и духовным сеньорам. В городах высокого средневековья видели подобие города нового времени и одновременно его этический идеал: здесь, в отличие от последнего, раздираемого социальными противоречиями эпохи ста новления промышленного капитализма, благодаря господству цеховой системы, якобы обеспечивалось право каждого полноправного горо жанина на труд, здесь подавлялось неравенство, и собственность была равномерно распределена среди ремесленного населения. Эти и подоб ные идеи о преобладающем и фундаментальном значении объединен ного в корпорации ремесленного населения и отсутствии в его среде резких имущественных различий развивали в свое время О. Тьерри и К. Гегель, JI. Зом и К. Бюхер, утверждавший, что “социальная органи зация средневекового города соответствовала интересам всех своих бюргеров”.
Развитие с рубежа XIX-XX вв. позитивистской историографии с ее интересом к явлениям хозяйственной и социальной жизни, к таким те мам, как движение народонаселения и система налогообложения в го родах, стремлением приложить к изучению средневековья статистиче ские методы нанесло сокрушительный удар по этим идеалистическим и во многом априорным концепциям.
Исследования X. Йехта, Р. Хинтце, О. Хаймпеля - первопроходцев изучения социальной истории средневекового города, обнаружили не только глубокие имущественные и социальные контрасты, но и опре деленную зависимость степени их интенсивности от типа хозяйствен ной структуры, характера и масштабов рынка сбыта того или иного го рода (дальняя торговля, экспортные ремесла, промысловая деятель ность, аграрное производство). Новые исследования открывали новые горизонты в представлениях о средневековом городе и, что особенно важно, о его типологическом многообразии. Не обошлось и без обрат ных генерализирующих крайностей - утверждений о существовании в средневековом городе накопления капитала и пролетариата (А. Дорен, А. Пиренн, А. Допш). Но как бы то ни было, с 20-х годов интерес к изу чению социальных процессов в городской среде прочно утверждается
© А.Л. Ястребицкая
294
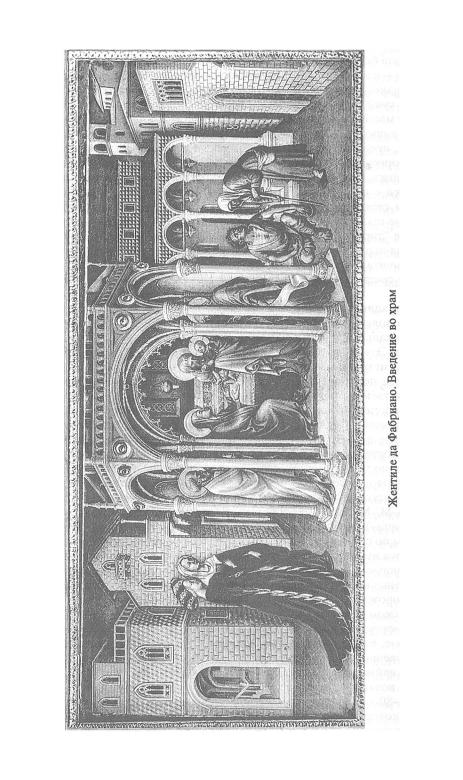
взападной буржуазной историографии, подобно тому как интерес к классовой борьбе и участию горожан в социальных движениях средне вековья - в исследованиях историков-марксистов.
Однако, эта первая “прививка” социологии к истории осуществля лась по существу еще в прежнем правовом измерении, определявшем в ту пору массовое исследовательское историческое сознание. Поэтому в центре внимания социальных историков начала века находились, как и прежде, преимущественно традиционные категории горожан, облада тели бюргерского права и соответствующих привилегий: цеховые ре месленники, гильдейское купечество, патрициат. Даже марксистские историки с их особой приверженностью к социальным низам, в том числе и стоящему вне городских корпораций “плебсу”, по существу, также не шли дальше общих констатаций их существования. Да и само понятие “городская беднота” в словоупотреблении историков вплоть до конца первой половины нынешнего столетия имело исключительно инструментальный характер и отражало не столько специфику реалий именно средневековья, сколько представления современной им самим эпохи.
Ситуация начинает стремительно меняться с рубежа 50-60-х годов, когда в поле зрения исследователей входит, и надолго, проблема низ ших социальных слоев и бедности как одной из важнейших ее состав ляющих. Это было связано не только с адаптацией историками-медие- вистами методов обновленной социологии (в частности, “теории сло ев”), но и переориентацией самого исследовательского мышления и, соответственно, интереса с экономических и социальных структур, профессиональной деятельности и имущественного положения, право вых “признаков” статуса самих по себе на социокультурный контекст и формирующие его социально-психологические представления, систе мы ценностей, модели социального поведения и, соответственно, - си стемы понятий, терминологию, в которую эти представления облека лись. Центрами этих новых исследований, в том числе и “низших сло ев” городского населения, в 60-70-е годы стали семинары и рабочие группы М. Молла (Сорбонна), Ф. Вольфа (Тулуза), А. Сапори и др. (Флоренция), Э. Машке (Констанц) и др.
Сам по себе термин “низшие слои”, конечно, не лишен условности. Оперируя им, историки-медиевисты имеют в виду наиболее слабую хо зяйственную часть городского населения, обладающую одновременно и наименьшим социальным престижем. Обширная количественно, эта часть горожан чрезвычайно неоднородна в правовом и социально-эко номическом отношении. Она включает в себя не только тех, кто счи тался бюргером, но и социальные меньшинства и многочисленные пе реходные, с правовой и экономической точки зрения, группы. Здесь и хозяйственно несостоятельные, слабые цеховые мастера, и работаю щие по найму подмастерья, приказчики, возчики, поденщики, но также мелкие нотарии и канцеляристы. Понятие “низшие слои” в историогра фии 70-80-х гг. вобрало в себя и весь спектр тех групп обитателей го родов, которые оказывались аутсайдерами в средневековом обществе
всилу действующих в нем норм и ценностей, регулировавших жизнь, в том числе и в городах. Достаточно вспомнить то предубеждение, кото
296
рое существовало в средневековой Европе против некоторых видов профессиональной деятельности, связанных с “нечистотой”, кровью, зрелищами, против лиц, рожденных вне законного брака. Аутсайдера ми средневекового городского общества были банщики и брадобреи, знахари, гудошники и комедианты, палачи и живодеры, очистители го родских клоак и обитатели лепрозориев, проститутки.
Но аутсайдеры - это еще не маргиналы, располагавшиеся в самом низу социальный иерархии городского общества. Ими являлись те, кто не имел постоянного места жительства, чье существование и образ жизни воспринимались окружающими как паразитические. В отличие от аутсайдеров, их изоляция от общества была полной, практически ис ключающей возможность социального возвышения. Для этих людей, вырванных из традиционных связей - семейных, соседских, производ ственно-профессиональных, занимавшихся бродяжничеством, кормив шихся выпрашиванием милостыни, мошенничеством, город был при бежищем, объектом устремлений. Хотя и здесь оставались они вне официального общества, но шансов выжить было все же больше, чем где-либо в другом месте.
При всей разноликости групп, объединяемых исследователями под инструментальным понятием “низшие слои”, им было присуще нечто общее, заключавшееся в том, что все они принадлежали к социально слабой части городского общества, и центральной проблемой их всех являлась проблема бедности и нищеты, которую они были не в состо янии преодолеть без посторонней помощи и поддержки окружающих и ценой моральной и материальной зависимости.
Изучение проблемы городской бедности затруднено состоянием источников, особенно для ранних столетий городской истории. Все, что касается бедных и аутсайдеров, - пишет итальянский медиевист А. Сапори, - безвозвратно исчезает с их смертью. Убогости и безли кости жизни соответствует забвение. Источники становятся более красноречивыми лишь по мере приближения к позднему средневеко вью. Но было бы заблуждением делать из этого вывод, что бедность - исключительный феномен этих столетий. Конечно, структурные процессы конца средневековья и раннего нового времени усугубляли социальную дифференциацию и напряженность в городах и общест ве в целом, порождая крайние формы ее проявления: массовое обни щание, бродяжничество, мятежи и восстания. Но бедность в ее эко номическом и социальном смыслах - социальная константа средневе кового города во все периоды его истории. О “множестве нуждаю щихся” во фризском Дурстеде еще на заре городской истории, в IX в. сообщает Римберти - автор жизнеописания св. Ансгария. О сотнях социально “приниженных”, о “бедности” и “бедняках” — pauper, impotens, extremus - свидетельствуют и различные источники XII—XIII столетий, особенно постановления третейских судей и заве щательные акты горожан.
Констатируя это, современные исследователи вместе с тем призы вают к осторожности в выводах, обращают внимание на необходи мость в каждом конкретном случае уточнения того смысла, который вкладывали в эти понятия сами современники.
297
Кто считался бедняком?
Вопрос этот далеко не праздный, ибо бедность - это не только следствие экономической конъюнктуры или порождение социального устройства общества, но и продукт сознания, ментальных представле ний, предубеждений, самовосприятия самих “бедняков”, так же как и общества, в котором они жили. Историко-антропологические исследо вания последних десятилетий указывают на смысловую многогран ность и ценностно-этическую многоуровневость терминов “бедность” и “бедный”, “бедняк”.
На одном из смысловых уровней бедные - это социально слабые. Начать с того, что одной из первых иерархических схем социального устройства, широко распространенной между V и IX вв. и дававшей о себе знать на протяжении всего средневековья, было представление о противостоянии двух групп, если речь шла о мирском обществе: “бога тых” и “бедных” - как “сильных” и “слабых”, “больших” и “малых”, “свободных” и “несвободных”. “Бедные” в таком контексте - это те, кто находился в тени обладавших властью и могущественных, монопо лизировавших в своих руках все функции духовного, политического, экономического управления. Это те, которые подчинялись и находи лись в зависимости, равно как и те, что добывали пропитание тяжелым трудом. “Бедные люди”, “бедный человек” - эти выражения могли упо требляться по отношению к зависимому крестьянину (крестьянам), но также и для того, чтобы подчеркнуть смирение социально слабого или отношения братства людей, связанных клятвой членов церковной, при ходской общины или корпорации. О “бедных людях” вели речь, напри мер, кожевники немецкого Люнебурга (XIV в.), жалуясь совету на про тивоправные действия сапожников, нарушавших монополию их цеха и тем самым нанесших ущерб их мастерам. Это один из широко распро страненных на протяжении всего средневековья стереотипов употреб ления термина “бедность” и “бедняки” в цеховых жалобах и в матери алах их разбирательств.
Но среди тех, кого современники называли “бедными”, были лица, никогда качеством бедности как таковой не обладавшие. Так, Коль марская хроника, повествуя о графе Рудольфе Габсбурге, называет его “бедным”: таким воспринимался он хронистом в сопоставлении с дру гими, равными ему по положению в системе феодальной иерархии. Аналогично и в городской среде тот, кто обладал имуществом или до ходами, не позволявшими ему обеспечить уровень жизни и представи тельства, выполнение обязательств, предписываемых ему его право вым статусом и общественным положением, тот считался бедным - был или стал им.
На другом уровне речь идет о добровольной бедности: “Христо вы бедняки”. Это был более высокий уровень восприятия состояния бедности. Оно выкристаллизовалось в ментальном пространстве, сформированном одержимостью людей той эпохи жаждой Спасения и страхом адских мук, перед лицом которых отступала ценность мирских благ. Стремление раздобыть больше, чем то было необходимо для под держания физического существования (пища, одежда, жилье) или об
298
щественного ранга, приравнивалось средневековыми моралистами к одной их самых тяжких разновидностей греха - греха гордыни. Житей ский идеал и принципы трудовой этики, сформулированные одним из них, Теодульфом, еще в Каролингскую эпоху, сохраняли свое значение на протяжении всего средневековья: те, кто занимается негоциями и торговлей, утверждал он, не должны желать земных выгод больше, чем жизни вечной; Бог дал каждому его ремесло, дабы он имел с чего жить, и каждый должен извлекать из своего ремесла все необходимое для тела, но и опору для души, что еще более необходимо. Через не сколько столетий эта мысль вновь прозвучит у Фомы Аквинского (“Свобода богословия”): “труд имеет четыре цели: прежде всего и глав ным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность - источник многих зол; в-третьих, должен обуздать похоть, умерщвлять плоть; в-четвертых, он позволяет творить милостыни”.
Вэтом смысловом контексте бедность как умеренность и самоог раничение, как следование идеалу Христа-страдальца, Христа Страж дущего, который проповедовали монахи, занимала высшую ступень на шкале христианских ценностей, отвечая глубинному умственному на строю средневекового человека и поведенческим моделям христиан ского смирения. И тот, кто выбрал идеалом жизни добровольную и благочестивую бедность, заслуживал уважения и, согласно канониче скому праву, поддержки со стороны людей состоятельных, ибо такие бедняки угодны Богу и их молитвы его достигают. Францисканцы и до миниканцы сделали в ХП-ХШ вв. из нищих духовную ценность. Возно ся молитвы Богу, эти “Христовы бедняки”, утверждают они, воздают тем, кто дает им милостыню. Отношения, складывавшиеся между даю щими пожертвования и принимающими их, были обоюдными и актив ными. Строившиеся по принципу “дар-отдар”, одному из фундамен тальных для социальных коммуникаций средневековья, они отлича лись от односторонне ориентированной благотворительности - под держки в обществе современном.
Вэтой своей функции посредников и заступников перед Богом за
богатых “добровольные” “Христовы бедняки” становятся в ХП-ХШ вв. обязательным и незаменимым функциональным элементом средневе кового общества и прежде всего городского, где “конфликт сознания”, испытываемый его наиболее активной и мобильной частью - купече ством и предпринимателями, деятельность которых была ориентиро вана на извлечение осуждаемой церковью прибыли, ощущался особен но остро.
Одно из красноречивых свидетельств тому - бюргерские завеща ния, этот своеобразный пропуск для богатых к Спасению. Обязатель ный и центральный элемент завещательного документа, широко во шедшего в деловую и духовную практику горожан со второй половины XII в., - пожертвования для обеспечения существования бедняков. Один из типичнейших образцов их дают, например, завещательные ле гаты некоторых любекских бюргеров. Так, некий Радекин ван Зее ого варивает (1350) сумму в 80 любекских марок для раздачи беднякам та ким образом, “чтобы каждый получил по одному пфеннигу”, а из ос тавшейся суммы для них были бы куплены “башмаки и платье”. В но
299
