
Сванидзе А.А. (ред.) - Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. - 1999
.pdfпригласивший на пир гостя, оплачивает его участие в застолье, впер вые появляется в 1382 г. в§ 13 устава объединения немецких купцов в Копенгагене - Немецкой купеческой компании, затем в 1447 г. перехо дит в § 5 устава Датской компании и вновь возникает в § 12 пересмот ренного в 1514 г. устава ременщиков, котельников и сумщиков Копей гагена.
Воспроизведение норм престижных городских объединений пре следовало, вероятно, ту же цель, что и противопоставление себя им, а именно, ощутить собственную значимость и повысить в глазах общест ва статус своего ремесла.
Выше уже сказано, что основой датского цехового праздника был пир. Безусловно, торжество включало и мессу в церкви, иногда сопро вождающуюся небольшим шествием, и украшение зала - зеленью ле том и тканями зимой, - и торжественные речи, а у некоторых объеди нений также музыку и пляски в цеховом доме. Но его душой остава лось застолье. При чтении уставов воображение рисует образцы поис тине ренессансных пиршеств с необычайным обилием пищи и напит ков - чаще пива, но в ряде случаев и вина. Порой затруднительно даже определить масштабы подобных пиров. Когда ювелиры, ременщики, сабельщики Свенборга (1450-1500, § 4) указывают, что ремесленник, организующий попойку, может пригласить гостей “не более чем на 2 блюда солонины”, не вполне ясно, сколько это человек, если учесть, что одно такое блюдо состояло из трети свиного бока, шестнадцатой части бычьей туши, четверти ягненка, половины гуся, одного говяжье го языка и одной колбасы.
Некоторые цехи оставили сведения о своей численности. Единст венные две корпорации, которые уже в XV в. лимитируют доступ но вых членов, - канатчики Мальмё (6 сентября 1412), и мясники Драгера (22 июня 1443), - называют в уставах свой предельный состав: соответ ственно 24 и 25 человек. Устав кузнецов Истада 1496 г. сопровожден списком мастеров и членов их семей, насчитывающим 40 человек. В среднем в небольших городах в ремесленные корпорации входило от 8 до 14 мастеров, в более крупных - от 15 до 25, а вместе с женами и вдовами членство редко доходило до 50 человек. Тогда почему же для цеховых застолий заготавливалось столь огромное количество пищи и, главное, почему уставы столь внимательны к составу стола?
Ответы на эти вопросы следует искать среди прочего и в реакции населения на законодательство против роскоши. Характерная для по литики меркантилизма, проводимой датским правительством в XVII в., борьба с неумеренным потреблением фактически началась еще на не сколько столетий ранее. При этом экономически оправданные законо дательные решения принимались без какого-либо учета психологии горожан.
Средневековые города, широко обнесенные крепостными стенами в надежде на значительный рост населения и этих надежд не оправдав шие, застраивались достаточно хаотично. Мастеровые, если и жили слободами, то лишь в более позднее время. В XV в. бедные продолжа ли обитать бок о бок с богатыми, ремесленники - рядом с городским патрициатом. Желание превзойти соседей и дух соперничества побуж
190
дали горожан не только потреблять больше необходимого, но и устра ивать непомерно дорогие и многолюдные застолья. На протяжении XIV-XVI вв. городские власти, а затем и король пытаются ограничить затраты населения как на общественные, так и на частные празднич ные пиры, особенно свадебные, регулируя допустимую длительность празднования, количество гостей, число блюд на столе, надеваемых па радных украшений и т.д. Неоднократно делались также попытки по сягнуть на святая святых гильдий и цехов - их пиры.
Одну из первых таких попыток, приведшую к вооруженному бунту жителей Копенгагена, предпринял в конце XIII в. роскилльский епи скоп Йенс Краг. После христианизации Дании ее территория была по делена на восемь епархий, и растущий Копенгаген до 1417 г. находился
иведении епархии Роскилле, не располагая привилегиями королевских городов. 29 января 1294 г. только что вступивший в должность и весь ма косервативный епископ издает более 100 параграфов нового Город ского закона, где с “целью улучшения морали” запрещает “объедине ния копенгагенцев для организации попоек или братства, которые на род называет гильдиями...”. Эта мера полностью разрушала уже сло жившийся уклад жизни города, в котором социальная и религиозная политика гильдий играли определяющую роль.
Вответ горожане призвали к открытому мятежу. После обстрела копенгагенской крепости, де скрывался епископ, они собрались на сход, составили письменную жалобу на имя короля Эрика VI, а затем организовали шумное братское пиршество, продемонстрировав тем са мым, что гильдии восстановлены. Король не пожелал открытого кон фликта с епископом. Хотя гильдии с их пирами продолжали существо вать, но были конфискованы принадлежавшие им дома, земли, утварь
ивведены налоги на их оставшееся имущество.
ВXV и последующих столетиях законодательство против роскоши приобретает регулярный характер. Основания для подобных мер име ли главным образом экономическое содержание. Стремление дворян ства и среднего класса подчеркнуть свое богатство, окружая себя доро гостоящими предметами, подрывало экономику городов и создавало дефицит торгового баланса за счет преобладания импорта товаров над сырьевым экспортом. С другой стороны, тяготение к роскоши проти воречило католической морали и религиозным представлениям о соци альном статусе, где идеалы бедности, целомудрия и незапятнанной ре путации считались важнейшими на пути к спасению души.
Всоответствии с вводимыми нормами всем сословиям запрещалась чрезмерность в одежде, украшениях, пище; каждое из них получало свои границы дозволенного, в том числе и в проведении праздников. Дворянство не только пользовалось преимущественным правом на но шение драгоценных украшений и костюмов из дорогих привозных тка ней, но и на организацию впечатляющих и столь подробно описанных современниками пиров. Купечество и другие крупные горожане своим костюмом и украшениями, а также возможностью устройства индиви дуального праздника отделяли себя от групп ремесленников, а те в свою очередь пытались приблизить себя к городской верхушке и одно временно установить границу между собой и толпой. Роскошный цехо-
191
вой праздник призван был сообщить миру о богатстве и процветании цеха. Эту социальную функцию ремесленных праздников следует рас сматривать как одну из главных.
Что же конкретно придавало особый блеск цеховым пирам? Во первых, наличие собственного братского дома, которыми до 1500 г. об ладали лишь немногие цехи, как, например, портные (1492), кожевни ки (1493) и кузнецы (1496) Оденсе. Во-вторых, возможность создать приятную атмосферу - затянуть голые стены яркими тканями, поло жить мягкие ткани и подушки на скамьи, тепло протопить помещение и зажечь множество свечей (кузнецы Роскилле, 1491, § 15). В-третьих, выставленные на стол дорогие чаши, вносившиеся в большинстве це хов как часть вступительного взноса и непременно возмещавшиеся те ми, кто их разбивал. Кроме того, присутствие цехового лакея, называ емого в уставах дьячком, который бы разливал на попойках пиво из бо чек (ювелиры, ременщики и сабельщики, 1450-1500, § 4). И, главное, те продукты на столе, которые человек среднего достатка не ел нс только в будни, но обычно и в праздники.
У портных Оденсе (1492, § 2) читаем по поводу вступительного обеда: “... этот стол должен делиться на два полных дня, каждый день включает 4 соленых окорока и каждый день 4 свежих подачи, каждый день жаркое, кашу, мусс, и масло, и сыр, и хлеб, и что этому соответст вует, и одну чашу, а на другой день 12 шиллингов на стол. Если обна ружится некая нехватка еды или пива, когда что-то хорошее отсутству ет, тогда надлежит всем братьям сказать, в чем есть недостача” Заме тим, что под подачей подразумевалось не одно, а несколько блюд, при готовленных из однородных продуктов - свежей рыбы, птицы, говяди ны и др. А кузнецы Роскилле (1491, § 6) наряду с солониной, свежим мясом и, естественно, пивом указывают: “...и хлеб, и масло, и сыр, и бе лый хлеб, и булки...”, т.е. в одной фразе хлеб назван трижды.
Свежее мясо упоминается в уставах 20 цехов - от канатчиков Мальмё (6 сентября 1412, § 3) до кузнецов Фленсбурга (24 июля 1514, § 12, 14, 15), следовательно, значительность его включения в меню со храняется в течение всего XV в. и на всей территории Дании. Упомина ние пшеничного хлеба мы обнаруживаем лишь в девяти уставах доста точно процветающих цехов, причем ременщики и кошельники Копен гагена, назвав его в уставе от 3 апреля 1460 г. (§ 2), не забывают повто рить соответствующий пункт в обновленном и расширенном уставе от 4 августа 1514 г. (§ 4). Любопытно, что даже пекари нередко ограничи ваются в своих застольях ржаным хлебом.
Такое внимание ремесленников к окорокам, свежему мясу и пше ничному хлебу не случайно. И то, и другое было редкостью на столе средневекового скандинава. Причиной тому не только национальная специфика сельскохозяйственного производства, но и экономические и демографические кризисы позднего средневековья, охватившие Евро пу. В силу жестких климатических условий зимнее содержание скота было затруднительно, и свежее мясо становилось доступно большинст ву населения только осенью, когда забивалась значительная часть ста да. И город, и деревня основную часть года существовали за счет склад ских припасов. Из способов заготовок применялись вяление, соление и
192
в меньшей степени копчение. Олав Магнус, шведский епископ, издав ший в 1555 г. книгу о быте скандинавских народов, отмечает: “Север ные люди едят круглый год мясо либо соленое, либо сушеное, либо копченое, но не варят его” Отзыв иностранца, побывавшего в Дании, более эмоционален: “Их пища, сама по себе хорошая, скверно приготов лена. Большинство [блюд] соленые и дурно пахнут, когда их ставят на стол. Но их [людей] это не заботит”.
Цены на мясо, привозимое крестьянами на городской торг, регули ровались магистратами. При сезонных колебаниях в ценах мясо - и го вядина, и свинина, и баранина - всегда оставалось относительно недо рогим и общедоступным продуктом. Так, килограмм говядины стоил в середине XV столетия 10 пеннингов против 20 пеннингов за килограмм пшеничного хлеба. Однако цены на свежее мясо, за исключением осен них месяцев, были, очевидны, много выше. В начале XVI в. 3 фунта свежей говядины стоили столько же, сколько пара штанов или две па ры перчаток, и по цене равнялись среднему дневному заработку низко оплачиваемого плотника. Понятно, что присутствие свежего мяса на праздничном столе свидетельствовало о достатке. Свинина была в сред нем на 25% дешевле говядины, но ее производство в течение всего пе риода оставалось низким. Поэтому роскошный стол непременно тре бовал жаркого из свинины и ветчины.
Заготовки рыбы, потреблявшейся в больших количествах, начиная с XII в., когда было введено до 180 постных дней в году, также носили сезонный характер. Осенью, когда знаменитая эресуннская сельдь близко подходила к берегам, население всей страны устремлялось в Сконе для ее лова или покупки. В 1494 г. около трех пятых всех рыба ков на Зунде составляли горожане. Цены на рыбных базарах были сво бодными и очень низкими. Ни в одном из уставов блюда из столь по вседневной рыбы отдельно не упоминаются. Ремесленники вообще старались избегать постных дней для организации пиров, хотя можно предположить, что “свежие подачи” включали и пищу из необычных и особо жирных пород рыбы.
Из зерновых культур наибольшее распространение имел ячмень. Некоторая его часть шла на выпечку хлеба и мололась на крупу, но в основном он использовался в пивоварении. Собственно хлебной куль турой была рожь. Малоурожайная в условиях Скандинавии пшеница оставалась большой редкостью. Мера пшеницы стоила на рынке вдвое дороже меры ржи или ячменя и вчетверо дороже меры овса. Подобное соотношение цен на зерновые сохранялось до конца рассматриваемого периода. Около 1524 г. пекарям Мальмё было дано распоряжение, ус танавливающее зависимость между весом выпекаемого хлеба и стои мостью четверика ржи и пшеницы, колебавшейся соответственно от 1 до 4 и от 3 до 7 шиллингов.
Кризис земледелия во второй половине XIV в., связанный с суще ственным сокращением численности населения и, соответственно, па дением спроса на продукты питания, привел к тому, что традиционный для средневековой Дании экспорт зерна уступил место экспорту круп ного рогатого скота. В течение всего последующего столетия разведе ние хлебных культур находилось в упадке из-за острой нехватки рабо
7 Город..., том 2 |
193 |
чей силы. В результате цены на мясо резко упали, а цены за зерно столь же резко подскочили. Только за первую половину XV в. цепи пшеницы выросла втрое. Как ни парадоксально это звучит, но в пери од позднего средневековья повсеместно производимое мясо было дс шевле хлеба, во всяком случае вдвое дешевле хлеба пшеничного. И по требление мясных продуктов многократно превышало потребление зерна.
Средневековый человек в целом питался значительно менее разно образно, но более калорийно, чем человек нового времени. На одного взрослого мужчину в среднем приходилось 3 кг исходных продуктов в день, при этом баланс между мясными и хлебными продуктами в XV в. сильно сдвинулся в сторону дешевого консервированного мяса. Днев ной рацион тех, кто занимался физическим трудом, выглядел следую щим образом: 1 кг 750 г мяса или рыбы (в рыбные дни также 190 г по стного масла), 750 г хлеба, 100 г ячменной крупы, 200 г сушеного горо ха. Здесь не учтены овощи, которые каждая семья, включая город скую, выращивала на своем огороде и которыми в достаточной мерс удовлетворялась потребность в витаминах. Таким образом, хлеб на столе, особенно белый, был показателем статуса, и когда сапожники Слагельсе (21 февраля 1471, § 35) кроме ржаного хлеба упоминают в своем уставе белые булки, это, как ничто другое, характеризует воз можности цеха.
Ежедневным питьем средневековых датчат было пиво, которое ре месленникам разрешалось варить дома для собственного пользования, но не для продажи. Учитывая, что пища была невероятно соленой, а воду из городских колодцев было опасно пить, потребление домашне го пива составляло 4-5 л на одного взрослого.
Для пиров и совместных цеховых попоек, участие в которых опла чивалось каждым ремесленником по истечении недели или двух, пиво закупалось в огромных количествах. Цеховой распорядитель, называв шийся шафером, имел право назначить двоих членов цеха ответствен ными за его покупку (подмастерья пекарей Оденсе, 1403, § 37). В их обязанности входило обойти город и выбрать лучшее по вкусу местное пиво (подмастерья кузнецов Фленсбурга, 1425, § 17).
Датское пиво отличалось низким качеством. Немецкий студент, знавший лучшие сорта этого напитка, записывает: “У них есть нечто отвратительное - домашнее пиво, которое невозможно пить... Повин на ли в этом морская вода, я не могу сказать” Поэтому во многих це хах вступительные взносы и штрфы платились немецким пивом, стоив шим вдвое дороже датского. Устав мясников Копенгагена (1496, § 6) требует, чтобы новый мастер “сделал угощение с двумя бочками висмарского или четырьмя бочками датского пива” В начале XVI в. этот разрыв в цене становится еще большим. В 1507 г. гильдия Св. Гертру ды в Хеллестеде за бочку “хорошего датского пива” (объемом в 117 л) платила 12 шиллингов, а годом позже бочка гамбургского пива обхо дится религиозному объединению Шлезвига в 3 марки, т.е. ровно в 4 раза дороже.
Организация вступительного обеда с обязательными дорогостоя щими блюдами и пятью бочками пива, как у портных Оденсе (1451,
194
§ 2), непомерным грузом ложилась на плечи новых членов цеха, осо бенно вчерашних подмастерьев, успешно прошедших профессиональ ное испытание, но в отличие от пришлых мастеров часто не располага ющих достаточными средствами для самостоятельного ведения дела. 1(ехи в большинстве случаев считались с этим, и ряд уставов разрешал мастерам вместо одного большого пира устроить два менее пышных - один сразу, а второй через определенный срок. Такая практика была принята, например, у ювелиров, ременщиков и сабельщиков Свенборга (1450-1500, § 2), где новый мастер обязывался делать стол “дважды и течение года и дня и давать каждый раз две бочки пива, соленые око рока и 2 свежих подачи, сыр и масло, хлеб от булочника и белый хлеб...” Однако совсем отказаться от вступительного пира, бывшего частью их культуры, ремесленники не намеревались. И когда власти - местные и королевская - в русле политики запретов на роскошь пред приняли борьбу против любых форм вступительных угощений и круп ных денежных взносов, это не могло не быть воспринято как посяга тельство на внутренние свободы цехов.
А подобная борьба велась уже со времени Городского распоряже ния Эрика Померанского от 15 февраля 1422 г. Читаем: “Отныне дол жен тот, кто в каком-либо городе добьется членства в одном из выше названных ремесел, как они называют свои цехи, давать столько же за свое принятие в цех, сколько он дает городу, когда становится горожа нином, и не больше” Три уже известных нам цеха в Мальмё, приняв шие свои уставы вскоре по выходе распоряжения, точно следуют его букве и настаивают, чтобы вступивший в ремесло вносил в цех “6 шил лингов и бочку хорошего пива”, т.е. ровно столько, сколько он платил магистрату. Другие же цехи - кузнецы Рибе (3 марта 1424), ювелиры Копенгагена (1429) - словно и не замечают королевского указа.
Следующий шаг предпринимает уже в первый год своего правле ния Кристиан Баварский. 14 октября 1443 г. он дает Копенгагену но вый городской закон, через полтора столетия отменивший закон епи скопа Крага и ставший образцом для организации жизни многих горо дов Дании. Документ состоит из шести разделов, первый из которых посвящен укреплению городских гильдий и цехов. И здесь в еще более жестком виде повторено требование 1422 г.: “Тот, кто рожден в Копен гагене и знает ремесло... не должен давать больше 1 эре (восьмая часть марки серебра - Б.Й.), когда он входит в ремесло... Рожденный вне го рода... должен давать столько же за вступление в ремесло, сколько он дает, когда становится горожанином”.
Вероятно, это подействовало, так как в правилах мясников Копен гагена, принятых в 1451 г. и утвержденных новым королем Кристиа ном I, нет ни одного пункта, посвященного обедам и попойкам. Однако позднее, уже с устава ременщиков и кошельников Копенгагена 1460 г., где подробно описан вступительный пир, этот запрет систематически нарушается. И в уставе кожевников Копенгагена от 2 июня 1485 г., подписанном королем Хансом, девять из шестнадцати параграфов от даны сходам и угощениям; правда, меню вступительного обеда не при водится, а лишь названа его минимальная стоимость - 6 грот (около трети марки). Стоимость вступительного пира, а именно 4 марки, назы
7* |
195 |
вается и в следующем по времени из дошедших до нас актов цехов Ко пенгагена - ювелиров (1496). Но в уставе мясников, пересмотренном в том же 1496 г., указано общее число блюд вступительного пира, хотя в целом документы последнего десятилетия XV в. приобретают более деловой характер и праздничные предписания даны в них значительно лаконичнее, чем в более ранних сводах.
В дальнейшем положение ремесленников в Дании драматически меняется. Государственная политика, направленная на централизацию власти, лишает их профессиональные объединения того режима благо приятствования, которым они пользовались на протяжении более по лутора веков.
ЛИТЕРАТУРА
Danmarks Gildeog Lavskraaer. Bd. 1, 2; Danmark i tusind kr. Heming, 1986
и др.
Olaus Magnus. Centium septentrionalium historia Lib. XV. Цит. по kh: TroelsLund T. Dagligt liv Norden i det 16. Arhundrede. Haslev, 1969. Bd. 3, bog. 5. 6 udg.
Danmarks Gildeog Lavskraaer fra Middelalderen / Ved c. Nyrop. Kpbenhavn, 1895-1904. Bd. 1,2.
Andersen S. Kpbenhavn i Middelalderen. Kpbenhavn, 1948.
Aktstykker til Oplysning af Danmarks indre Forhold i aeldre Tid. K0benhavn, 1845. Bd. 2.
Kjersgaard E. Fra Det daglige br0d. Nationalmuseet, 1976.
K0benhavn for og nu - og aldrig. Bd. 11 // Dahl. B.W. Gamrath H. Bykort, prospekter og byens historie. K0benhavn, 1991.
Lundbak H. S£fremt som vi skulle vaere deres ludige borgere: R&dene i K0benhavn og Malmo. Odense, 1985. Tabl. 1.
Handvaerkets kulturhistorie. Bd. 1 // Jacobsen G. Htendvaerket kommer til Danmark: Tider f0r 1550. K0benhavn, 1982.
Politikens Danmarkshistorie. 3. udg. K0benhavn, 1984. Bd. 4.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
НАУКА И ТЕХНИКА
МОНАШЕСТВО В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА
Уже в предыдущем томе мы констатировали различие старого и нового, нищенствующего, монашества в понимании целей монашеско го служения, обусловившее пассивность бенедектинцев в их взаимоот ношениях с горожанами, и, напротив, активность, даже агрессивность мендикантов в стремлении доминировать в духовной жизни города. Это, однако, не означает, что с появлением в XIII в. нищенствующих братьев храмы бенедектинских монастырей опустели. С одной сторо ны, их городские монастыри оставались существенными звеньями епи скопского стадионного богослужения, являясь в некоторых случаях и усыпальницей прелатов.
С другой стороны, сохранялись уже установившиеся связи со знат ными и владетельными семействами, не обязательно проживавшими в городе, поколения которых поминались монахами в молитвах и анниверсариях, были похоронены в храме или на монастырском кладбище. Такие монастыри, экономические интересы которых находились по преимуществу в аграрном секторе, испомещавшие на своих землях де сятки, а иногда и сотни рыцарей-министериалов, и, кроме того, через должность фогта юридически и имущественно связанные с крупной феодальной знатью, служили духовному самоутверждению благород ного сословия, выступали хранителями родовой памяти его представи телей, наконец, гарантировали их земное и загробное благополучие. Одновременно они обеспечивали достойное существование отпрыскам знатных семейств, которые в силу болезней или каких-либо физиче ских недостатков, отсутствия наследства, достаточного для ведения “благородной жизни”, а у дочерей - еще и подходящей партии, только в монастыре могли найти престижное убежище.
Уже в раннее средневековье бенедиктинские аббатства приобрели почти исключительно аристократический характер, который, несмот ря на критику реформаторов X-XI вв., цистерцианцев в XII в., сохра нялся и в дальнейшем. Хильдегарда Бингенская (1098-1179) объясняла аристократическую замкнутость своей обители как ссылками на соот ветствие земной и небесной иерархии, так и опасением перед социаль ными конфликтами внутри общины: “Какой человек загоняет все свое стадо без разбора в одно стойло, - быков, ослов, овец, баранов”. Аристократизация монашества превратила его в одну из форм жизни зна ти с характерными, социально обусловленными стереотипами и при-
© Н.Ф. Усков
197
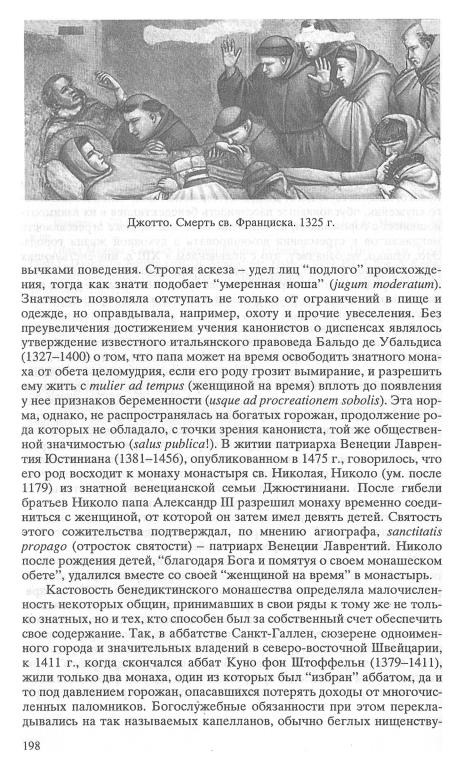
ющих монахов или клириков, не имевших достаточных средств к суще ствованию.
Реформаторы бенедиктинского монашества в XV в. стремились вернуть, по их же словам, xenodochia nobilitatis (приюты для знати) к первоначальным идеалам монашеского общежития, и так называемой indifferentia benedictina, согласно которой одно лишь стремление следо вать Христу служит критерием приема в монастырь, а знатность опре деляется не происхождением, но духовными подвигами. В то же время, например, реформаторски настроенные бенедиктинцы диоцезов Майн ца и Бамберга, собравшись в 1417 г. во время Констанцского собора в городском монастыре Петерсхаузен, выработали компромиссное ре шение: община должна неукоснительно принимать людей любого зва ния и состояния лишь в том случае, если ощущается недостаток в кан дидатах знатного происхождения. Крупный реформатор бенедиктинства Иоаннес Роде (ум. в 1439), аббат монастыря св. Маттиаса в Трире, в уставе, данном Санкт-Маттиасу, а также Санкт-Максимину, другому значительному трирскому аббатству, запрещал принимать в мона стырь внебрачных детей, делая исключение лишь для бастардов знати. Другой известный идеолог уже общецерковной реформы, канцлер Па рижского университета и деятель Констанцского собора, Жан Жерсон (1363-1429), вообще решительно поддерживал знать в ее взаимоотно шениях с монастырями: любовь к ближнему берет начало в любви к се бе самому {amor sui ipsius), а поскольку сыновья и дочери “одной плоти и крови” с их родителями, то дворяне поступают в согласии с “Божьим законом”, когда предназначают основанные ими монастыри исключи тельно для отпрысков своих родов.
Вместе с тем, в устах некоторых реформаторов требование равен ства при приеме в общину превращалось в решительную отповедь зна ти и апологию бюргерства. Так, Иоаннес Кек, сын каретника из Гингена на Бренце, первый бюргер, вступивший в 1442 г. в до того аристо кратический монастырь Тегернзее под Мюнхеном, утверждал, следуя Аристотелю, что “избыток имущества” делает знатного человека вы сокомерным, неукротимым, кичливым и властолюбивым, т.е. сообща ет ему качества, несовместимые с монашеским призванием. Кеку в 1480 г. вторит другой реформатор, Кристиан Тезенпахер, подчеркивая, что только в том монастыре соблюдается устав, где монахи происходят из средних слоев, бюргерства, обладающих способностью жить “разум но” (rationabiliter) и в любви к ближнему, тогда как знать чванлива, а крестьяне не образованы.
Попытка ввести indifferentia benedictina в монастыре св. Михаила в Бамберге вызвала длительное и упорное противостояние местной зна ти с 1417 примерно по 1467 г. После реформы монастыря, которая ста ла возможной под нажимом епископа лишь в 1463 г., 66 дворян обрати лись с жалобой к провинциальному капитулу бенедиктинцев, заседав шему в Вюрцбурге. Они указывали, что монастырь был основан “толь ко для благородных и рожденных от щита”, и когда аббат-реформатор принимает в морастырь братьев, “не рожденных от щита”, то вредит не только монастырю, но и выказывает тем пренебрежение “всему благо родному сословию”. В другой петиции, направленной епископу Бам
199
