
Сванидзе А.А. (ред.) - Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. - 1999
.pdfча монеты: подменяя чистый драгоценный металл сплавами, выпус кали суррогаты.
Хотя ювелирные изделия порою имели личные клейма изготови телей, до нас дошло немного их имен. Наибольшую известность сни скал ювелир герцога Бургундского, трудившийся в Брюгге, Л. ван Бер кем, которому особенно обязан алмазный промысел. До XIII в. алмазы, вследствие их твердости, не умели шлифовать и огранивать. В 1330 г. это научились делать венецианцы трением камня о камень, но недоста точно сноровисто. В 1476 г. ван Беркем успешно применил с данной це лью борт (алмазный порошок). Он же стал использовать новую форму огранки - куличевидную бриолету и отработал специфические условия гранения, из которых в XVI в. родились непревзойдённые огранки бриллиантовая и розой. Мастерская ван Беркема состояла из несколь ких помещений. В просторной светлой комнате со скошенным полом, чтобы можно было смывать ценные остатки, он поставил поверх пола решетчатое покрытие, сквозь которое проваливались, не теряясь, от ходы. В плавильном помещении избегал вредных при плавке сквозня ков. Там царили сумерки, чтобы мастер лучше улавливал цвет сплава. Расплавы он отливал в изложницы, а для смазки кокилей готовил осо бое масло. Паял, в зависимости от необходимости, припоями различ ной твердости и мягкости. Умел фокусничать с камнями, превращая нагреванием фиолетовый аметист в желтый, желтый берилл в светлозеленый, золотистый циркон в прозрачный. Умел так тщательно шли фовать и полировать корундовые камни, что в отраженном свете они сверкали изнутри трехлучевой звездочкой, а при колебаниях - и шести лучевой. Такая звезда соответствовала по форме “щиту Давида”. Поэ тому обитатели еврейских гетто приобретали драгоценные камни только у ван Беркема. Он умел также особой полировкой достигать цветочных узоров в смарагдах; меняя степень нагрева и содержание сплавов, получать желтое, красное, зеленоватое и беловатое золото; учитывать твердость, спайность, преломляемость и многоцветие мине ралов; искусно делать дублеты из настоящих драгоценных камней сверху и цветного стекла снизу; окрашивать опалы в отливающие ра дугой “хамелеоны”. Его фирменным изделием были амулетные муж ские серьги.
Производство оружия тоже было связано в первую очередь с ме таллообработкой, частично с резьбой по дереву и кости. С VI по XV в. главным оружием дальнего действия оставался лук со стрелами. До VIII в. преобладал дугообразный потомок охотничьего; его сменил уп рочненный сухожилиями сложносоставной лук с костяными либо ме таллическими накладками. И кустари-одиночки, и цеховые работники производили тысячными партиями стрелы: со втыкаемыми в торец че решковыми наконечниками или насаживаемыми на древко втульчатыми; с двухгранной и многогранной формой пера ромбовидного, листо видного, прямого, сегментовидного сечения; с гранено-бронебойным концом, пробивающим рыцарские доспехи. Лук на стойке с винтом превратился в дальнобойный арбалет. Стрелы дополнялись метатель ными дротиками, тяжелыми копьями и облегченными пиками. Турнир ные и боевые копья рыцарей изготавливались на заказ. Особого искус
130
ства достигали авторы однолезвийных прямых палашей, изогнутых са бель, всевозможных кинжалов как оружия ближнего боя, а также ударных булав и секир. Секира на копье породила алебарду. Алебарда : выемкой для ружейного ствола стала бердышем. Почти всегда какието группы оружейников специализировались на производстве рубящеколющих мечей, так как требовалось уметь варить для них неломкую сталь, ковать из ее пластин пакет и обрабатывать грани. Еще сложнее оказалось изготовление доспехов, когда от кожаных панцирей с метал лическими пластинами перешли во II тысячелетии к сплетенным из ко лечек в рубашку кольчугам, потом к латам, сплошным и чешуйчатым, из цельноклепаных броневых листов, и к державшимся на ремнях со ставным стальным кирасам. Отдельно вырабатывали поножи, наручи, плетеные из стальной проволоки рукавицы, шлемы с бармицей, тулью, шишаком, забралом, различные по форме щиты. Тут никакой штуч ный специалист не мог обойтись лишь собственными силами, действо вали бригады умельцев. По требованию крупных феодалов или для обеспечения нужд самих городов оружейники трудились вместе со строителями над немассовой продукцией - осадными орудиями: пускав шими стрелы бриколями, метавшими камни баллистами настильного действия и катапультами навесного действия, гигантскими машинными пращами - рычажными фрондиболами, осадными башнями на колесах.
Принципиально иные метательные приспособления, ставшие про образами огнестрельного оружия, но основанные на пневматике, впервые в Западной Европе были изобретены в XIII-XIV вв.: фран цузское духовое ружье, пускавшее стрелы, и итальянская духовая черботтана под дротик, годившиеся для охоты на зайцев и оленей. Другим прообразом огнестрельного оружия явились византийские сифоны, выплескивавшие зажигательную жидкую смесь - “греческий огонь”; ракеты с такой же жидкостью, пущенные кёльнскими горожанами против отрядов архиепископа в 1258 г. и падуанцами на миланцев в межгородском поединке 1379 г., а также удивившие свет в 1435 г. ав стрийские гранаты с зажигательной пастой. Но не они открыли прин ципиально новую эру развития средневекового ремесла, а само огне стрельное оружие, бывшее невозможным до изобретения пороха. Близкие к нему составы восточного происхождения издавна употреб лялись европейскими соседями: дамасские арабы применяли такое ве щество, осаждая в конце VII в. Мекку; в начале XII в. его использова ли мавры при осаде Сарагосы; в XIII в. Р. Бэкон писал о новинке уже со знанием дела. Однако во всех этих случаях речь шла о детонирую щей способности состава. Газоиспускательная же способность стала прикладной только после алхимических опытов Б. Шварца, испытав шего взрывчатую смесь селитры, серы, свинца и растительного масла. Дальнейшая замена двух последних компонентов древесным углем при общем соотношении 75:10:15 частей выявила, что эта зерненая ка ша, лишенная доступа воздуха, горит параллельными слоями, образуя вышибной газовый заряд. Дело перешло от алхимиков и мастеровых в государственные арсеналы, где наладили массовое приготовление калиевой селитры и импорт серы. И XIV в. ознаменовался получени ем пушечного пороха.
5* |
131 |
Алхимические открытия в сочетании с накопленным опытом мс таллургии и металлообработки породили очередные детища ремеслсп ной техники. Во врагов полетели из труб на подставках каменные, за тем железные, а с XV в. и чугунные ядра. Эти трубы, извергавшие огонь и дым кульверты сворачивали из пошовно сваренных и стянутых обручами металлических листов. Заряд воспламеняли простейшими приспособлениями: ручным пальником, потом фитильным и колесцо вым замком. Научившись сочетать детонацию пороха с ядрами, пре вратили их в снаряды. Аугсбургские мастера соорудили в 1370 г. мор тиру бомбарду с резко задранным стволом для поражения целей за вы сокими укрытиями. Соперничавшие с ними гентские оружейники и 1382 г. отлили короткоствольную гаубицу, посылавшую картечные снаряды, набитые железками, за низкое отдаленное укрытие. К стенам городов и замков стали подползать саперы, подрывая их фугасами. Развернулось огосударствление оружейного дела, переставшего быть приватным занятием.
Огромное социально-политическое значение нового занятия бы ло подкреплено созданием личного стрелкового оружия, опять-таки перенятого у арабов. Европейские подражатели вскоре перегнали учителей: первое настоящее ружье - пехотная длинноствольная кулеврика сменилась короткоствольной аркебузой и кавалерийским мушкетоном. Уже в конце XV в. это оружие было нарезным. Чтобы противостоять ему, создали облаченные в могучие доспехи регуляр ные отряды тяжелых войск - пехотных пикинеров и рыцарскую кава лерию. Но они себя не оправдали. Оказалось целесообразнее органи зовывать боевые действия, основанные на линейной тактике воин ских подразделений с иной подвижностью, использующих поражаю щий ружейно-пушечный огонь с больших расстояний и соответствен но маневрирующий. Постепенный закат роли метких лучников и грозных рыцарей вызвал упадок значения труда многих людей, ко вавших латы и украшавших рукояти мечей. Холодное оружие теряет изысканность, упрощается, стандартизируется, а былое искусство вы дающиеся оружейники демонстрируют теперь только при выполне нии персональных заданий. Происходит перестройка всей системы производства оружия и воинского снаряжения. Отсюда проистекала множественность военных реформ в европейских странах XVXVI вв., касающихся войны как на суше, так и на море.
От ювелирной вершины ремесленной пирамиды и ее середины с металлистами, оружейниками, переписчиками, аптекарями, скорняка ми, портными и стеклодувами спустимся к основанию. Здесь, наряду со строителями, костерезами, гончарами, игрушечниками, сапожниками, кожевенниками и ткачами, фигурировали такие представители ремес ленных низов, как многочисленные деревообделочники: плотники, столяры, бочары, тележники, плетенщики, посудники, ложкари и ftp. На их примере можно убедиться, что даже их ремесла, считавшиеся простейшими, на деле требовали большого умения. Иллюстрации в книжных миниатюрах свидетельствуют, что ограду, корзины, ящики, сидения, коляски, люльки, гамаки, тачки плели из прутьев желто-зеле ной и серо-коричневой ивы, белотала, краснотала, вербы, чернотала и
132
оредины. Пускали в ход также тростник и камыш. Кору сдирали, про дергивая прутья сквозь щемилку. Кололи прутья щепалом, на которое насаживали тонкий ствол. Уплотняли ряды в корзине зубчатым билом. Концы прутьев загибали жамкой с крючком. Плели, вращая корзину иокруг воткнутого в доску стержня. Круглые, овальные, прямоуголь ные корзины сидели на дырчатой основе. Ребра крепились к шаблон ным бюгелям. Плели также домовые стены, потом их обмазывали гли ной. Ивовую кору продавали дубильщикам кож. Из дерева резали те леги, сани, дуги, оглобли, корыта, ушаты, жбаны, шайки, ведра, лоха ни, баки, сита, решета, ложки, чашки, миски, кадки, бочки, ульи.
В принципе средневековый древесный материал подразделялся на строительный, деловой и топливный. Самой крупной деревянной посу дой и тарой служили бочки. С учетом наполнения их маслом, вином, пивом, водой, соленой рыбой и пр. использовали для приготовления бондарных обручей, клепки и днищ деревья разных пород. Спилив He- кривое дерево и разделав его на колоды, снимали кору, удаляли подко ровую заболонь, кололи по сердцевинным лучам на клепки, давали усохнуть, зачищали. Клепками из Шампани повсеместно торговали во Франции, Нидерландах, Германии. Днища смолили древесной масти кой. Ободы изготовляли из гибкого молодого леса, сгибая планки с несодранной корой на скобе, вбитой в стену. Собрав тело бочки из кле пок, вырезали в концах пазы, вставляли тело в днища, конопатили, на бивали обручи. Встречались клепки: английская прямоугольной фор мы, французская двояковыпуклая по бокам, прибалтийская неотесан ная. Железных обручей на бочках той поры не видно ни на иллюстра циях в манускриптах, ни среди археологического материала. Трудились бочкари пилами, долотами, стамесками, напильниками, косарями, стругами, уторниками под пазы, сверлами, молотками, клещами, на бойками и конопатками. Мелкую посуду резали из древесных наплы вов или из пластин. В решетах натягивали кожу с дырочками. На лож ки пускали “струистые” пневые отрубки. В городах Средиземноморья использовали также импортное пальмовое дерево. Бочарные и им по добные товарищества были небогатыми.
Согласно отдельным источникам, в некоторых случаях окрестные свободные крестьяне, как в Англии, занимаясь сезонной работой, зи мою поставляли в город деревянные полуфабрикаты. Либо это делали для городских родственников - ремесленников, как во Франции, те за висимые крестьяне, которые не сумели стать свободными, уйдя в го род. Либо те селяне, как в Италии, которые, попав в зависимость от го родской коммуны, были обязаны ее представителям такими отработ ками. Наконец, в иных случаях горожане сами находили нужное им сы рье во владениях феодалов за плату или поставку взамен того своих из делий. Приобретение не только древесного, но и любого сырья всегда оставалось для ремесленников сложной проблемой даже при коопери ровании их усилий, шла ли речь о бревнах и прутьях из сеньориальных лесов, послежатвенной соломе, озерно-прудовом тростнике, глине из раскопов или рудниковых металлах. Воюя с сеньорами, города боро лись не только за свою независимость, о чем можно прочитать в лю бом учебнике, но и за право обладать производственными ресурсами, о
133
чем обычно не пишут. Между тем, без такого права стало бы невоз можным материальное существование самих городов.
Строители принадлежали к племени бродяг. Типичными бродячи ми наемниками были артели ломбардских каменщиков, с VII в. осуще ствлявших кладку замковых и городских стен и опор, возведение ба шен и дворцов всюду, куда позовут. Более оседлыми являлись бригады конверсов - “светских братьев”, обслуживавших строительные храмо вые нужды в епископских городах, и немецкие баухютте, своеобразные компанейства каменщиков, плотников и архитекторов, свято хранив шие свои секреты, но тоже не привязанные слепо к одной территории. Правда, их обслуживали и подряжаемые в каждом очередном месте грузчики, кузнецы, ваятели, художники, стекольщики, землекопы, штукатуры, кирпичники, чья работа могла длиться даже десятилетия ми. Особенность их труда заключалась в том, что им приходилось вся кий раз реализовывать нетиповое задание. Поэтому консервативная цеховая регламентация при осуществлении замысла любой стройки не действовала.
Наряду с изделиями, изготовленными на гончарном круге, в раннее средневековье широко использовалась лепная керамика, окончательно вытесненная в городах в XII в., равно как вместо обжигового горна ли бо простого кострища появилась керамическая печь. Накопав глины, очистив ее, размяв, измельчив, размешав с водой до мукообразного со стояния и удалив потом воду, смешав тесто с песком, мелом и дресвой, придав на круге искомую форму, нанеся рисунок и обсушив, гончар об жигал изделие и покрывал его поливой. В авангарде этого ремесла шла Италия. Тосканцы производили цветную посуду и облицовочные израз цы пористого состава. Жители г. Фаенца, смешав глину с полевым шпа том и обработав кислотами, поразили Европу невиданными блюдами и чашами, так и прозванными “фаенца” (фаянс). Их соседи по Равеннской области стали делать из непрозрачной белой глины более твердую и гру бую, но и более дешевую опаковую посуду. Мастера Каррары добились успеха в выпуске плотных изделий “предфарфорового” образца. С IX в. флорентийцы, хитроумно сплавляя по одной им известной рецептуре из весть, окись меди, различные соли и еще какие-то добавки, наносили эту мешанину перед накаливанием на поверхность сосудов и получали гла зурь. С XIII в., усложнив производство, они покрывают горельефы и ба рельефы многоцветной поливой. А в XV в. Л. делла Роббиа довел худо жественную глазуровку до совершенства. Сочетание итальянских и ара бо-испанских традиций у ремесленников о-ва Майорка отразилось на высоком качестве изделий “майорика” (майолика). Немецкие гончары подмешивали в глину мергель и речной ил. Их “шликерные” изделия бы ли покрыты расписными рисунками. Что касается посудных форм и ук рашений, то они, в силу своего разнообразия, с трудом поддаются систе матическому описанию. Легче типизировать их по назначению: во^сех городах без исключения, где жили гончары, выпускались сосуды тарные для упаковки и перевозки содержимого, кухонные для варки пищи, сто ловые для ее употребления и сугубо декоративные.
Стеклоделие в Западной Европе покоилось на двух школах. Визан тийская повлияла на это искусство в пределах Италии, Балкан и Руси;
134
собственно римская, уйдя из Италии, обосновалась во Франкском госу дарстве. Ее отдаленные выученики в городах Нидерландов, Франции и Германии изготовляли прозрачное, непрозрачное и цветное стекло из комбинаций селитры, соды или поташа, извести, кремня с примесями окисей металлов, глины, серы, угля и минералов. Сначала эту сложно составную шихту варили в металлических сосудах, используя далее по лучавшуюся разварную жижу. Во II тысячелетии предпочитали спе кать шихту в крупных чашах. Выходила фритта - застывшая масса, с которой осторожно счищали пену и резали студень на пласты. Их вы держивали в подземельях месяцами и годами. Сегодняшние находки ку сков фритты, вызывающие недоумение у многих ученых, это вовсе не обломки готовых изделий, а полуфабрикат. Отлежавшуюся массу плаиили в кирпичных печах. Городские предместья, где работали околоиечные подмастерья, часто были затянуты характерной дымкой. Рас плавленную массу опытные мастера выдували, раскатывали и резали на диски, которые, как повествует Теофил в “Записке о разных ремес лах”, еще разглаживались потом в листы. Светильники из листового прозрачного стекла датируются IX столетием.
Как ни странно, в производстве цветного стекла, в отличие от про зрачного, на Западе не наблюдалось разрыва между античной и сред невековой эпохами. Но городским достоянием, а не церковным, оно стало только в XII в., когда англичане уже вставляют его в окна част ных зданий. Живопись по стеклу тоже сначала была принадлежностью монастырей. Зато потом ее подхватили и горожане, и государства. Крупная королевская мастерская с вольнонаемными тружениками из вестна с 1290 г. в лесах Иль-де-Франса. Из нее выходили листы “лесно го” стекла черноватого и зелено-желтого оттенков. Городские стеклоателье появились позже. С ними связано искусство биссофании, вклю чавшее в себя разнообразные способы украшений: излюбленное заня тие обитателей купеческих домов - вычерчивание орнаментных, фло ристических и зооморфных контуров на стекле с последующей рас краской кистями из барсучьего волоса; разрисовка полотна с наклей кой на стекло; наведение узоров и травление их на стекле раствором плавикового шпата, что выполнялось, конечно, в мастерских; эмаль по стеклу, обжигаемая вместе с ним; мозаика в свинцовых рамках, собира емых воедино. Так готовились знаменитые витражи - многоцветные оконные панно, настраивающие зрителя то на восторженный, то на благочестивый лад. Сложной отраслью стеклоделия было изготовле ние зеркал. Венецианские мастера, посвященные в эту тайну, были изолированы от всех контактов на о-ве Мурано в 1291 г. Там, как вы яснилось впоследствии, они резали выдержанную фритту на халявы - полые цилиндры, рассекаемые потом на полосы. Их аверс полировал ся, реверс приобретал олово-ртутное покрытие отражательного свой ства. За разглашение секрета виновный карался смертью. С 1300 г. та кие зеркала экспортировались, триумфально шествуя по Европе. Вене цианцы же шлифуют с конца XIII в. специально подготовленные стек ла в качестве линз, а затем они приступили и к изготовлению оптики, введенной в практику флорентинцами С. дель Армати и А. делла Спи на, один из которых употреблял от близорукости рассеивающие двоя
135
ковогнутые линзы, а другой от дальнозоркости - собирательные двоя ковыпуклые. Нидерландцы снабдили их оправой; получились очки, лорнеты, подзорные трубы. Богатые люди покупали увеличительные линзы как забавные игрушки.
Большинство игрушек оставалось принадлежностью детей. В XIV в. К. фон Мегенбург и в XV в. Э.С. Пикколомини посвятили иг рушкам особые трактаты. Судя по археологическим находкам, первые средневековые вещицы, служившие забаве, были незамысловатыми, использовались для семейных нужд и выполнялись из любых подруч ных материалов. Гораздо долговечнее типично городские игрушки. Массовые их остатки содержат относящиеся к XIII-XV вв. слои раско пов в Любеке и Нюрнберге. Игрушечники работали с костью, метал лом, обожженной глиной, оставив нам фигурки кукол, всадников, вои нов, лошадей, коров, козлов, кубики и свистульки. Более дорогими бы ли “умственные” игры взрослых, в первую очередь шахматы и шашки, и дешевыми - для азартных развлечений, особенно кости с условными буквенными и цифровыми обозначениями на них.
Искусство офорта - украшений на оружии, резцового ювелирного гравирования и резьбы по доскам для набойки тканей послужило осно вой рельефной металлографии и ксилографии, примененных в конце XIV в. для печатания оттисковых игральных карт. Из Центральноевро пейского региона эти силезские, чешские, баварские и эльзасские тис неные картинки с королями, принцами и дамами быстро распространи лись повсюду, овладев частными домами, университетами, тавернами и армиями.
Успехи тиснения послужили также предпосылкой книгопечатания. Другой предпосылкой книгопечатания стало производство бумаги, пришедшей на смену пергамену. Первые ее образцы применяются в Западной Европе с IX в., а с XI в. на базе переработки тряпья уже дей ствовала бумагоделательная мастерская в мавританской Хативе, уси ленная в 1144 г. бумажной мельницей. Спустя 10 лет через Сицилию это ремесло достигло Италии, знавшей уже бумажную толчею. Среди горожан утвердилась новая профессия - сборщик конопельно-льняно- го тряпья. Первые городские книги на бумаге относятся к XII в., коро левские документы - к Х1П в. И тогда же возникли ателье по производ ству бумаги во Франции, Германии и Англии. Их сменили в XIV в. ма нуфактуры с раздельными операциями по сортировке и обработке сы рья, куда теперь дополнительно включали измельченную древесину, растительную костру и хлопок. Смесь дробили, очищали от мусора, выколачивали ногами в толчее, мыли раствором извести в содовой во де. Соду добывали из саликора, имевшегося возле Нарбонны, либо сжигая водоросли, либо собирая натронные куски у оз. Балатон, либо адресуясь к алхимикам. Промытую массу долбили молотками в ручных (позднее - механических) ступах, разваривали в чистой воде, заливали кашу клеем, размешивали, выливали из чанов на скользившие по ва лам сита. Вода уходила, студень густел, .слипшиеся частицы образовы вали сырой пласт. Его уплотняли катком, сушили, лощили и, разрезав, наматывали рулоном. Добавим, что, в силу привязанности к естествен ным условиям, специальность бумажника оставалась сравнительно
136
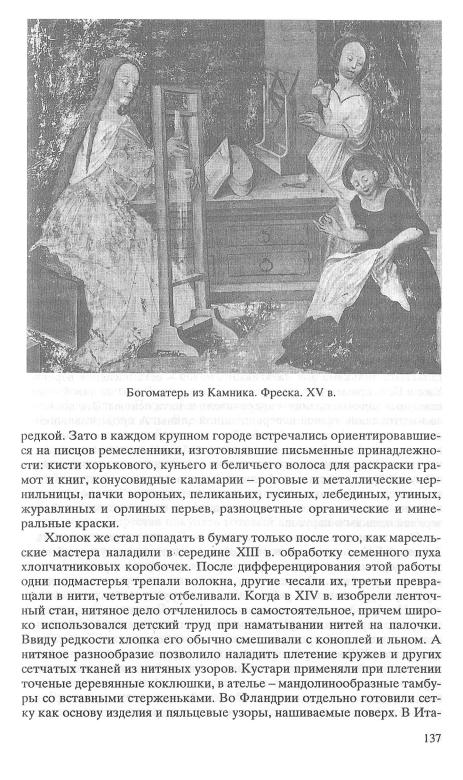
лии обходились без тканой основы, ведя петельный шов и вставляя и контур конские волосы, потом обшивавшиеся. Отделилась в самостоя тельное занятие и вышивка. Славилась богатая расцветкой и сложно стью рисунков английская вышивка. Другой нитяной отраслью стало вязание, центрами которого были сначала Швейцария, Италия и Ни дерланды. Главное средневековое вязаное изделие - фуфайка. Разные виды фуфаек изготовлялись для моряков, грузчиков, воинов (под ла ты), бродячих монахов (под рясы). Вязали также ковры-половики, пре имущественно в балканских городах.
Третье направление использования нитей - прядение волокна, в Южной Европе - конопельного, в Северной - льняного, поступавшего из деревни обычно тремя отдельными партиями: изгреб после грубо го чесания, шедший на простейшую выделку; пачеси после мягкого чесания, шедшие на большинство тканей; тонкая кудель - для перво классных изделий. Различали также посконное пыльниковое волокно, годившееся на одежду, и жесткое семенное - на веревочную пеньку, подстилки и мешковину. Сначала пряли, вручную скручивая волокна с початков воедино и навивая нить на снабженное пряслицем веретено. Далее появился стояк: он освободил руку пряхи от держания орудия труда. Резко ускорила процесс самопрялка, в которой пряха лишь вра щала колесо (впервые - в Италии XIII в.), а сучение и наматывание ни ти шло механически, особенно при наличии ножной педали, мотовила и шпульки (Германия XV в.). Тканье территориально отделилось от прядения в самостоятельную работу именно в городах, хотя ткацкий стан в элементарном виде - рама из вертикальных брусьев с горизон тальными планками для натягивания нитей - есть наследие деревни. Уже в IX в. применялся и горизонтальный стан. В нем на навой - вер тевшуюся заднюю планку - накручивались нити основы. Это допусти ло изготовление тканей неограниченной длины. А продергивавшийся сквозь кросно поперечный уток был нацеплен на челнок, который сновал меж нитей. Разные города и цехи, без устоявшегося разграни чения, специализировались на тканях неодинаковых переплетений: цевку пробрасывали и под косым углом, и под прямым, и по диагона ли, и клеточкой, а нити вели и плоско, и шнурком. Так выпускались полотна на все вкусы - холсты для знамен, шатров, саванов, белья, верхней одежды и парусов.
Использование животного волокна - шерсть, шелк - началось в Западной Европе с козьей и овечьей шерсти, тоже поступавшей в го род из деревни, хотя в некоторых случаях животных стригли и на го родских лужайках. Случались и комбинации: первую ежегодную стрижку осуществляли в районе выпаса, вторую - поближе к мастер ским. Наилучшим сырьем для сукна и шерсти считалась мериносовая - от длинношерстных овец Испании. Но шерстяное дело обособилось в полупромышленное производство после того, как Англия н ^ ала пре вращаться с XIII в. в страну широкого разведения северных длиннохво стых овец-лейстеров, которых было намного больше, чем испанских мериносов, не говоря уже о центральноевропейских короткохвостых овец и средиземноморских козах. От семейно-домового труда шерстянники двигались к поквартальному и цеховому, распределяя между со
138
бой разбор рыхлой шерсти на тонкую и грубую, мойку и сушку, про питку маслом, трепание и чесание, прядение, наматывание, тканье, чи стку и выщипывание, ворщение. С XV в. после стрижки регулярно при меняется валяние войлока, особенно из шерсти осеннего настрига, предварительным сбиванием и прокатыванием его меж валиков. Начи ная с 983 г., когда в Тоскане завертелась первая водяная сукновальная мельница, постепенно сукновальни распространились по всему конти ненту. Наметилась специализация по странам: английские ремесленни ки с конца XII в. производят шерстяной мягкий драдедам на женские платья, очень плотный бибер с двойным утком для верхней одежды и черный ворсистый бродклос двойной ширины. Это - те сукна, которые еще в средневековье составили славу Британии. Тонкий, шероховатый, полупрозрачный шерстяной креп изготовляли с VII в. болонские мас тера. В ХШ в. французы наладили выпуск трипа - бархата с льняной нижней основой и шерстяной верхней. Сукна разнообразились полот няными тканями: плотным южноевропейским конопельным пике с рельефным узором, пуатевинским декоративным обивочным полот ном и североевропейским льняным рубчатым кипером косого перепле тения.
Что касается шелка, то европейцы издавна завистливо взирали на это восточное диво. Однако сами ничего толком не знали ни о выращи вании тутовых деревьев, ни о гранже у бабочек-шелкопрядов, ни об ин кубации яичек и кормлении гусениц, ни о морении и сушке коконов. Даже когда завеса тайны раздвинулась, и она после византийцев стала достоянием италийцев, мавританской, а позднее и христианской Испа нии, затем каталонцев, отсутствие исходного сырья не позволяло чтолибо предпринять в сфере производства. Попытались найти шелку за мену. Издревле на Пиренейском полуострове из ковыльного злака аль фы плели рыбачьи сети. Волоконные свойства альфы были уточнены, когда мавры стали добавлять ее в бумажную массу. И в 1318 г. пред приимчивые марсельцы основали мастерскую, в которой начали обра батывать ковыль наподобие льна и изготавливать эспарто. Эта шелко подобная ткань не имела, однако, прочной производственной базы. Ре конкиста познакомила кастильцев и арагонцев с шелковицей, которая с X в. культивировалась в Андалусии и позволяла создавать грубые сорта шелка. Перестав покупать готовый альмерийский шелк, обита тели городов по течению Роны, опираясь также на сведения, получен ные в результате крестовых походов, стали вывозить из Испании смо танный с коконов сырец и ткать его как льняную кудель. Когда полу чилось, начали завозить коконы, душить куколок жарой и распаривать оболочку, а потом разматывать шелковину, для чего приспособили станочные филатуры. Далее перешли к выращиванию белой шелкови цы, сажая ее вперемежку с кустарниками, и разведению шелкопрядабомбикса. Его грену оживляли в грудах шерсти либо даже в навозе, а гусениц выкармливали прямо на полу подсобных помещений. Когда черви выпускали ценную слизь, им подставляли коконники из палочек со стружечными завитками и добивались превращения гусениц в коко ны. Вся эта процедура, хлопотливая и тягучая, придала лангедокским шелководам ореол неповторимости и надолго закрепила за Провансом
139
