
- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1 эпоха первобытнообщинного строя
- •Палеолит. Период присваивающего хозяйства
- •1.2. Неолитическая революция
- •Влияние остаточных форм присваивающего хозяйства на экологическое равновесие
- •Глава 2. Экологические проблемы ранних цивилизаций
- •2.1. Цивилизации поливного земледелия с использованием ограниченных источников воды
- •2.2. Цивилизации поливного земледелия в бассейнах великих исторических рек
- •2.2.1. Египет
- •2.2.2. Месопотамия
- •2.2.3. Индостан
- •2.2.3. Китай
- •2.3. Цивилизация поливного и неполивного земледелия в условиях морского муссонного климата. Япония
- •2.4. Цивилизации тропического земледелия
- •2.4.1.Майя
- •2.4.2. Перу
- •Литература
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Глава 1. Цивилизация неполивного средиземноморского земледелия
- •Обезлесение
- •Античное сельское хозяйство
- •Техногенная активизация экзогенного рельефообразования
- •Необратимые ландшафтные изменения
- •Урбанистические проблемы
- •Экологическая составляющая кризиса Римской империи
- •Глава 2. Цивилизация средневекового запада (V-XVII вв.)
- •Раннее Средневековье
- •Развитое Средневековье
- •Позднее Средневековье.
- •Глава 3. Цивилизация неполивного земледелия восточной европы (VIII - XIX вв.)
- •Основные направления природопользования
- •Литература
Развитое Средневековье
Экстенсивный характер хозяйственной деятельности.
Первые шаги в установлении законов по охране природных ресурсов
Рост населения, хотя и медленный, требовал расширения обрабатываемых земель. Актуальной стала проблема внутренней колонизации. Сначала этот процесс затронул старые разобщенные очаги земледелия, а позднее приобрел переселенческий характер. В ранее необжитых районах вырубались леса. Зарождалось большое количество новых поселений. Организаторами переселенческого движения выступали королевская власть и монастыри, расположенные среди лесной чащи и владевшие большими земельными наделами. Особенно активной была деятельность католического монашеского ордена цистерцианцев. На Западе и в центре Европы наступление на лес происходило в VI—XIII вв., но наибольшая его активность падает на IX-XII вв. Этот этап получил название Великого корчевания. Происходило быстрое освоение значительных территорий для земледелия, скотоводства, горнопромышленной деятельности.
Внешняя переселенческая колонизация была направлена за границы государств. В большинстве случаев (исключая освоение незаселенной Исландии и юга Гренландии) она имела завоевательный характер. Таковы походы викингов вплоть до Сицилии, Реконкиста, крестовые походы и т. д.
Параллельно с Великим корчеванием происходил энергичный рост городов, развитие ремесел, становление рыночных отношений. В XII в. были основаны первые университеты (Париж, Оксфорд, Монпелье, Салерно). С конца XIV в. началось книгопечатание с гравированных деревянных досок, а с 1440 г. - с использованием подвижных металлических литер (Гутенберг).
Корчевание продвигалось с запада на восток. Сначала оно захватывало равнинные территории, где почвообразующей породой служили лессы. Двуполье было заменено трехпольем, ввели в практику озимые посевы. В результате этих мер произошло удвоение урожаев по отношению к раннему Средневековью. Пик экстенсивного развития земледелия был достигнут в первой половине XIV в.
Внутренняя и внешняя колонизации имели, как правило, экстенсивный характер. Но на этом фоне выделяются некоторые территории, освоение которых требовало в силу неблагоприятных природных условий большого объема мелиоративных работ. Наиболее красноречивый пример - Нидерланды. Начиная со II в. до н. э. там начали насыпать «холмы спасения» - терпы, на которых можно было отсидеться во время наводнений и штормовых нагонов воды. К началу новой эры относится сооружение плотин вдоль рек для защиты от паводков, а в VII в. голландцы начали строить дамбы на морских берегах. Появились первые польдеры. Истории природопользования в Нидерландах посвящена специальная работа автора [5].
Рост общей продуктивности сельского хозяйства, в первую очередь благодаря росту посевных площадей, обеспечил демографический подъем. К концу развитого Средневековья население Западной Европы увеличилось в 2-3 раза.
Рост сельскохозяйственного «вала» сделал возможным переключение части трудовых ресурсов от заботы о «хлебе насущном» к иным задачам. К небу поднимаются романские базилики и шпили готических соборов.
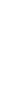 Особенно
насыщенной строительной деятельностью
была вторая половина французского
подъема целины. Это совпадение мы вправе
рассматривать как доказательство успеха
Великого корчевания, как появление
значительного прибавочного продукта.
Напрашивается аналогия с неолитическими
мегалитами, появление которых стало
возможным благодаря переходу от
присваивающего хозяйства к производящему.
Особенно
насыщенной строительной деятельностью
была вторая половина французского
подъема целины. Это совпадение мы вправе
рассматривать как доказательство успеха
Великого корчевания, как появление
значительного прибавочного продукта.
Напрашивается аналогия с неолитическими
мегалитами, появление которых стало
возможным благодаря переходу от
присваивающего хозяйства к производящему.
С 1050 по 1350 г. во Франции было возведено 80 соборов, 500 больших церквей и десятки тысяч приходских храмов. На их постройку пошли миллионы тонн камня, больше чем на строительства египетских пирамид. «Поразительны материальные средства этого общества, которое, по-видимому, без усилий возвело...столько гигантских соборов, выстроенных с величайшей тщательностью. Но наше удивление еще более увеличится, если мы примем во внимание, что кроме религиозных зданий люди XII и XIII веков выстроили еще множество других, почти таких же громадных зданий» [25]; Действительно, замков и крепостей было построено не меньше, чем соборов.
Эффект Великого корчевания во Франции иллюстрируется также такими цифрами. На протяжении 9 столетий (X-XVIII вв.) голод 89 раз посещал Францию. В среднем это бедствие случалось один раз в 10 лет. Но только 2 голодных года приходятся на XII и XIII вв. [11]. Сытые века! Важно также следующее. Разорительные феодальные междоусобицы и войны с соседями в ХII-ХШ вв. были сведены к минимуму, поскольку появилась идея, объединявшая' западноевропейские христианские государства, - освобождение гроба Господня, для чего организуются крестовые походы.
Итак, энергия нации и немалые средства могли быть направлены на гигантское престижное строительство на пределе возможностей, диктуемых сопротивлением материалов.
Горное дело. К X-XVII вв. относится расцвет горного дела в Средней Европе. В среднегорье (Гарц, Шварцвальд, Рудные горы,* Силезия и др.) разрабатывались многие тысячи рудников, в которых добывалось железо, серебро, золото, цинк, медь, олово, ртуть, мышьяк, свинец, каменная соль. В Саксонии, во Фрейбергском округе в 1524-1600 гг. добыча руды велась на 716 рудниках, в Анненберге в середине XVI в. - на 700 рудниках ив Мариенберге в тот же период - на 1000 рудниках.
Впечатляющий пример - гора Фалькенштейн в Тироле. Добыча медной руды велась там на 9 уровнях. К 1556 г. число забоев достигло 250, а общая протяженность штолен составляла 222 км. Цифра для сравнения: в 1988 г. протяженность всех линий Московского метрополитена составляла 217 км.
По мере истощения одних месторождений переключались на другие, еще более богатые. В XIV в. центром горного дела была Кутна Гора в Чехии, откуда поступала основная масса серебра. В начале XVI в.. Первенство перешло к Яхимову, который развивался чрезвычайно стремительно. Он был основан в 1516 г. и всего через 10 лет имел население вдвое больше, чем Лейпциг, знаменитый своими ярмарками, которые тогда устраивались трижды в год.
В 1525 г. на немецких рудниках работали около 100 тыс. горняков. Еще десятки тысяч человек выжигали древесный уголь, плавили металл и были заняты в кузнечном деле. В первой половине XVI в. в Германии и Чехии меди и серебра добывали больше, чем во всем остальном мире.
Большой опыт горнопромышленной деятельности, накопленный в Европе к середине XVI в., был обобщен в фундаментальной работе Г. Агриколы «О горном деле» [3]. Для своего времени эта книга была настоящей геологической энциклопедией. Характерно, что автор не оставляет в стороне вопрос о негативном влиянии горнодобывающей отрасли на окружающую среду. Он обнаруживает комплексный (экологический!) подход к этой проблеме.
Агрикола пишет следующее: «Проложенными для поисков руды шурфами опустошаются поля... вырубаются леса и рощи, так как нужны бесчисленные деревья для строительства домов и для плавки руды. Из-за вырубки лесов и рощ уничтожаются птицы и другие животные, многие из которых для людей - вкусная и приятная пища. Руду промывают, и в результате отравляются ручьи и реки, а рыба или уходит из них, или гибнет. А так как и жители этих местностей вследствие опустошения полей, лесов, рощ, ручейков и рек оказываются в исключительно затруднительном положении... совершенно ясно, что этими шурфами наносят больше вреда по сравнению с той пользой, которую получают от горной промышленности» [3].
Агрикола отметил также негативное влияние техногенных геохимических аномалий на здоровье человека. Он пишет, что рудокопы гибнут от «пагубного воздуха» рудников. В подтверждение этих слов он приводит такой факт: в Карпатах можно найти женщин, которые семь раз выходили замуж, и все семеро мужей-горняков скончались преждевременной смертью.
В районах добычи руды лесные ресурсы быстро сокращались. В XVI в. 200 кузниц Верхнего Пфальца ежегодно потребляли до 600 тыс. куб. м. древесного угля, а рассчитанный на основе этих( данных годовой расход древесины достигал 2 млн куб. м, включая ее потребление для отопления и строительства. В настоящее время средний запас древесины в немецких лесах равен 142 куб. м на га. Если базироваться на этой цифре, то в XVI в. леса в Верхнем Пфальце ежегодно сокращались на 140 кв. км (без учета лесных пожаров, угнетения молодой поросли скотом и т. п.). В итоге, около 1550 г. Пфальц испытал острый энергетический кризис. Рудники и мастерские закрывались, а те из них, которые сумели продержаться в пору упадка, были разрушены во время Тридцатилетней войны.
Соляной промысел. Крупным потребителем топлива было производство поваренной соли из воды соляных источников (са-лин). В Центральной Европе было три района распространения таких источников:
1) побережье Северного и Балтийского морей (Люнебург, Грейс фсвальд, Кол обжег),
2) расположенный южнее пояс Вестфалия - Саксония - Силезия - Южная Польша,
3) Восточные Альпы (Зальцбург и Аусзее).
Воду из источников выпаривали в больших железных котлах. Огонь поддерживали круглосуточно, за исключением праздничных дней. Ни один котел не мог выдержать силы огня больше полугода.
Расположенный вблизи Гамбурга Люнебург, где соль добывали начиная с X в., долгое время был ее главным поставщиком для сельдяного промысла Северного моря. С расширением рыболовства возрастал ежегодный расход топлива. В первой половине XVI в. он увеличился до 100 тыс. куб. м сухих буковых дров, что требовало вырубки 7 кв. км леса. Леса в окрестностях крупных солеварен быстро сокращались, возник топливный кризис, и Нидерланды вынуждены были переключиться на приобретение соли в отдаленной Португалии. Эта страна, реагируя на возросший спрос, резко увеличила добычу соли и в XVI в. стала ее главным экспортером на европейском континенте.
Своеобразна история соляных приисков в Альпах. В 1237 г. зальцбургский архиепископ запретил хлебопашество на вырубках вокруг солеварен, в расчете на то, что со временем эти земли опять покроются лесом. Иначе поступили в окрестностях того же Зальцбурга в начале XVII в. Тогда решили перебрасывать соляной раствор в более богатые лесом места с помощью трубопроводов. Их строили из сверленых еловых бревен, служивших без замены по 80 лет и больше.
В 1607 г. такой трубопровод длиною около 35 км связал Халльштадт, Ишль и Эбензе. Рассол шел самотеком. Десятилетие спустя был воплощен в жизнь более трудный проект. В 1617-1619 гг. из-за оскудения лесных ресурсов в бассейне р. Залах, проложили трубопровод в соседнюю долину р. Траун. Сложность заключалась в том, что задуманная трасса представляла собой гигантский сифон. Необходимо было преодолеть подъем до водораздела в 260 м. Скептикам задачаказалась неразрешимой, но с ней справились. Для строительства использовали 9 тыс. отборных еловых бревен. В минуту перекачивалась полбочки раствора - 60 литров.
Изменение состава европейских лесов. На протяжении Средневековья леса Центральной Европы изменились не только в количественном, но и в качественном отношении. Накануне Великого корчевания абсолютно преобладали широколиственные леса. Хвойные породы произрастали главным образом в интервалах 900-1 000 м (верхняя граница дуба и бука) и 1400— 1 500 м (верхняя граница лесного пояса). Полное господство широколиственных пород в раннем Средневековье убедительно доказывается топонимическим анализом. По подсчетам Кречмера, в 1904 г. на территории Германии было выявлено 6 115 географических названий, связанных с лиственными породами, и всего 750 названий, связанных с хвойными породами [42].
Сейчас многие топонимы, происходящие от названий лиственных пород, воспринимаются как анахронизмы, поскольку они относятся к территориям с хвойными лесами или совсем безлесным. Например, горы Гарц, известные в античные времена как Bacenis silva (буковый лес), ныне покрыты пихтовым лесом.
Вытеснение широколиственных пород хвойными происходило в силу следующих причин.
-
Наибольшим плодородием отличались почвы под дубовыми и буковыми лесами. Поэтому при земледельческом освоении новых угодий вырубались в первую очередь именно они.
-
Прочная и не поддающаяся гниению древесина дуба издавна считалась самым ценным материалом в строительстве судов, экипажей, мебели, бочек и т. п. Кора дуба использовалась как ду бильное сырье в кожевенном производстве.
-
Большие помехи естественному возобновлению буковых лесов и дубрав возникали при выпасе свиней, которые поедали буковые орешки и желуди. Угнетению лиственных лесов способствовало также отчуждение опавшей листвы, которая использовалась как подстилка для скота при его стойловом содержании, а также для удобрения полей.
-
Широколиственные породы более чувствительны к сильным морозам и поздним весенним заморозкам. Поэтому определенный импульс к их угнетению был дан Малым ледниковым периодом.
-
Дуб растет медленно, что не могло не повлиять на выбор хвойных пород для искусственного лесовозобновления.
Лесопользование.
Германия. В раннем Средневековье такой проблемы не существовало. Право пользования лесом было равно праву пользования водой из реки. Первые ограничения в рубке леса были сделаны ради сохранения охотничьих угодий. Заповедные леса для охоты существовали еще до Карла Великого (742-814).
В Гарце с 968 г. право рубки леса было предоставлено только горным заводам, но судить самовольных порубщиков в Германии стали только с 1274 г. Пастьба скота в лесных молодняках запрещалась с XII в. С XIII в. стали запрещаться порубки без предварительного согласия владельца. К 1368 г. относятся первые искусственные лесопосадки в окрестностях Нюрнберга. С 1352 г. без специального разрешения нельзя было рубить дуб и бук. На колья для хмеля разрешалось использовать только малоценные деревья - ольху, иву, осину. С 1593 г. вместо деревянных заборов начинают устраивать живые изгороди.
Потребность в лесе и его использование для выплавки металлов, в солеварении и для других целей были столь велики, что все эти меры не давали желаемого результата, без новых технологий, и перехода к использованию каменного угля. Для выварки соли уголь стали применять с 1567 г., а переход к каменному углю в немецком металлургическом производстве произошел только в XIX в.
Англия. В период внутренней колонизации королевская власть активно препятствовала сведению лесов. В годы правления Вильгельма Завоевателя (1066-1087) значительная часть лесов была объявлена собственностью казны. Они делились на две категории — используемые и заповедные. В первых заплату разрешалась охота, порубки, пастьба скота и т. п. Заповедные леса предназначались только для королевской охоты.
Во второй половине XII в. режим был ужесточен, территория заповедных лесов значительно расширилась. Заповедники создавались весьма своеобразно Вильгельм Завоеватель разрушил 60 селений и выгнал их жителей, желая, чтобы населяемая, ими земля поросла лесом, где бы он и его потомки могли бы охотиться! Его наследник - Вильгельм Рыжий - с той же целью велел разрушить 18 селений. г
Браконьерам грозила жестокая кара - ослепление, кастрация, смертная казнь. Казнь, была отменена только хартией 1217 г., взамен были введены штрафы и тюремное заключение. В разные годы штрафы составляли 14-59% от всех лесных доходов, причем они все время росли и в итоге стали главной статьей доходов. Монополизация лесных богатств объективно провоцировала браконьерство. Против практики культивирования заповедных лесов выступали и крестьяне, и феодалы. Королевскую монополию на лес сломали политические события XIII в., кульминацией которых стала гражданская война. Но в урезанном виде заповедники и охотничьи парки продолжали существовать.
Вскоре после этого пришлось обратиться к импорту леса. В 1540 г. был принят закон о поддержании флота, и стали осуществляться меры по охране корабельных лесов. В первые годы правления Елизаветы I (на престоле в 1558-1603) в полосе, удаленной до 14 миль от моря, было запрещено использование для выжигания угля деревьев диаметром более 1 фута.
Потребность в корабельной древесине высокого качества стала одним из побудительных мотивов британского проникновения в Северную Америку (начало колонизации с 1607 г.).
В середине XVII в. Британское адмиралтейство консультировалось с Королевским обществом относительно возможности искусственного разведения лесов для нужд кораблестроения. Этим вопросом заинтересовался видный натуралист Дж. Эвелин, написавший «Трактат о лесных деревьях». Но практического воплощения поднятый вопрос не получил.
