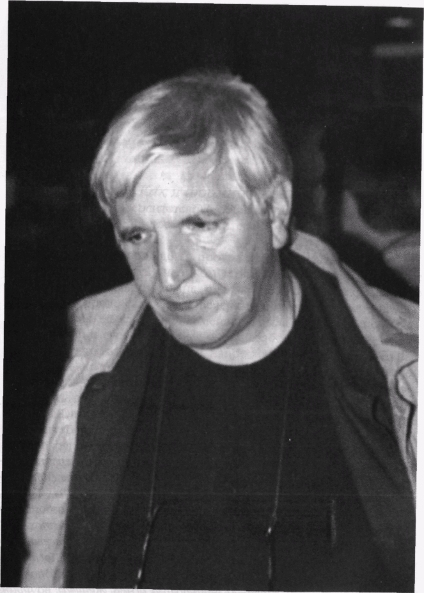- •Век режиссуры
- •Сергей Бархин
- •Приемы борьбы
- •Давид Боровский
- •Ничто не пропадает напрасно
- •Питер Брук
- •Метафизика театра
- •Роберт Брустин
- •Идея художественного театра в Америке
- •Анатолий Васильев
- •О физическом действии и других секретах
- •Kaмa Гинкас
- •Почему я люблю и ненавижу театр
- •Ежи Гротовский
- •Симптомы мастерства
- •Лев Додин
- •Логика свободного поиска
- •Деклан Доннеллан
- •Научить актера бесстрашию
- •Олег Ефремов
- •Больше всего устаешь от ответственности
- •Сергей Женовач
- •Постоянно держать экзамен
- •Марк Захаров
- •Эстетика непредсказуемости
- •Александр Калягин
- •Взрыв сцены
- •У врат Упанишад
- •Михаил Козаков
- •И театр - это всего лишь самопознание…
- •Оскарас Коршонувас
- •Поколение Исаака
- •Эдуард Кочергин
- •Планка мастерства
- •Маттиас Лангхофф
- •Искусство делать скандалы
- •Жак Лассаль
- •Идти не по компасу
- •Юрий Любимов
- •Артисты - товар скоропортящийся
- •Кристоф Марталер
- •Я достаю театр из своей биографии
- •Кети Митчелл
- •Пьеса выбирает режиссера
- •Ариана Mнушкина
- •Театр - дом и храм
- •Эймунтас Някрошюс
- •Свободное пространство
- •Анатолий Праудин
- •Печальные прогнозы
- •Константин Райкин
- •Театром надо опьяняться
- •Джорджо Стрелер
- •Роберт Стуруа
- •Театр на сносях
- •Тадаши Сузуки
- •Барьер как вызов
- •Олег Табаков
- •Русский театр - это актерский театр
- •Роберт Уилсон
- •Слушать телом и говорить телом
- •Валерий Фокин
- •Забег на длинную дистанцию
- •Петр Фоменко
- •Держать удар
- •Темур Чхеидзе
- •Основные вещи знаешь заранее
- •Адольф Шапиро
- •Театр - искусство для зрячих
- •Олег Шейнцис
- •Зачем нужен художник
- •Петер Штайн
- •Мой Чехов
- •Андрей Щербан
- •Режиссеру лучше оставаться цыганом
- •Сергей Юрский
- •Властители дум
- •Указатель имен
Эдуард Кочергин
Фото В. Баженова
Эдуард Кочергин (р. 1937) - художник. В I960 г. окончил театрально-постановочный факультет Ленинградского театрального института. В 1962-1966 гг. - главный художник Ленинградского театра драмы и комедии. В 1966-1972 гг. - главный художник Театра им. Комис-саржевской. С 1972 г. - главный художник БДТ. С Г.Товстоноговым оформил 25 спектаклей: «История лошади» по Л. Толстому, «Дачники» М.Горького, «Дядя Ваня»АЧехова и др. Работал также в Ленинградском ТЮЗе: «Монолог о браке» Э.Радзинского, «Свои люди - сочтемся!» А Островского и др. Работал с режиссерами КГинкасом, Б.Равенских, ЮЛюбимовым, Э.Нюганеном. Оформлял постановки Л.Додина: «Господа Головлевы» по М.Салтыкову-Щедрину (1984, МХАТ), «Дом» (1980) и «Братья и сестры» Ф. Абрамова (1985) в Малом драматическом театре и др.
Планка мастерства
- Как вы относитесь к понятию «свой» режиссер? Могли бы вы назвать так кого-то из режиссеров, с которыми работали?
Это сложно. Пожалуй, нет. «Своего» режиссера у меня не было. Я, в принципе, работал и работаю с очень разными людьми. И мне интересна именно их разность. Это не значит, что я могу работать с любым режиссером. Есть режиссеры, которые на кич тянут, на безвкусицу. Я какие-то вещи просто не могу делать, они меня раздражают. Но мне интересны разные способы режиссерского мышления. Додин, допустим, и Товстоногов. Или Равенских и Товстоногов. Я стараюсь почувствовать у режиссера даже не его идеи (или не столько его идеи), но как бы его «физику». Вот он произнесет несколько предложений, обрисует свою концепцию, но для меня важно не столько, что он говорит, сколько, как говорит, как двигается, жестикулирует, как он на меня смотрит, как он шевелит губами, как качает головой... Понимаете? Меня это интересует. Иногда режиссер говорит одно, а показывает руками другое. Я делаю «руки», то, что он показывает. И получается.
Сергей Юрский, когда мы делали «Мольера» говорил: мне нужен квадрат Малевича. А руками в это время в воздухе рисовал куб. Я ему сделал то, что он показывал. Когда ему демонстрировал, он немножко опешил... Откуда? Я объясняю: ты же это показывал. Квадрат Малевича на холсте плоский, но квадрат Малевича на сцене уже объемный. Юрский, не осознавая, показывал с учетом этой сценической специфики... Вот такие дела.
Иногда достаточно жеста, движения, которые ты воспринимаешь не головой, а как-то подсознательно. Меня интересуют физиологические какие-то данные режиссера. Марк Розовский своей физиологией показывал мне пульсирование, которое он хотел бы ощущать в декорациях своего спектакля. И я это делаю, только из холста. Или сегодня специально приехал в Москву посмотреть на сцену калягинского театра. Почувствовал, что ничего не придумаю, пока сам не побываю на этой сцене. И сейчас, когда мы эту кош-
238
марную сцену смотрели, то зашли на мостик (там сзади такие глупые мостики), и я понял, что эти мостики надо использовать. Сделать деревянные закрои, закрыть железки, - получится балкончик. И это будет испанский театр.
- Ну, наверное, всем художникам необходимо изучить сцену, на которой будет идти спектакль?
Посмотреть сцену в «Et Cetera», посмотреть на Калягина, на режиссера, который будет тут ставить: как он себя ведет, как говорит с Калягиным, как он пьет, как ест... А в принципе, зрителю все равно, как художник этого добивается, - важен результат.
Мне лично не близок силовой театр, где в спектакле преимущественно видишь режиссерское самопроявление или, еще хуже: назойливо выпячивается художник. У англичан есть такая премия, которую правда, по-моему, только в кино дают: «художникам, которые не заметны». То есть художник настолько вживается в естество театрального произведения, что его не заметно, хотя его работу все видят. Вы смотрите на артистов и не думаете, что за их спинами, не думаете об их костюмах... Вы не вычисляете режиссера, потому что это органика театра. Вы воспринимаете спектакль в свое удовольствие, своей головой, кожей спины, своим настроением, своей биографией - всем. Вы это все как живое существо поглощаете, это самое замечательное.
- А когда вы шли художником к Товстоногову, не было страшно? У него уж точно была репутация диктатора и достаточно жесткий режиссерский почерк..
Я помню, как меня пугали: узурпатор, диктатор... скверный характер... По-моему, это все театральные легенды. Он строил свой театр. И, может быть, в ходе этого строительства применял какие-то силовые приемы. Ну, уволил тридцать человек. Думаю, без этого не получилось бы ничего. Но дело еще и в том, что в силу ряда обстоятельств своей биографии я вообще никого и ничего не боюсь в этой стране, - с малых лет видел всякое. И у меня даже перед смертью нет испуга. Поэтому каким-то человеком меня испугать просто невозможно. И, может быть, Товстоногов что-то такое во
239
мне почувствовал. Он был интуитивный человек и многое сообра-ЖЯл как бы «кожей спины», чем мне близок.
И еще от природы был мудр. Он понимал, что наша профессия, художников, привносит в театр категории совершенно другие. У него как у режиссера свои категории, у актеров свои, в музыке свои, а у нас свои. Сочетание вот этих всех элементов и создает театр.
Человеческое восприятие так устроено, что больше восьмидесяти процентов информации человек получает через глаза. То есть если визуальный ряд нарушен, то проигрывает и режиссер, и спектакль - все проигрывают. Товстоногов мое приглашение объяснил тем, что он десять лет был без главного художника, работал, приглашая разных сценографов, делал сам несколько спектаклей. И пришел к выводу, что все-таки пространство, осмысленное художником, очень важно. Короче говоря, он захотел обогащаться, и вот я стал у него служить в БДТ с семьдесят второго года с апреля месяца и служу в его театре до сих пор.
-Можно сказать, что Георгий Александрович Товстоногов угадал, выбирая «своего» художника?
Он довольно много видел моих работ, прежде чем пригласил к себе в театр. Со мной он познакомился через макетчика своего театра Владимира Павловича Куварина, ученика знаменитого Яс-требцова. Он мне делал макеты. И два или три макета увидел Товстоногов. Потом я работал с его учениками: Валдисом Линцеви-чусом, Камой Гинкасом, Юрием Дворкиным, Сандро Товстоноговым. То есть я как бы прошел через его школу. И спектакли все были успешные. Вообще в ту пору был какой-то подъем в театрах Петербурга, прежде всего связанный с приходом молодежи, тов-стоноговских учеников. В шестьдесят восьмом году он пригласил меня делать костюмы к спектаклю «Генрих IV», где было его оформление. Мне удалось как-то сообразить, и, в общем, костюмы получились. Так что он моих работ много, как говорят, «имал»,' когда приглашал к себе. В семьдесят втором году я перешел из Те- • атра имени Коммиссаржевской в БДТ, то есть «взлетел до Товстоногова»
240
- Вас, наверное, часто спрашивали: как с ним работалось?
Меня, действительно, много раз спрашивали об этом... Ну, могу сказать, что мне работалось с ним хорошо, легко. Он был исключительным профессионалом, грандиозно владел методом действенного анализа и учил ему своих учеников. Я не знаю, можно ли этому научиться по его книгам (я не так внимательно их читал, как, может быть, нужно). Но если чему учиться у режиссера, то этой способности выявлять действие в диалогах, монологах, во всех проявлениях актерских. Как ни странно, этот анализ был полезен художнику.
Вы знаете, самое главное для художника в режиссере - «верность» режиссера принятому решению. Чтобы он, пригласив тебя и пожелав что-либо сделать, до конца работы не менял бы свою концепцию. А только бы ее обогащал, развивал... Тогда получается результат. Он может и не получиться, всякое бывает, но все-таки больше вероятности, что он получится. И вот чем замечателен Товстоногов (я сравниваю его с другими режиссерами, с которыми работал), что он абсолютно соблюдал основное правило игры, этот командирский завет. Командир может ошибаться, но он до конца доводит идею, которую он тебе внушил. Это качество для режиссера - самое потрясающее и самое замечательное. Потому что художник, сделав декорацию, потом уже не может изменить ее. Если режиссер ее меняет, то он и себя предает, и художника предает, и может быть просто трагедия.
И еще замечательно, что в Товстоногове не было глупого эгоцентризма, который у многих режиссеров есть. В нем крепко сидело убеждение: все хорошее - мое. Режиссер должен быть таким крошкой Цахесом, потому что он должен брать у всех все, что работает на спектакль. Если кто в клюве своем несет ему что-то годное, важно принять эту идею и сделать своей. Товстоногов с благодарностью брал у всех, кто мог что-то подсказать: радист, радиотехник, радиорежиссер или осветитель, или художник. В нем не было такой амбициозности: что, мол, вы мне советуете? Напрочь отсутствовало.
И что еще необыкновенно облегчало общение с ним - чувство юмора, что тоже отличало его от многих режиссеров. Как ни
241
странно, юмор для режиссера - тоже профессиональная черта, очень способствующая работе.
А еще в нем была наивность. Как у ребенка. Может быть, это какая-то восточная черта, не знаю. Он потому мог замечательно поставить «Хануму», что в нем была эта детская наивность, умение абсолютно серьезно относиться к мимолетности жизни. Трудно подобрать слова для описания этой его черты. Ну, например, он умел удивляться. По-настоящему, самозабвенно удивляться. Помню, как он удивился, когда я ему предложил сценографическое решение «Дачников». Даже когда декорацию выставили на сцену, он сидел в зале, какое-то время смотрел на нее, молчал. На сцене зеленый, как листва, фон, летнее марево... Я ничего не сделал, понимаете. Он что хотел? Он хотел, чтобы персонажи были как бы подвешены в воздухе: ну, люди без корней, вышли из кого-то, а потом повисли, они ни те, ни другие, ни пятые, ни десятые. И я придумал круговой свет, одинаковый по силе сзади, сбоку, со всех сторон. И этим лишил артистов на сцене их тени. Я убрал у артистов тень на планшете, на станке. И они, действительно, казались подвешенными в воздухе. Я ему буквально сделал то, что он хотел. Он был так по-детски удивлен этим и долго привыкал, хотя я абсолютно точно сделал то, что он просил.
Вот это умение удивляться я после него ни у кого не встречаю. Понимаете, все настолько всё знают, все настолько образованные, все уже изначально так понимают свое значение и величие, что им не до этих глупостей. А он не боялся своих слабостей. Не боялся в них признаваться.
- Он легко принимал ваши возражения, скажем, несогласия? Его всегда можно было уговорить. Только надо было быть убедительным, вот и все...
- Ну, хорошо, а он не говорил, что это здорово, но, предположим, слишком дорого?
Этой проблемы не было. В ту пору не было в театре денежных проблем. Он, наоборот, директора ставил на место, если тот как-то возражал. Товстоногов был настоящим хозяином театра, входив-
242
шим во все подробности. Интересно, что он знал всех наших мастеров по имени-отечеству. Он считал, что хорошего артиста еще можно найти, а вот хорошего бутафора или столяра, - это проблема. Когда в восемьдесят пятом году была реконструкция театра, он каждый день минут пятнадцать - двадцать занимался строительными проблемами, следил, чтобы ничего не испортили, не утратили. В нем не было такого, я бы сказал, хамского, потребительского эгоизма: «все под ключ». Ну, вот как Колобов ждал готовенького нового театра, который ему строила Москва. Теперь расхлебывает. Товстоногов за всем следил сам, вплоть до мелочей.
- Часто говорят, что для режиссера необыкновенно важна сипа воли, что именно силой воли он «держит» актеров, команду вокруг.
Относительно силы воли я расскажу одну историю, которая его определенным образом характеризует. Когда мы с ним работали в Америке, ставили «Дядю Ваню», его там в клинике обследовали на предмет закупорки сосудов на какой-то фантастической современной аппаратуре. Ему показали по телевизору, какие у него жуткие сосуды и сказали: «Если вы не бросите курить, то вам осталось жить два года». И он решил, что последнюю сигарету выкурит в самолете, а как только приземлится, прекратит это безобразие. В самолете накурился до посинения, у него с сердцем стало плохо, если не инфаркт, то предынфарктное состояние было точно. Потом он приехал и какое-то время болел. Начал репетировать «На дне» Горького, свой последний спектакль, и не выдержал - закурил. Привык на репетициях все время курить и закурил. Я ему сказал: «Георгий Александрович, как же, вы мне клялись, божились! Зачем вы это делаете!?» А он в ответ: «Эдик, у вас есть сила воли, вы бросили курить. У меня есть мужской характер, а силы воли - нет!» Это не каждый мужик скажет про себя. Так, знаете, себя раздеть. Он прожил после этого на полгода больше, чем сказали. И умер гениально. По-мужски. Вы знаете, как он умер?
- Нет.
После худсовета в театре он сел за руль в свою машину, в свой «мерседес». Наш администратор, что-то почувствовав, сел рядом,
как бы его проводить домой. Поехали на Петроградскую вдоль Марсового поля и Летнего сада, - красивая дорога. Перед Троицким мостом, где открывается один из самых величественных петербургских видов, он остановился на красный свет. Нажал педаль, рухнул на руль. И его не стало. Точно с левой стороны его машины стоял памятник Суворову в виде бога войны Марса. Мистика прямо какая-то. Лесковским языком выражаясь, не «мелкоскопный человеческий тип». Или, уже вспомнив Шекспира: «Он - человек был в полном смысле слова». Личность.
- То, как человек умирает, часто говорит о нем не меньше, чем то, как он живет... Если я не ошибаюсь, вы оформляли спектакль о смерти Льва Толстого в Малом театре?
«Возвращение на круги своя» Друце ставил Борис Равенских и позвал меня художником. Вы его знали?
— Только по чужим рассказам.
Замечательный московский тип... Как в России бывает: все совмещается в одном человеке - абсолютная чепуха с какой-то природной мудростью, божественностью. Вы слышали, что он гонял чертиков? Стряхивал их с себя. Заходил куда-то и начинал с себя снимать невидимую нечисть. Никогда не открывал двери руками, только - локтями, коленками.
Я думаю, все эти «штучки» были чистой защитой. Он такой маской юродивого защищался от жизни. А там, под маской, был беззащитный, нежнейший человек. Воровская борьба вся построена на защитных приемах: вот я защищаюсь и одновременно бью. Так было у Равенских. Он все время защищался: защищался от великих артистов Малого театра, которые тоже могли любого задавить, защищался от начальства, защищался от посторонних.
Помню нашу первую встречу. Я приехал в Москву в прославленный Малый театр, попал к началу репетиции, у Равенских оставалось несколько минут: меня ввели (там же встречают, вводят, приводят - старинный ритуал). Мы познакомились, и он первое, что мне сказал: «Ты художник Товстоногова, ты можешь сделать декорацию, в которой бы умер великий русский человек Толстой!?» И
244
ушел репетировать. Шикарно он это произнес. И сразу дал образ, обрисовал задачу. Я должен сделать декорацию, в которой мог бы умереть великий русский человек... Ну, он вернулся после репетиции, а у меня готово предложение. У него в кабинете рукомойник, он руки моет, а я говорю: «Вы знаете, Борис Иванович, а что тут придумывать, когда Толстой сам придумал, где умереть». Он опешил: «Как так?» Я говорю: «Ну, он же себя велел похоронить на поляне, окруженной деревьями. Его могила там, а кругом деревья. Давайте мы сделаем из этих деревьев Ясную поляну!» Он остолбенел... А я в результате так и сделал. Потом этот спектакль называли в числе моих лучших решений.
Главное, у Равенских было это интуитивное чувство и колоссальная музыкальность (он, кстати, играл на чем угодно очень хорошо), он остро чувствовал музыкальность жизни, музыкальность мира. В нем была черта, которую Пушкин называл коренной чертой русского искусства, чертой, которая отличает его от других -греческого, французского, немецкого, - монументальная лирика.
- Скажите, а вы предпочитаете, чтобы режиссер вам сразу четко формулировал задачу, «образ спектакля»: создать среду, где мог бы умереть Толстой? Или все-таки постепенную кристаллизацию замысла, долгие обсуждения, в которых вы участвуете?
Тут трудно выбирать. С каждым режиссером складывается по-разному, у каждого свой способ работы с художником. Кто-то, как Равенских, сразу дает формулу, а Додин, к примеру, никогда сразу не может сказать - «что». Это другой способ мышления. У него, скорее, сначала все на ощущении. Постепенно в результате освоения им пространства, артистов возникает уже спектакль. Это такой режиссер, с которым надо сидеть вместе, говорить, ходить. Надо как бы жить в его театре. Не всегда это удается, потому что у художника есть своя жизнь, где надо крутиться, иногда надо и выставки организовывать, свой театр, разные заботы, преподавание. А он в своем эгоизме (все режиссеры - эгоисты), конечно, хочет, чтобы я с ним сидел, жил этим, как он. А он живет этим спектаклем, вживается в него, переживает.
Это такой способ работы. И результаты достаточно внушитель-
245
ные. Мы с Додиным сделали множество спектаклей: « Свои люди -сочтемся», «Дом», «Братья и сестры», «Господа Головлевы», «Кроткая» и многое другое... Может, с другими он работает по-другому. Но со мной так. Идет как бы игра в поддавки: он - мне, я - ему, понимаете? Вот за столом, как с вами друг против друга: вы мне что-то говорите, я вам.
-А когда уже готовы декорации, вы потом на репетициях все время вместе?
Ну да, на репетициях тоже. Додин очень профессиональный человек, сейчас один из лучших профессионалов нашей страны, да и не только нашей. Недаром его театр назвали Театром Европы. До него так называли, по-моему, только «Одеон» и театр Стрелера. Вы знаете, что в нем замечательно? Он очень хорошей школы. У него учитель Борис Вульфович Зон. А Зон воспитал замечательных артистов: Юрский, Тенякова, Алиса Фрейндлих, Черкасов... Додин -один из последних его учеников. Зон умел «делать артиста», был таким создателем актеров. Вот в Додине это тоже есть. Артисты в его театре, конечно, растут. Пришли к нему мальчики, девочки, а сейчас профессионалы высокого класса. Его часто упрекают в том, что он очень их тренирует-дрессирует... Ну, а что? А как без дрессировки? Я могу сказать: чтобы художнику хорошо рисовать, надо разрисоваться. То есть какое-то время просто тренировать руку. Опять-таки, как и музыканту. Здесь никуда не деться - это ремесло. Может быть, мы все чуток забыли вот какие-то вещи ремесленные, не так уважаем профессионализм, как это раньше делалось...
- Скажите, а чье признание вашей работы для вас наиболее значимо? Премии, одобрение режиссеров, признание коллег?
Премии, маски - это все спорт какой-то. Все мы их получаем или получали. Но это накипь. Самое ценное, когда ко мне подходит артист, который работает в моем пространстве, и говорит: «Ты знаешь, мне очень приятно здесь находиться». Вот это самое главное, самое ценное, к чему мы должны стремиться. Если это получается, значит, не зря мы существуем. Если могу похвастаться чем-то, то тем, что комплименты мне делали такие артисты, как Смокту-
246
новский, Борисов, Лебедев, Стржельчик, Копелян. И вот эти их слова остались в памяти.
- Но, наверное, какие-то слова коллег не менее значимы.
Ну, это да. Вы знаете, что судьбу художника решают его коллеги-художники, как это ни парадоксально. Судьбу театрального художника решает его цех... Предположим, кто-то будет иметь успех, допустим, у театров, у режиссеров, у дирекции, но пока он не добьется цехового признания - он всё остается в роли подмастерья... Если цех тебя признает, если цех оценит, то, значит, все, как надо, значит, не зря живешь.
— А кто из коллег для вас наиболее авторитетен?
Конечно, Давид Боровский. Он наш такой цеховой ребе, мудрец. Я не могу сказать, что я мудрец, я, скорее, спиной дохожу, больше на интуиции. Могу сказать еще, что он от категории художника, от нашей формы художнической выходит в режиссуру. У меня так не получается, но я и не берусь за это. Я все-таки остаюсь художником, театральным, но художником. У меня другая школа: Питер, классическое образование. Я все-таки попорчен школой. Хорошо это, плохо ли, но попорчен. Я мыслю как художник, конкретно, в смысле изобразиловки, а он мыслит категориями театра уже глобальными. Он этими категориями владеет. Боровский - это явление в нашем искусстве, уникум, Сценограф с большой буквы. Пока такие люди работают в театре, сохраняется что-то главное, сохраняется планка профессии, планка мастерства.
Беседовала Ольга Егошина 25 декабря 1998 года