
- •I. Предмет, задачи и структура социологии
- •Лидмепфельд шф.
- •Природа социологии. Отношение ее к
- •Философии истории, этике и психологии.
- •Социология и учение о социальной жизни
- •Животных. Социология и статистика1
- •Изучение общественной жизни. Основные вопросы и зддачи социологии. Ее научное построение и направление1
- •1 Сущность социологии1
- •Социология и психология1
- •Кареев н.И. О значении психологии для общественных наук2
- •Статистика и социология1 предисловие
- •Национальных движений
- •Немного статистики
- •Южаков с.Н.
- •О методе в социологии1
- •1. Наблюдение и опыт
- •2. Опыт
- •3. Анализ
- •5. Вывод
- •6. Предположение (гипотеза)
- •8. Обобщения
- •Особые социологические методы
- •1. Сравнительно-эволюционный метод
- •2. Метод пережитков
- •3. Метод тенденций
- •4. Метод диалектический
- •5. Метод аналогический
- •Законы статистические
- •«Русская социологическая школа» и категория возможности при решении социально-этических проблем1
- •При исследовании социальных явлений
- •Хвостов в.М. Метод социологии1
- •Основные положения эмоциональной теории эстетических и этических явлений. Два вида обязанностей и норм1
- •§ 241. В силу долгового отношения кредитор имеет право
- •§ 242. Должник обязан исполнить действие так, как это соответствует требованиям доброй совести и обычаев гражданского оборота.
- •Науки об общем и науки об индивидуальном1
- •Необходимое и должное в культурном творчестве1
- •1 Бухарин н.И.
- •III. Отраслевая социология
- •Размещение по квартирам представителей различных профессий в составе петербургского населения1
- •Материалы для наблюдения над общественно-экономической жизнью русского города1
- •Ленин в.И.
- •Число выборщиков
- •Число думских депутатов:
- •1. Производство и потребление косвенные
- •2. Производство и потребление прямые, непосредственные
- •Или сектантстве
- •Семейный и домашний быт сектантов
- •Тенишев в.Н.
- •Б. Местные условия жизни крестьян
- •Вопросник1
- •II. Рабочие на фабрике
- •III. Условия труда
- •V. Рабочий день
- •VI. Частная торговля
- •XI. Комсомол
- •XIV. Культшефство
- •XV. Селькоры
- •XVII. Легенды и слухи
- •II. Теория и метод в социологии
- •III. Отраслевая социология и конкретные социологические исследования. Программы. Анкеты
- •129110, Москва б. Переяславская, 46
III. Отраслевая социология
И КОНКРЕТНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОГРАММЫ.
АНКЕТЫ
|
|
-lip';., ,."£ "i ;ti |
|
>«.;'■:;■_'!'*», 1 |
|
,' *!» |
J >V4 У is . - :' |
|
l;JV, .'. «HV.1 |
|
|
-■'*'-.'»'5 ,'fc. |
' .'У, |
|
чЛРД
гМ-: >\ ,,ф,-
434
435
Клейнборт Л.М. СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ /
Прежде и теперь1
■ /
Есть вопросы, не дающие забывать о себе и в то же время висящие в воздухе. Они точно дразнят своей выпуклостью... Таково, бесспорно, то, что говорят, что пишут уже в продолжение нескольких лет о молодежи.
Кажется, отошли вдаль постылые годы упадка, по крайней мере в фабричных кварталах. Кажется, и демократическое студенчество сошло с мертвой точки, и студенчество возвышает свои, хотя еще и неокрепшие, голоса. Однако прислушайтесь к этим голосам, беспокойным, волнующим. В них не может не биться сердце. Но какая полнота желаний и в то же время юношески острая тоска! Какая напряженность внутренней жизни и какая беспомощность! Раскройте орган студенческой прессы. Конечно, сам факт его существования — наряду с десятками других — признак развития, а не упадка. Но не ищите там уверенности в себе. Один теряется в мелочах, из-за деревьев леса не видит, другой широко подходит к вопросу, но вдруг, когда решение уже близко, впадает в добрый идеализм. И выходит на одной странице: «Мы онанизмом убили свою волю и энергию; мы в пьянстве утопили свои культурные запросы и духовные интересы; мы в карты проиграли любовь к науке; мы в публичном доме загрязнили свои идеалы... Мы безжизненны, инертны, индифферентны ко всему». На другой; «Неужели мы способны защищать лишь интересы нашей корпорации и до страданий людей, не одетых в студенческий мундир, нам нет никакого дела? Нет, этого не может быть-* Я не хочу этим обидеть ни «Голос Политехника», голос «здоровой, трудящейся молодежи, знающей лишь одно — ^ России нужны практические деятели, поднимающие культуР' ный уровень народа», ни «Студенческие Годы», напротив'
'Из журн. «Современный мир». 1914. № 9.
поддерживающие «беспокойный элемент» в высшей школе. Каждый сборник, каждая газета студенческая имеют физиономию. Но одно дело — показать ее, другое — найти себя.
Молодежь себя ищет... И вот, глядя на нее со стороны, подходят «отцы». Положительно, вопрос о «кризисе» молодежи, об «оздоровлении» студенчества стал злободневным. Марк Кри-ницкий читает лекцию, Леонид Андреев пишет драму, Борис Зайцев — роман. Журналы пестрят статьями, посвященными то «больным сторонам» в отдельности, то вопросу в целом; газеты отводят отделы («Русская Молва»), номера приложений («День», «Современное Слово»). В Петербурге, в Москве — диспуты о молодежи. Но для них характерна все та же разноголосица среди отцов.
Пять лет назад г.Изгоев в неудовлетворенности молодых открыл «глупое веселье молодых бычков», «невозможную смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе». Теперь М.Криницкий отмежевывается от «Вех» для того, чтобы воскликнуть по адресу молодежи: все бездарно, бездарность тащит бездарность...
Другие голоса — студенческие и нестуденческие — ставят «цвет и надежду русского общества» на настоящее место. Но в общем что-то трактуется как «случайное», «ненормальное»...
Конечно, наше время — не время синтеза: оно не может похвастать стройностью, категоричностью оценок вообще. Но тем конкретнее надо подходить к явлениям. В нашем современном обществе нет случайного, неожиданное невозможно. Чтобы понять эволюцию молодежи от того, чем она была в 90-е, в 900-е годы, к тому, что она представляет собой теперь, надо определить как общее положение ее в обществе, так и отношение ее к той общественной группе, составной частью которой она является, — интеллигенции.
Когда-то, на заре общественности, Н.К.Михайловский на вопрос о том, что такое у нас интеллигенция, отвечал: несколько писателей да учащаяся молодежь. Теперь этого не повторишь ни в каком случае. Интеллигенция выросла во много раз, во многих направлениях. Студенчество более, чем когда-либо, живет тем, чем вся интеллигенция (этим, разумеется, не отрицается наличие особенностей профессионально-группового характера). Здесь — неизвестное будущее вместо сытого настоящего с его практицизмом, с его «пошлым опытом». Правда, здесь и грошовые уроки, переписка, нередко и в том случае, когда студент не видел с детства кругом себя горе и нужду, когда он не сын людей бедных.
Но все же студент еще не- на пути жизненной борьбы, там, гДе традиции молодости — ошибки молодости. Еще кровь Кипит, еще сил избыток, и к какому бы кругу студент ни Принадлежал, идеализм преломляется через призму эгоизма.
436
437


Это
пора первых замыслов, тех мечтаний,
когда каморка завалена книгами и так
грустны товарищеские попойки; тех
споров о смысле жизни, в которых так
много задора, протеста против подавления,
угнетения мысли, против дрессировки,
подготовки в чиновники. Позднее опыт
умудрит, «пошлый опыт — ум глупцов» —
но пока что в глазах «двоится». Однако
различия не затрагивают существа дела.
Как-никак университет — рассадник
интеллигенции, колыбель, в которой
интеллигентная душа натыкается на
первые препятствия, намечает первые
задачи, запасается багажом ценностей,
ощущает, наконец, связь с целым —
может ли молодая интеллигенция в основе
своей разниться от старой?
Пусть молодежь, пока учится, подвержена меньшему давлению, чем адвокат или инженер; пусть родник энергии, энтузиазма еще мало тронут, — все же судьба ее — судьба интеллигенции, имеющей в России свою историю. Интеллигент «критически мыслит» — или пропускает действительность не иначе как через призму социалистического знания — и студент таков же.
Подавлен безвременьем, бросил старые знамена интеллигент — и студент в объятиях индивидуализма, и студент подавлен, распылен, носится с проблемой своего Я. Интеллигенция снова на повороте? И голоса молодежи звучат громче, увереннее, повторенные по аудиториям, по коридорам.
Так было, так и теперь. Среда влияет на студента сравнительно медленнее, но тем не менее так же, как на всякого интеллигента, и в этой плоскости и славные заветы прошлого, и махровые цветы настоящего. Ведь сама интеллигенция не есть нечто цельное, надклассовое. Идеализация ее —- остаток народнической романтики, с которой жизнь покончила раз навсегда, показав воочию, что интеллигенция — продукт соотношения сил. Если молодежь — плоть от плоти русской интеллигенции, то интеллигенция — плоть от плоти общественных сил. Ее эволюция — и идейная и социальная — стоит в тесной связи с теми изменениями, которые претерпело общество и претерпевает до сих пор. Говорят, ни один термин не доставляет столько хлопот, сколько термин «интеллигенция». Изучают ее смысл, вскрывают душу, взвешивают материю, а в это время душа испаряется, материя меняет облик. Сегодня интеллигент — мистик, завтра — атеист, сегодня — аскет, завтра — бонвиван, сегодня засыпает пропасть между народом и культурой, завтра ее углубляет. Отчего это? Да оттого, что интеллигенция вообще и составные элементы, из которых она состоит, в частности, не есть нечто особое, а есть нечто производное. Оттого, что даты, годовщины интеллигенции есть даты, годовщины тех общественных слоеВ) которые преобразуют ее по своему образу и подобию.
Нет прыжков с одного берега на другой. Одно дело — тонкий аппарат, другое — железный закон общественной диалектики, тот, который красной нитью проходит и через пестроту студенческой психики, через все вехи университетской дороги. Что «старый студент» дожил свой век, а вместе с ним и идеал, связывавший студенчество в «нечто единое», — бесспорно. Ряды молодежи расстроились, и героические попытки восстановить былое бесплодны. Но так же бесспорно, что только анализ того, что пережито русским обществом в последние годы, в состоянии, с одной стороны, выяснить физиономию современного студенчества, с другой — определить, куда оно идет.
II
Распад студенчества — явление причинно обусловленное, вызванное распадом социальным, усугублением общественных противоречий. Насколько это так, показывает тот факт, что расслоение студенчества началось как раз после бурных дней, когда в освободительном движении обнаружился со всей яркостью внутренний антагонизм.
Прежде и теперь — вот параллель, которой и открывается вопрос.
Прежде студенты ценили, любили свою жизнь, и каждый знал, понимал ее смысл. Теперь «храм науки» — только высшая школа. Прежде был «барометр общественного настроения», хранитель заветов, чуткая, наиболее идейная голова. Теперь — «отдельный посетитель», распыленный, инертный, забывший заветы. Прежде — единая, крепко спаянная величина с единой, передающейся от поколения к поколению идеологией. Теперь — «футбольные» кружки. Нет единства ни в университете, ни вне университета — говорят те, кому дорого прошлое, кто «не может и не хочет примириться с мыслью о разложении». Студент Кривоносое, автор статьи об «одиноких» в «Студенческой Жизни», делит студентов на карьеристов и «одиноких». Карьеристы, мол, хозяева положения; на их улице праздник; к физическому голоду сводится их «юношеская трагедия». Одинокие же — потомки «славных студентов прежних лет»; суровая действительность задушила в них лучшие чувства и без веры, без компаса бродят они, одиночки, пессимисты, лишние люди, тоскующие по жизни, не находящие друг друга...
Бесспорно, мечты о прошлом — мечты о хорошем. Но все Же это мечты, в которых, как всегда, много чувства, но немного анализа. Внешние проявления студенческой жизни тесно связаны с внутренними. И вот я, тоже «потомок студентов Прежних лет», спрашиваю себя: неужели настолько и внутрен-
438
439


няя
жизнь была глубже, многограннее?
Бесспорно, в каждом учебном заведении
была группа, для которой поэзия сходки
не была одной поэзией. В частности, и у
нас, студентов Петербургского
университета, был кружок, который
выдвинул впоследствии Каляева, Ропшина,
Хрусталева и т. п. Но то бьщ кружок.
Авторитет кружков в студенческой среде
был велик но их можно было перечесть
по пальцам. А масса? Масса отнюдь не
представляла собой ту воспитывающую
среду, которая не давала врываться
обывательщине в высшую школу. В психике
среднего студента за последние годы
произошел заметный, но едва ли неожиданный
поворот.
Личный опрос студентов Харьковского университета обнаружил 58,3% пьющих, Московского — 65,8%, Юрьевского — 71,5%, Технологического института — 63,8%, Политехнического — 67,4% (в QaHKT-Петербурге). Напиваются допьяна 1-3 раза в месяц в Горном институте — 3,8%, в Технологическом — 10,6%, 3-5 раз — 1,7 — 1,9% соответственно. Тратят на выпивку 5-15 руб. в месяц 6% всех опрошенных. Есть даже категория «ничего не тратящих», хотя и регулярно выпивающих: в Горном институте — 13,5%, в Технологическом — 13,3%. Один из участников анкеты выпивает по 35 бутылок пива в день. Такие дозы алкоголя не могут не действовать разрушительно на молодежь и в умственном, и в моральном отношении, тем более что от алкоголя один шаг к разным видам азарта (играют на деньги в карты, на бегах, на скачках 37,7% студентов Политехнического института). Но если в наши дни политехник или технолог бродит по Невскому или Муринскому, ревет с пьяных глаз или выворачивает решетку, то многим ли меньше пили в студенческой среде прежде? До дней свободы одним из идейнейших институтов считался Технологический в Санкт-Петербурге. Трудно указать революционную организацию того времени, в которой студенты-технологи не играли бы ту или иную роль. Каков же был процент пьющих в Технологическом институте в 1904 г.? 66,5%— на 2,7% выше! В Горном — 62,3%!
Анкеты показывают, что до 16 лет начинали пить: по юрьевской анкете — 32,5%, по технологической — 39,2%, между 17-20 годами: по юрьевской — 40,3%, по технологической — 33,7%. Значит, в этих случаях виновницей являлась средняя школа. Но разве облик средней школы — облик внешний и внутренний — был иным до 1905-1906 гг., чем после? Вот горная анкета 1904 г. показала: 32,4% — начавших пить до 16 лет, 40,2% — от 17 до 20 лет.
Аналогично обстоит дело с «проблемой пола». По данным переписей, венерические болезни перенесли: перелой — 76,4% горняков, 76,4% технологов, 77% юрьевских универсантов, 71% — московских. Мягкий шанкр соответственно: 12
5, 8 — 6. Сифилис соответственно: 2,3 — 2,7 — 3,2'. Петербургский университет дал в 1908 г. 1174 заболевания, в 1909 г. — 240, в 1910 г. — 710, в 1911 г. — 700. Итак, русское студенчество отстало даже «от Запада». Например, в Париже — 15% больных сифилисом, в Берлине ежегодно 25% студенчества поражено острыми формами венерических заболеваний. Но чем студент нашего времени поражает, так это известным пороком. Анкетный опрос, произведенный в Московском университете, дал 73%, в Технологическом и Горном институтах — 53%, в Политехническом — 46,2%, не говоря о воздержавшихся от участия в опросе. Но опять-таки, что толкнуло к этому пороку? «Обстановка школы». Опять средняя школа, а не высшая. Но если* так, не равносильно ли отсутствие подобных анкет в прежнее время тому, что молодость была чище? Впрочем, отчеты врачей Петербургского университета отмечали в 1900 г. — 141 заболевание, в 1901 г. - 130, в 1902 г. — 142, в 1903 г. — 95, в 1904 г. - 84, в 1905 г. - 38.
Масса студенческая не отличалась и культурой ума, воли. Индивидуальное самоусовершенствование кредитом не пользовалось, и если, с одной стороны, создался образ студента-бунтаря, противопоставлявшего себя обывателю, то, с другой — образ студента, который — тотчас после студенческой жизни — кончает тем, что жиреет у тихой пристани. Это — психология интеллигента того времени со всеми недостатками и достоинствами. Кружки интересовались литературой, искусством; отдельные студенты славились идеологическими навыками. Но масса, когда она не была одержима импульсом протеста, жизни на бивуаках, состояла из тех же карьеристов и «одиноких».
Идеалисты прошлого не ошибаются в одном: в своеобразном единстве своих предшественников. Хотя уже в то время студенты-марксисты носились с расслоением молодой и старой интеллигенции, элементы этого расслоения не могли не бросаться в глаза, но расслоение не выходило наружу. Вот данные, относящиеся к распределению студенчества по убеждениям в 1904 г. В Технологическом институте 73,9% левых, 26,1% так называемого «болота». Левые делились на социал-демократов ' и социал-революционеров и — ни правых, ни умеренных, ни освобожденцев. И в Горном: 64,9% левых и... болото. Я помню попытку образовать освобожд©некую группу среди студентов Петербургского университета, относящуюся к тому времени, — попытку безвременно покончившего с собой Я.И.Бессонова. Ее постигла неудача в самом начале.
В чем же дело? Студенчество, как и молодежь всех классов Населения, отражало состояние тогдашнего общества. Лишь
'Четвертая цифра (данные по Московскому университету) отсутствует в °Ригинале статьи. — Ред. ,
440
441

после
1905 г. каждая общественная группа заняла
определенное отношение к разыгравшимся
событиям, стала самой собой. До того же
времени и пролетариат, и интеллигенция,
и дворянские либералы хотя и говорили
о классовом антагонизме, но чувствовали
«общего врага». У всех было — «одно».
Как известно, либерализм с 60-х годов
был проникнут социалистическими
тенденциями, и эти симпатии сказывались
вплоть до 1905 г. Конечно, это было
следствием отсутствия живой жизни,
выявляющей противоречия. Но могла ли
молодая интеллигенция — рядом со
старой — не отражать объединительной
конъюнктуры? Отсюда «единая» идеология,
пусть неглубокая, но все же единая,
которая вырабатывала и единство
поведения. Студенчество реагировало
«единодушно», всей массой, так как на
одной стороне был символ угнетения,
тюрем, виселиц, на другой — иллюзорно
единое общество.
К этому присоединяется еще и особенность. В то время, когда противоречия дремали, на арене общественной жизни не было и сил, рядом с которыми студенчество не могло бы претендовать на активную роль. Многообразные, более или менее кровные связи молодежи с общественными слоями и заставляли их откликаться на пертурбации студенческой жизни. В 1904 г. общество делает шаг вперед. Но студент остается «фактором» той большой борьбы, которую уже много лет несла на своих плечах интеллигенция. Это была не столько борьба, сколько настроение. Нечасто делались левые,' тем более революционные дела. Да и в самом настроении было больше широты, чем глубины. Но все же студент был «революционером». Так как университет пользовался своеобразной свободой слова, и дело было не столько в самом протесте, сколько в легкости его осуществления, то даже средний студент, пока он находился во власти традиционных представлений, традиционной психики, оказывался на голову выше отцов. Так и в девяностые годы, когда студенческое движение не выходило из академических рамок, и в девятисотые годы, когда политика отодвинула на задний план академизм доброго старого времени, «роль» студенчества как «самостоятельной» силы можно было признавать или отрицать, но уже в силу того, что сплошь и рядом из одной только молодежи и состояли ряды освободительного движения, нельзя было не ставить сам этот вопрос.
Круг студенческих идей был неглубок, но однороден. Студент сознавал себя частью единого целого — русской интеллиген ции. И хотя по составу молодежь была не менее разношерстна, чем эта интеллигенция, — ничто не вскрывало этой разно шерстности. ,
III
Теперь обратимся от одинаково верившей молодежи прошлого к «конгломерату отдельных посетителей» настоящего. Нет ничего единого... Конечно, студенческая «партийность» — вещь условная, определяют ее не убеждения, а настроения. Но вот цифры анкет, рисующие партийную физиономию современного студенчества.
Юрьевская анкета насчитала 30 направлений в Юрьевском университете, анкета Горного института — 24 оттенка, Технологического — 18, Политехнического — 11 и т.д. Прежде левые в лучшем случае были социал-демократами и социал-революционерами. Теперь даже эта рубрика — сеть подразделений: народно-социалисты, сионисто-социалисты, трудовики, неопределенно-левые, индивидуалисты, анархисты, синдикалисты. Еще пестрее «поправевшая» молодежь. Уже не говорят о «захвате университетов крайними». В учебных заведениях сложился «центр», тот самый, который так не вытанцовывался накануне 1905 г. Так, в Юрьевском университете кадеты составляли 11,47%, мирнообновленцы — 3,01%, «беспартийные» — 7,41%; в Технологическом институте: конституционные демократы — 20,7%, «беспартийные» — 20,6%, прогрессисты — 3,4%, польское коло — 0,3%, в Политехническом — конституционные демократы — 15,5%, прогрессисты — 1%, беспартийные — 28,2%, в Горном — 11,3% конституционные демократы и т.д. Наряду с центром имеются течения умеренно-правые и ярко-правые, которые чувствуют себя не хуже левых. Они, в свою очередь, дробятся вглубь. В. Технологическом институте октябристы составляли 2,3%, умеренно-правые 1,9%, члены Союза русского народа — 1% (есть и националисты); в Горном октябристы — 2,1%, националисты — 2,3% (правые — 22 человека — процент не указан); в Политехническом — октябристы 2,2%, правые 2,8%, в Юрьевском университете — октябристы и правые 3,24%.
Но, быть может, примечательны еще не столько эти цифры, сколько взаимоотношение партийности и сословности. В жизни студенчества классовые противоречия не могут бить в глаза; школа — не арена экономической борьбы. Но противоречия Живы в психологической структуре. Студент ведь — дитя многообразной классовой структуры. Однако в восьмидесятые, в девяностые годы студенчество — подобно интеллигенции вообще — если и теряло высокую настроенность, то независимо от социального состава. А теперь? Именно в составе суть. "Технологическая" анкета показала, что наиболее оппозиционно настроенных дают выходцы из мещанского, крестьянского (80%) и духовного сословий. Наибольший процент правых Дают дети дворян и чиновников. Наибольший процент социал-
442
443


демократов
среди выходцев из мещан (37%),
социал-революционеров — среди детей
крестьян (16%). Дворянский элемент
заполняет ряды умеренно правых (53%),
Союза русского народа (50%), октябристов
(39%). Та же зависимость между степенью
политического радикализма и материальной
обеспеченности в Политехническом
институте. Анархисты проживают в месяц
31 руб., социал-демократы, социал-революционеры
— 33, конституционные демократы,
монархисты, обновленцы — 40, октябристы
— 44, правые — 48. Среди студентов Горного
института дети крестьян и мещан дают
47,7% социал-демократов и 54%
социал-революционеров, купеческие дети
главным образом — умеренных, дворяне
главным образом — правых. В Юрьевском
университете беднейшие (с доходом не
больше 10 руб. в месяц) дают больше
половины левых, состоятельные — дают
меньше 4% левых, 27% правых.
Очевидно, это не случайность. Объективное просачивается в субъективное, пропитывает его, и основная причина не в школе, а в обществе. В самом деле, что стало с обществом после пережитых дней? Оно поняло, что внешний антагонизм лишь отражает внутренний. Оно раскололось по линии антагонизма, и жизнь покончила с понятием «общего врага». Каждый класс вскрыл свое нутро, определил свои интересы, и вот — кризис интеллигенции. Что стало с интеллигенцией? И она распалась, растеряла прежние иллюзии. Идеология — надстройка над общественным фундаментом. Крепкими корнями сплетена интеллигенция с теми общественными силами, плоть от плоти которых она составляет, и вот, с одной стороны — «пересмотр ценностей», с другой — бегство в индивидуалистическую «келью под елью». Интеллигенция освободилась от социалистических тенденций, и все чаще и чаще слышится слово покаяния. Очевидно, если молодежь была носительницей радикализма en masse1 в той степени, в какой условия жизни не создавали расслоения, то теперь и она не могла не разбиться по тем же основным линиям.
И мы это видим. Вот академисты-черносотенцы- Вот просто академисты, течение «годных» людей, отряхнувших от себя «старые заветы», поэзию боевой молодости. Конечно, студенты, предпочитающие холодным заветам теплое местечко, были во все времена. Но в прежнее время не было «течения». Теперь же это — течение, имеющее студентов-идеологов. Вот и демократическая группа, студенческий «пролетариат», по своему положению приближающийся к пролетариату физическому благодаря небольшому интеллигентскому рынку, суженному и устарелыми общественными формами, и неуклюжим политическим механизмом. Разумеется, этот процесс еще в начальной
'Полностью (франц.).
стадии. Старое и новое смешано еще в неожиданных комбинациях. Так, когда в 1904-1905 гг. поднимались вопросы о доступе в высшую школу всех, без различия пола и национальности, целый лес рук защищал резолюцию. Ни одного Протеста. Годы же реакции были ознаменованы вспышкой антисемитизма, антифеминизма в студенческой среде. Конечно, пульс молодежи бился в унисон с общественной реакцией, с поправевшей интеллигенцией, и этого следовало ожидать. Но кто же наряду с правыми подавал свой голос против равноправия евреев и женщин? В Технологическом институте антисемитами заявили себя социал-демократы (4%), социал-революционеры (11,3%), конституционные демократы (31,4%), неопределенно-левые (24,8%), анархисты (6,7%). («Безразлично» отнеслись соответственно в процентах: 6 — 7,3 — 11,6 — 6,9 — 3,4.) Против женского равноправия высказались: 1,7% социал-демократов, 3,9% социал-революционеров, 23,1% конституционных демократов, 15% неопределенно-левых, 3,4% анархистов. («Безразлично» соответственно: 4,3 — 1,6 — 8,7 — 4 — 6,7.) В Юрьевском университете против равноправия женщин высказались 10% с.д. и 36% к.д. «Какой же это кадет, — восклицал тогда д-р Никольский в своем докладе, прочитанном в Технологическом институте, — если он себя выставляет антисемитом!» Предоставляем дать ответ студенту Левченко, автору первой статьи, направленной (см. «Русскую Мысль») против левой молодежи. Что же касается левых, то их голоса убеждали лишний раз, насколько важно не то, что молодежь говорила о себе, сколько то, чем она была на самом деле.
Но мало того. Во власти социальных причин находится молодежь и по другим основаниям. Мимо школы катятся теперь волны политической жизни. «Дети» уступили дорогу «отцам». Ведь как ни оценивать «обновленный» строй, одного нельзя отнять. Он создал представительные учреждения, политические партии, общественное мнение, то, о чем общество в годы студенческого подъема и мечтать не могло. До 1905 г. были реальные данные для участия молодежи в общественно-политической жизни страны уже потому, что общество было аполитично. Теперь события выдвинули на арену общественной Жизни силы, рядом с которыми удельный вес студента ничтожен. Студент-идеолог, «понявший смысл исторического Движения», в эпоху расцвета марксизма тяготел к рабочему Классу, который, в самом деле, в то время шел навстречу своим Руководителям. Теперь же пролетариат стал на ноги, и его вступления, в свою очередь, дифференцируют и старую, и Молодую интеллигенцию. Прошло время интеллигентского Идеализма, имевшего свои корни в невыявленных противоречиях. Пролетариат вьщвинул собственную интеллигенцию. А
444
445
вместе
с тем оборвалась нить, соединявшая
студента с рабочим Говорят, политический
уровень студенчества понизила реакция
Бесспорно,- пока общие вопросы заполняли
общественную жизнь, к ним прислушивалась
и высшая школа. Общие вопросы отошли
на задний план, выплыл на поверхность
шкурный интерес, и в студенческой среде
забота о хлебе насущн0Л1
отодвигает
политическую жизнь. Давление реакции
еще серь, езнее снизу, чем сверху. Но,
повторяю, и конъюнктура видоизменилась.
Борьба перешла к политическим партиям,
в них-то и место студенту-гражданину,
выходящему из рамок школы.
И вот привычка жить старыми лозунгами притупляется. Прежде "всего это сказалось на судьбе совета старост, органа возникшего в бурную эпоху, когда центр тяжести студенческой жизни сосредоточивался на общих вопросах, все же другие функции отодвигались на задний план. Поток студенческих
, интересов отхлынул от популярного органа^ как только «села на мель» памятная забастовка 1908 г. Число голосовавших за забастовку еще было значительно. Так, в Петербургском университете оно составляло 2398 (против 77), в Московском — 2148 (против 548), в Политехническом институте — 1176 (против 533), в женском Медицинском — 660 (против 47), в Лесном — 206 (против 26) и т.д. Но поток уже переменил русло, и совет
t не только политически, но и психологически не отвечал духу времени. И он умер. Где его не разрушила рука министерства, там он почил.волею студентов. Пробовали 300 — 400 человек снова поднять его на своих волнах в Петербургском университете, но оказалось, что они защищают то, в чем студенчество не нуждается. В Политехническом институте совет старост сам сложил свои полномочия, как и в Электротехническом, Психоневрологическом институтах, в Московском университете и т.д.
Дело не в совете, а в том, что стояло за ним: выявилась та картина, которую дают анкеты, посвященные душевным переживаниям молодежи. По данным 1903-1905 гг., из числа 2000 самоубийств, имевших место в России, только 400 падало на долю студентов и курсисток. В последние же годы число студенческих самоубийств дошло уже до половины общего их числа. За 5 месяцев спокойного 1909 г. было столько случаев (64), сколько за 2 года беспокойных (1904 и 1905). Не в политическом ли сдвиге — причины юношеской драмы? Д" р Радин, по инициативе которого был предпринят в высших учебных заведениях Петербурга анкетный опрос о душевном настроении молодежи, в итоге всего подсчета пришел к заключению, что общественные факторы значительно преобладают над личными. Общественные факторы превышают 7з> личные не достигают У3. Очевидно, психологические причины
индифферентизма, разочарованности, самоубийств молодежи немаловажны. Но ведь и прежде были неудачники, нытики, неврастеники в среде студенчества; и прежде наследственность, болезнь, случай делали свое дело. Теперь же, по существу, эта психология наполовину сводится к нарушению той связи, которая была и которой уже нет. Пусть старые заветы были наивны, неглубоки — но скольких юнцов они спасли от одиночества, от «потери веры», столь трагичной в этом возрасте. Когда рубили «молодой, зеленый лес», сосны старые молчали, понурившись угрюмо. Не было ни парламента, ни массового подъема. Но была «вера», которая более или менее деятельна в самой себе. Был «психоз внушения», исходивший из разных источников, ближайшим же образом — из властной, располагавшей идейными и моральными ресурсами группы. А теперь какое значение имеют сходки не только в одном, но даже во всех учебных заведениях, резолюции, которые реальной, действительной цены не имеют!
Разобщенность — враг общественного самоопределения, но нередко одно принимается за другое. Именно так вышло с молодежью, когда померкли «старые, простые, определявшие весь мир идеалы». В глазах мелькало только отрицание.
«Не общественное самоуправление угрожает в настоящее время студенчеству, — писал «Голос студенчества», — а общественная спячка и апатия». Беда — в «новом студенчестве», которому французская борьба заменяет политическую, Санин, Вейнингер, а то и театральное либретто — Маркса и Михайловского. ... «...Ему ни до каких идеалов дела нет. Форма его организованного действия — билетная лотерея у кассы Большого театра. Лучшим из них Вяч.Иванов разрешает социальные вопросы, О.Уайльд, «Аполлон», писание стихов и любительские спектакли дают смысл личного существования, и отметки «весьма» в экзаменационной книжке фальсифицируют знание». Так писали в 1910 г. Бесспорно, и 1912 год давал материал Перепевам о том, что «молодежь» «пала», «кончена». Так, на Хенских курсах под протестом против дела Бейлиса собрано было 10 подписей, а в это время приехавшему в Москву Максу Линдеру устроена была овация. Когда же в стенах «успокоенного» университета английские гости позволили себе преподать пошлые советы молодежи, молодежь «смотрела им в Рот».
Пришествие мещанства с его типичными свойствами — самодовольством, эгоизмом, плевками в адрес общих интересов — того самого, которое в прежнее время отрекалось от
446
447

старого
мира, заражалось стихией общественности,
— слишксцц давало о себе знать, чтобы
не скрыть всю перспективу.
Ведь махровые цветы распада родились в кошмарную ночь когда поднял голову беспринципный индивидуализм и g обществе, и в' рядах интеллигенции, и отрицательные стороны предшествовали положительным. Старое рушилось, таяло, ка^ дым, а новое созидалось по песчинке, по крупинке. Однако теперь, когда мертвая точка перейдена, не подлежит сомнению; молодежь отошла на «задворки общественной жизни», но не «кончена». «Кончена» старая интеллигенция, старая молодежь...
Во-первых, политическая действительность не может «ус-покоить» страну, акклиматизировать элементы реакции. Слишком много в академической жизни моментов, способных перевернуть вверх дном университетскую жизнь, ибо замуровать студенчество,, изолировать от политических отливов и приливов нельзя. Но — помимо того — о движении назад не может быть речи.
Все, что мы видим в современном обществе, убеждает нас в том, что рост дифференциации неизбежно влечет за собой процесс самоопределения. Можно недосмотреть, недооценить, уклониться от общих условий в сторону индивидуальных переживаний. Но перепрыгивать через то, что есть положительного в явлении, нельзя. Пусть переход от более простого к более сложному не может не быть болезненным, не изобиловать тем, что в такой степени уронило в наших глазах когда-то столь цветущую, богатую жизнью часть интеллигенции. Но умейте же двигаться в истинных границах. Умейте показать не только отрицательные, но и положительные отличия новой молодежи.
Студенчество пережило в малом масштабе то, что общество пережило в большом. Однако решится ли кто утверждать, что общество жило более содержательной, более созидательной жизнью до событий, показавших ему его настоящее лицо? Нет, каков бы ни был маразм, пережитый недавно, русское «общество» жить с 190S г. и начало, если под жизнью понимать сознательное воссоздание ценностей — моральных, интеллектуальных, политических. Точно так же и студенчество. Оно переступило рубеж, отделяющий нашу эпоху от той, защищенным не лучше, чем общество, чем интеллигенция. Чем оно располагало в своем единстве? Лозунгом внешним, лозунгом внутренним было: магическая «свобода». Почему свобода? Какая свобода? Уже в то время марксизм бередил умы, и ответов получалось столько, сколько было мировоззрений. Однако какой бы ни была теория, все животворило, у всех на устах было одно: «Я — личность, я — гражданин, я должен бороться с0 всеми». Только потом в студенческую среду ворвались разногласия и диссонансы, выкристаллизовалась оценка «свободы»'
положительная и отрицательная. Именно студенческий кризис вскрыл ее основные интимные черты. И вот — глубокие внутренние переживания. Пока плавятся остатки прежнего, возникает новая психология. Мысль работает, ищет выходов И решений в научных кружках, в экономических организациях, изживая прошлое, молодая интеллигенция учится жить своим умом, ничему не доверяя. Первый показатель внутренних процессов — студенческая пресса. Кроме ряда органов общестуденческой прессы, почти у всех учебных заведений есть свои периодические издания. Затем актуальный интерес к вопросам экономического устроения — новых форм экономических организаций, с одной стороны, и к научной подготовке, прочному мышлению — с другой. Конечно, многое находится в стадии созревания, но уже того, что мы видим, достаточно, чтобы убедиться: скрытые процессы вышли наружу.
Помните андреевского студента Стамескина, говорящего возвышенные вещи о «молчании храбрых» («Gaudeamus»), или зайцевского Степана, о котором Алеша говорит: «Не моего он романа. Медведь лезет по лесу, сучья трещат... кому-то там хочет добра, а у самого лапы в крови»? Борис Зайцев, конечно, не любит студента-бунтаря прежних лет, как и Федор Сологуб, и можно спорить о том, верно изображение или нет. Но с одним нельзя не согласиться. Внешний враг отвлекал все внимание студенчества от внутреннего, того, который сидел в нем самом, от самого себя. Теперь — наоборот, хотя бы путем ломки прежней психологии, но утверждаются смысл и значение студенческого Я, студенческих интересов как таковых. Это результат дифференциации. Конечно, дифференциация — вещь односторонняя. В основе изменения, совершившегося в облике студенчества, лежат изменения более глубокие — европеизация общества и, быть может, идеалисты вчерашнего дня, пессимисты сегодняшнего правы со своей стороны: не принес ли 1905 год русскому студенчеству того же, что 1848 год — немецкому? Эволюция, пережитая молодежью Германии, Франции, Австрии, Англии, известна. До поры до времени социальный состав студенчества колебался то в сторону состоятельных, то в сторону демократических классов. Но Вот соотношение сил претерпевает метаморфозу,,и социальный состав учащихся делает резкий сдвиг в сторону ярко выраженной буржуазной молодежи; представители же широких сродных масс оказываются за бортом. В этом случае рассло-еНие шло бы вразрез с судьбой элементов наиболее деятельных, Наиболее активных. Был бы налицо тот факт, что связь Молодежи с демократией нарушена. Но то ли мы видим у нас? Причины, так резко изменившие физиономию западного С1Уденчества после 1848 г., сказались и у нас, но все же не
448
3«К. 1822
449
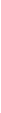
так,
как на Западе. Дифференциация не дала
такого сдвига в высшей школе. Бесспорно,
политика министерства никогда раньше
не была столь ограничительной. Никогда
раньше ре. акционеры так цинично не
кричали, что чистая школа для детей
чистой публики, а не для детей кухарок.
Но одно дело — перст направляющий,
другое — социальные причины и след.
ствия. Очевидно, не наступил еще момент.
До 1905 г. студенчество росло в направлении
усиления демократических элементов. И
о том же свидетельствуют цифры за 1905 г.
Процесс не только не изменил своего
направления, но пошел еще интенсивнее.
Процент прпавших в университет крестьян
возрос с 3,07 в 1900 г. до 4,09 в 1905 г.; процент
мещан — с 9,68 до 10,43, ремесленников — с
1,23 до 2,04. За шестилетие же (1906 — 1911)
процент крестьянства возрос с 6,32 до
10,65 (+ 4,33), процент мещан, ремесленников,
купцов 2 гильдии — с 15,54 до 22,75. В общем
рост демократических элементов составлял
в 1900-1905 гг. 3,43%, в 1906-1911 гг. - 11,54% в
Петербургском университете. К 1 января
1906 г. численность в списках Московского
сельскохозяйственного института
сыновей мещан, цеховых, нижних воинских
чинов, крестьян по отношению к общему
числу студентов — 26,8%; к 1 января 1913 г.
число студентов этой категории уже
переваливает за половину, равняясь
51,9%. Состав студенчества все больше
демократизируется. На Бестужевских
курсах дочерей крестьян — 6,7%, рабочих
— 2,4%. В Технологическом институте —
28,2% мещан, 12,2% крестьян, в Политехническом
— 10% можно отнести к группе представителей
труда физического; в Юрьевском университете
низшие непривилегированные сословия
представлены еще резче. Правда, это
данные анкет. Но каков импульс, данный
демократической молодежи всем пережитым,
импульс к стремлению в высшую школу,
показывает новый тип школы — высшие
сельскохозяйственные школы.
Психоневрологический институт в
Санкт-Петербурге, Вольный университет
имени Шанявского в Москве и т. п., это
истинные бастионы демократизма.
Вот почему крайние левые составляют значительный процент в самые глухие годы. Так, в Юрьевском университете — 12,8% социал-демократов, 18,3% социал-революционеров, 2,5% трудовиков, 2% анархистов; в Технологическом институте 25,3% социал-демократов, 12,4% социал-революционеров, 1,8% трУ" довиков, анархистов 3,6%; в Горном 24,1% социал-демократов, 13,9% социал-революционеров, 2,5% трудовиков, 2% анархис-тов; в Политехническом — 23% социал-демократов, 12,27» социал-революционеров. Вообще оппозиционно настроенных Юрьевском университете — 77,9%, в Технологическом — 72,у?°\ в Горном — 64,9%, в Политехническом — 63,7%; посещают11*
450
сходки в Технологическом — 70,2% (не посещают 28,9%), на рестужевских курсах — 60%.
Очевидно, ссылаться на историю университетов на Западе — значит отвечать наполовину. Студенчество идет к тому, чем должно быть по существу в буржуазной стране. Все рельефнее рЫДеляется студент-обыватель, филистер-бурш, поющий гимн торжествующему мещанству, — здравомыслящая, трезвая, сытая масса. Однако это лишь тенденция. Коснувшись современного студенчества, дифференциация отделила и демократическое ядро, которое так легко выбить. Нет такой силы, которая могла бы сломить молодой демократический дух, и годы распада были своего рода годами созидания. Демократическому студенчеству стало тесно в подпольных землячествах, в подпольных кружках. И вот перед нами современный фазис движения — студенческий профессионализм.
V
Студенческий профессионализм развивался в реальных, слишком реальных условиях для того, чтобы вопрос о нем мог быть обсужден вне этих условий. Только определив условия, в которых строилось старое, строилось новое, можно сказать, насколько профессионализм наполнен содержанием, а насколько — нет.
Ведь до 1905 г. часть студенчества, наиболее заинтересованная в улучшении своего быта, даже этого рода задачи преследовать не могла. Не было той энергии, деловитости, практической выдержки, которые проявляют студенты в кассе взаимопомощи, в научном кружке, в землячестве, — уже потому, что открытой кассы, открытого кружка, открытого землячества быть не могло. Загляните теперь в такую организацию. Если вы «потомок», то не поверите, что вся эта сложная бухгалтерско-коммерческая система управляется студентами.
Еще в 1908 г. было зарегистрировано 134 землячества, из к°торых 62 состояли из 1581 студента; общий же годовой доход Равнялся 20 517 руб., по 466 руб. на землячество. Но зем-^еские организации — организации прошлого, а это мешает ^ стать на твердую базу, им, пережившим критический ^Релом. Старые организации отодвигают на задний план" ^°вые. Цельность кассы взаимопомощи студентов Санкт-Пе-
ербургского Политехнического института, сила влияния, Г^Рота ее деятельности оставляют позади все землячества,
^есте взятые. Так, выдано ссуд ею в 1909/10 учебном году — <;U18,63, в 1910/11 г. - 5004,54, в 1911/12 г. - 8349,77 (+ 3345,73).
is.
Ответственно доходы составили: 9518 — 9955 — 14511. Один
451
мерческом
институте собрания нескольких землячеств
не быдц разрешены даже в порядке правил
4-го марта. Ни одна
организация
не чувствует себя твердо, прочно,
поскольку ее деятельность" окружена
опекой, недоверием, а малейший повод
вызывает вмешательство.
Так обстоит дело при либеральной профессуре. Изменись же соотношение сил, получи преобладание правые над левыми — что тогда? В Одесском, Варшавском, Казанском и прочих университетах совет профессоров не терпел студенческого общества, студенческого кружка как «привычек революцион. нопг времени». И их не было, ибо «хозяевами университета являемся мы», как сказал когда-то студентам г.Мануилов. Раньше полиция являлась по собственной инициативе, теперь по инициативе ректоров, директоров и профессоров.
Итак, профессора в университетах возложили на себя ту роль, которую прежде играло министерство. Но чьей долголетней борьбе обязана своим существованием автономия высшей школы? Стесняя студенческие организации, игнорируя проявления студенческого представительства, не питается ли профессура плодами с того дерева, которое взращено студенчеством?
И вот наряду с экономикой студенческий профессионализм вступает в новую фазу — в фазу борьбы с профессурой. Студенчество проявляет все больше и больше интереса к своему юридическому положению. Конечно, это опять-таки «академизм». В минувшем 1913 г. студенческие выступления, скажем, можно было разбить на три группы: 1) чисто политические, 2) выступления, возникшие на академической почве, но носящие политическую окраску, и 3) чисто экономические. Но не подлежит сомнению, что по широте, по энергии протеста группы вторую и третью нельзя и сравнивать с первой. В то время как далеко не все высшие учебные заведения откликнулись на попытку воскресить средневековую легенду в деле Бейлиса, трагедия военно-медицинской академии вызвала столь дружный отклик от Петербурга до Томска, что по подсчету «Утра жизни», органа студентов-марксистов, получилась внушительная цифра — 100000 протестовавших. Но так и должно быть. Преобладающая масса ведь все-таки — «здоровая, годная», которая отошла от «бесплодных выступлений» для того» чтобы заняться отношениями академическими. Правда, эта масса вяло плетется за либерализмом. В моменты, когда «гегемония» остается, как и раньше, за крайней левой-либерализм не может не расплываться в глазах самих либералов. Вот что, например, пишет либеральный «Голос Политехника» о профессорах-либералах: «Быть либералом от пр°* фессуры — значит заочно иметь диплом на почет и уважеяИ^ со стороны широких кругов общества; в жертву этой обШе^ твенной карьере может быть принесена выцветшая при к°я"
454
ституционной карьере табель о рангах. Но, к счастью либеральных профессоров, табель о рангах чаще всего прилагается К диплому либерализма». Однако корни академизма целы ... Это настолько же символ веры буржуазной молодежи, насколько положение «автономная школа возможна в автономной стране» есть символ веры другой части, демократической, которая выходит из рамок академизма.
...Синтез экономизма с общественностью, академизма с общими причинами и задачами нужен демократической мо-додежи. Сын народа интенсивнее стремится к вне- и неуниверситетской жизни, чем сын буржуя. Последний, вступая в экономическую организацию, в академический кружок, замыкается в скорлупку с ее правами, с ее суждениями, студент же демократ считает себя членом этой организации, этого кружка, но еще того более — гражданином страны, которого ждут и вне университета.
VI
Да, интеллигенция не добилась еще свобод, столь ей нужных. Поэтому — пусть потеряно инициативное начало, которое жизнь перенесла в другие места, — будущее все же есть. Насколько это так, показывает и идейная эволюция молодежи. Реакция резче всего, кажется, затронула именно идеологию. В то время как интеллигенция, «поумневшая» и не «поумневшая», красилась в цвета декадентства, мистики, а авансцену литературы занимали сатириконцы, эротоманы, упадочники, и в рядах молодежи безвременье делало свое дело. Еще два года назад индивидуалисты, согласно анкетному опросу о душевном настроении, на 4% превосходили коллективистов. «Особенно я оживился и стал жизнерадостным, прочтя Санина»; «Культ смерти и упадочность настроения люблю больше других, так как они гармонируют с моим настроением», — писали юноши, еЩе вчера убежденные в том, что не к смерти, а к жизни надо звать, что индивидуализм вырождается в передоновщину. Если же 27% дарили свои симпатии эротике современной литературы, то не уступал ей и туман мистицизма. Как раз в то время и выплывает вопрос о религиозных настроениях. Прежнее, дореволюционное студенчество было сплошь атеис-тично. Теперь же в мистике ищет успокоения душа, уставшая °т политики, от общественности. Правда, цифры анкет не так ^Р^рноречивы. Так, в Политехническом институте атеистов 7°%, в Юрьевском университете — 40%, в Технологическом институте — 46% и т.д. Но тем характернее христианские
^Денческие кружки, как раз в это время пережившие дни ?асЦвета, кружки, в которых все хотя бы отдаленным образом
доминающее о прошлом встречало решительный, недвусмыс-
455
ленный
отпор. Словом, все то же, что внутри
общества, в
рядах
интеллигенции, но в своем масштабе.
Правда, это прежде всего студенты-мещане, по духу, ц0 взглядам близкие индивидуалистической литературе. Но в том. то и дело: прежде всего. Цифры не оставляют сомнения в том, что не одну мещанскую молодежь задела реакция. Вот процент левых технологов, в то же время мистиков: социл-демократы — 17, социал-революционеры — 29, анархисты -^ 34. Беспартийные — наполовину, кадеты — наполовину...
Демократия, быть может, презирала, даже ненавидела дух упадочничества, но в то же время не находила сил, чтобы устоять против него. Однако уже в те же годы начинается другая работа, активная, научно-творческая работа кружков. Индифферентизм прежней молодежи к «науке» известен хорошо. Поступив в - университет, студент тотчас охладевал к регулярным занятиям, ибо занятия сливались с официальной программой. Недаром доказано, что научно-образовательный путь — это прежде всего путь самообразования. Молодежь же учили, но не давали учиться. Другое дело — самодеятельность, развернувшаяся в научных кружках и обществах, выросших, как грибы после дождя. Конечно, отдельным, разрозненным, бесправным кружкам трудно бороться с теми препятствиями, которые так рассеяны по пути «автономии». Ведь нередко научная организация не имеет помещения для своих работ. Дело же — само по себе новое, сложное. Вот почему кружки то и дело гибли, налаживались туго. Однако одно не подлежало сомнению: то чувство, которое владело членами самодеятельных, свободно располагающих научными силами кружков. Экономическая организация обеспечивала доступ в школу, образовательная — творческий дух ее. Началась борьба двух методов: практического с лекционным. Одно дело — научный обязательный семинар, другое — кружок, созданный свободной инициативой, свободными работниками с собственными научными интересами. Вот кружок философский: технологи изучают Канта, Маха, Соловьева. Вот кружок универсантов, устраивающих анкетные опросы, сообщающих статистические сведения по вопросам большой важности. Вот литературный кружок политехников, посвящающих свои вечера Чехову, Андрееву, «Вехам». Вот кружок по изучению Н.К.Михайловского и ПЛЛаврова. Группа немногочисленная, но увеличить число и активность членов — дело пропаганды-«Читатель, знаете ли вы лозунг "правда-истина и правда-справедливость"? — пишет член кружка. — Вы его_ слышали много раз. Вы чувствовали, что с этим принципом нужн° сообразовывать все свои действия и помыслы. И тем не мене с автором этой искренней мысли вы мало знакомы. Что * нужно делать нам, молодежи, для близкого знакомства
корифеями? Нужно организовываться, сходиться с товарищами для обмена мыслями, для жарких споров, споров до третьих петухов, как некогда спорили Лаврецкий и Михалевич». Согласитесь, у прежней молодежи этого быть не могло. Правда, общественно-философские интересы прежде стояли очень высоко. В период 1904-1905 гг. в кружках самообразования даже велись практические занятия. Кружки множились с каждым днем. Но все же это были кружки подпольные, в которых так спешили от изучения прошлого к творчеству будущего. И вот результат. В то время как цель воспитания людей с широким кругозором все более заменяется чисто практической задачей подготовки специалистов, техников, ремесленников, молодежь приобретает знания, необходимые для выработки того, что называется миросозерцанием. Быть может, самое общее, что еще объединяет студенчество, столь разнородное в частях, связано с любовью к науке. Правда, именно одновременно с тем как лучшие силы, наиболее опытные в общественных делах, отходят в сторону от общестуденческих задач, внимание сосредоточивается на интересах кружков. Центр тяжести переносился именно с общественности на научные общества. Но таковы уж были сами по себе эти годы. Студенчество не рвалось к народу, не увлекалось равенством и свободой, но, без сомнения, училось. Вот, например, количество кружков, легализовывавшихся из года в год в Петровской академии: в 1907 г. — 4 организации, в 1908 — 9, в 1909 - 6, в 1910 - 11, в 1911 - 9, в 1912 - 6 и т.д.
Теперь цветы декадентства, упадочничества завяли, веет новая жизнь. Насколько же «индивидуализм» демократического студенчества был глубок, а работа в кружках, научных обществах — чревата последствиями? В студенческой прессе корреспонденты высших школ решительно констатируют: «отошла медовая пора арцыбашевского Санина»; «всякое значение утратили» и «мистические анархисты», и «просто мистики», и «призыв к тлену, к смерти-искупительнице». «Огромный успех лозунгов, выдвинутых группой молодых с И.Буниным и В.Вересаевым во главе» («ничего антижизненного») — вот что Уже волнует демократическую молодежь.
В самом деле, заведующий библиотекой Киевского политехнического института, отмечая подъем интереса к книге, Указывает на то, что сочинения Л.Толстого, занимавшие третье Место в прошедшем 1911/12 учебном году, в 1912/13 г. заняли Первое место. Вслед за Толстым идет Евг.Чириков с его «Юностью». Вербицкая, как видно из таблицы читаемости, 3аНяла весьма и весьма скромное место. Характерно, что в ^иге требований, в которой встречаются требования даже ььгписки «Земщины», нет ни одного запроса на произведения йербицкой. Громадный спрос на «Русское Богатство», на
456
457
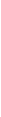
«Современный
Мир». Словом, на смену литературной
«нечисти» идет литература, утверждающая
жизнь.
Академизм, академическая самодеятельность, бесспорно понизила общественно-философские интересы, выдвинув на первый план беллетристику, затем специально-техническую литературу. В 1909 г. среди технологов читали беллетристику 80%, технические книги — 39,1%, общественные — 29,3%, философские — 23,9%. У юрьевского студенчества на первом месте была беллетристика (522), далее общественные науки (469), естествознание (369), философия (208). 1910 год значительно передвинул центр тяжести в сторону специальных интересов. Правда, анкеты показывают, что менее всего этой эволюции поддавались демократические элементы. Так, например, в Технологическом институте читали:
|
|
С-д. |
С.-р. |
К.-д. |
Анархисты |
Октябристы |
|
Беллетристику |
82 |
78 |
83 |
63 |
78 |
|
Философию |
30 |
28 |
19 |
44 |
9 |
|
Общественные |
|
|
|
|
|
|
науки |
38 |
40 |
25 |
40 |
17 |
|
Техническую |
|
|
|
|
|
|
литературу |
29 |
37 |
40 |
30 |
48 |
Таким образом, техническая литература (не4 говоря о беллетристике) на первом месте у буржуазной молодежи, на последнем — у демократической. Однако и здесь общественно-философская книга отступала. Теперь наблюдатели студенческой жизни отмечают обратное. Правда, данные, имеющиеся в нашем распоряжении, относятся к черным годам. Поворота не учла (и не скоро учтет) ни одна анкета. Но все, что нам удалось подметить, начиная с диспутов, , происходящих в Психоневрологическом институте, и кончая данными книжного рынка, говорит о том, что это так.
Бурные годы дали огромный толчок идейно-психологическому расслоению студенчества. Классовые интересы, классовые противоречия обнажились. Но вместе с тем Карфаген еще не разрушен, идет еще сказочный рост демократии. И пусть эпоха контрреволюции дала экономизм, академизм, «трезвые» взгляды, «мелкие дела», пусть буржуазные элементы окончательно погрузились в безыдейное мещанство, все же уже строятся ряды, численно небольшие, но зато идейно сплоченные, — ряды демократического студенчества.
Это студенчество сыграло свою роль в прошлом, но уже ясен и тот путь, по которому оно пойдет. Это путь нового подъема, нового раскрепощения страны. Вы спросите: как далеко студенчество пойдет по этому пути, пути последовательной демократии? Но это уже область ' будущего.
458
Корф Н.А.
О СВЯЗИ ВОЕННЫХ НАУК * С ОБЩЕСТВЕННЫМИ:
НАУКИ СОЦИАЛЬНЫЕ1
&;■■ ".'..,
Социология, ее современное положение
Переходя к другой группе наук — общественных в узком смысле, — надо прежде всего остановиться на основной среди них, а именно на социологии, или науке об общественных группах. Наука эта очень молодая и неустановившаяся, вследствие чего здесь царит порядочный хаос. Не только идут еще споры о содержании этой науки и даже о предмете ее ведения, но и само существование ее порой совершенно отрицается. Тем не менее за последние годы появилось несколько замечательных трудов по социологии, которые не только окончательно устанавливают ее необходимость как науки, но и дают возможность разобраться в ее предмете и содержании.
Социология в широком смысле
Весьма много споров, отнимающих столько времени и сил у социологов, можно прекратить разделением социологии, подобно стратегии, на социологию в узком, и социологию в широком смыслах. Последняя определена у Ванни следующим образом: "Социология должна быть синтезом всех социальных наук и вместе с тем — введением и пропедевтикой к этим наукам; она должна быть синтетической наукой об обществе, относящейся к отдельным социальным наукам так же, как биология относится к отдельным наукам, имеющим своим предметом специальные органические явления. И так как она ставит себе целью объединение самых общих результатов специальных общественных наук (политической экономии, политики, юриспруденции, этики и т.д.), то ее можно рассматривать как философию этих наук".
Чтобы дать представление о явлениях, исследуемых столь Широко понимаемой социологией, приведем их классификацию, даваемую Грефом2.
'Часть главы из кн.: Корф Н.А. Общее введение в стратегию, понимаемую в обширном смысле. СПб., 1897.
гСм.:виШаите de Greef. Introduction a la Sociologie. I partie. P. 214. а нашем ИзЛоэкснии опущены подробности его классификации.
459
Естественная
иерархическая классификация социальных
явлений
Основание: элементарные неорганические и органические факторы — территория и население.
Явления экономические: производство, потребление, обращение.
Явления генезические1: семья, брак, любовь.
Явления, относящиеся к искусствам: изящные искусства, ре_ месленные искусства.
Явления, относящиеся к верованиям: положительным, метафизическим, религиозным.
Явления духовные: мораль, обычаи, нравы.
Явления юридические.
7. Явления политические: политика внутренняя и внешняя. Несмотря на обвинение Ванни Гумпловичем в том, что
"взгляд его изложен в крайне общих выражениях"2, нам кажется, что предмет социологии вполне ясен, в особенности, если сопоставить классификацию Грефа с данным выше определением этой науки. Быть может, указываемая Гумпловичем неясность происходит от отсутствия подразделения социологии на понимаемую в широком и узком смыслах; но нам, военным, которые уже привыкли к такому подразделению стратегии, заключение о предмете каждой из обеих социологии должно быть понятнее. Действительно, как видно, определение Ванни почти совпадает с определением стратегии генералом Леером; что же касается ближайшего выяснения содержания последней, то ему посвящена значительная часть этого введения. Поэтому, не останавливаясь долее на выводах, которые могут быть легко сделаны самим читателем из сходства (по аналогии) стратегии и социологии, понимаемых в широком смысле, мы перейдем теперь прямо к социологии, понимаемой в узком смысле.
Социология в узком смысле
Обширнейший ряд споров о ее предмете заставляет нас привести довольно длинную выписку из сочинения Гумпло-вича3, у которого, кажется, взгляд на нее выяснен наиболее обстоятельно. "Предмет социологии, — говорит он, — составляет система движений социальных групп4". Содержание
'Т.е. связанные с рождением (от греч. genesis — "возникновение, зарождение") — Ред.
7Гумплович Л. Социология и политика. С. 113.
3Там же. С. 52, 64, 65, 66, 68, 79.
4Эти социальные группы надо понимать весьма широко, начиная с семья. племени и т.д. и включая современные группы, как то: государства, различные классы общества, товарищества, ассоциации людей и т.п.
ее разделяется на две части, которые можно назвать статикой И динамикой обществ. "Первая содержит описание наличных или прежде существовавших социальных групп, или сообществ, их взаимные и, если можно так выразиться, пространственные отношения". "Эта социальная статика исследует причины расчленения общества на отдельные группы, отношения отдельных групп к входящим в их состав личностям, большую или меньшую степень сцепления внутри этих групп или, что то же самое, большую или меньшую степень ограничения отдельной воли, общую тенденцию общественного соединения, большую или меньшую степень влияния последнего на добрую волю сочленов и т.д. Динамическая социология имеет дело с законами эволюции социальных групп, их естественными стремлениями и вытекающими отсюда взаимодействиями групп, из каковых получается социальныя эволюция, т.е. эволюция каждой отдельной группы и данной их совокупности".
"Общественная жизнь является лишь одной из сторон естественно-исторической жизни человечества. Исключительно этой стороной общественной жизни человечества занимается социология и пытается найти эти в точном смысле слова социальные законы". "Главное внимание социологии должно быть обращено на (эти) социальные группы, на исследование их происхождения, развития, их свойств и природы, их деятельности и взаимных отношений. Далее, социологии предстоит выяснить специальный вопрос — как из отношений различных социальных групп, из их столкновений и взаимодействий развивается целый ряд тех социально-психических явлений, которые мы приписываем обыкновенно свободному творчеству человеческого духа, как-то: язык, религия, право, государство со всеми его организациями и т.п."
"В конце концов, задача социологии — изучение того, как возникают различные цивилизации из везде существующих многочисленных разнородных социальных групп, подчиненных — в своих естественно необходимых стремлениях и движениях — высшему социальному закону в силу участия различных социально-психических факторов, изменяющихся в зависимости от места и времени, — цивилизации, вступающие опять в те же отношения, в каких находятся разнородные социальные элементы, при начале процесса развития, так что процесс этот никогда не останавливается, постоянно достигает более высоких форм, постоянно совершенствуется благодаря содействию растущих качественно и количественно социально-Психических факторов — или переходит в процесс социального Разложения, закончившись в данном месте и в данное время"
.Vfl ±:ЩЩ
460
т

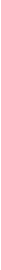
Значение
социологии
Надеемся, • что длинная выписка, изложенная к тому ^се техническим языком, извинительна ввиду большого значения которое она имеет для выяснения не только запутанного вопроса о предмете социологии, но также и приложения последней к теории военного дела. Связь эта чрезвычайно велика: почти все, что мы привели выше о социологии, может быть целиком перенесено на почву исследования с военной точки зрения. А именно, в это исследование войдет изучение влияния на войну:
расчленения обществ на отдельные группы, как, например, при "феодальном устройстве Средних веков;
влияния причин подобных расчленений — географических, исторических и других, например, влияния на войну причин, сделавших современные Германию и Францию столь разнородными государствами, несмотря на почти тождественное устройство их в Средние века;
влияния на войну отношений отдельных групп к входящим в их состав личностям, например, влияния народности, общины, семьи, на комплектование вооруженных сил вообще и при существовании воинской повинности в частности;
влияния общей тенденции общественного соединения (например, борьба за свободу в 1813 г., в Абиссинии — в 1895— 1896 гг., тенденция Северо-Американских Соединенных Штатов, выразившаяся в изречении "Америка для американцев", и т.п.);
влияния общественного соединения на добрую волю сочленов. Как на примеры укажем на секты, возбраняющие ношение оружия, на патриотизм, на подъем народного духа при войне, симпатичной народу, и т.п.
Все сказанное относится к социальной статике. Из динамической социологии отметим:
исследование влияния на войну естественных стремлений социальных групп. К числу их могут быть отнесены так называемые "исторические цели" народов; колонизаторские и всемирно-коммерческие склонности Англии, поступательное движение России на восток и к Босфору. Сюда же войдет исследование значения бывших стремлений tiers etat1 во Франции, значения рабочего вопроса ныне в Западной Европе и т.п.;
исследование значения взаимодействия групп, вытекающего из их стремлений, например, господства "римских граждан" и многих народов-завоевателей, их отношений к покоренным и т.п.;
'Третьего сословия (франц.).
462
— вообще исследование значения для военного дела "происхождения, развития, свойств и природы" социальных групп, "их деятельности и взаимных отношений"; далее, значение для войны проистекающих отсюда социально-духовных факторов — религии, права, нравствености, государственного устройства и т.п.; наконец, значение различного вида цивилизаций, их взаимных отношений, их совершенствования и упадка.
Задача трудная, поле деятельности — громадное! И оно увеличивается еще более, если принять во внимание социологию в широком смысле, потому что она так же должна иметь значение для теории военного дела, как и сводка всех отдельных социологических исследований.
Военная социология
Обширность всей этой области, с одной стороны, а с другой — совершенное несходство рассматриваемых здесь явлений с явлениями, исследуемыми в прочих военных науках, позволяют предположить необходимость новой отрасли теории, которая занялась бы специально изучением социальных явлений с военной точки зрения. Такая наука о военно-социальных явлениях по аналогии с военной психологией может быть названа военной социологией.
Несмотря на современную манию одним росчерком пера "творить новые науки" при всяком удобном и неудобном случае мы, кажется, не следовали ей, стараясь показать необходимость военной социологии. Действительно, чтобы обосновать возникновение новой науки, недостаточно только дать ей имя, а необходимо еще привести два рода доказательств:
что предметы прочих наук не составляют ее предмета и
что предмет ее действительно вполне самостоятелен или рассматривается в этой науке с совершенно новой и нигде не применяемой точки зрения.
Внимательно просматривая содержание всех прочих военных наук, мы увидим, что ни одна из них не занимается военно-социальными явлениями1; лишь низшая стратегия иной раз Пыталась прихватить немного из этой области2; но и это вполне объясняется ее неуместным стремлением стать универсальной военной наукой. Из этого можно заключить, что предмет военной социологии является вполне самостоятельным. К тому *е если предмет социологии уже представляет собой нечто отличное от предмета всех прочих наук, то предмет военной
'Кроме военных истории и статистики; но это — исключения только Кажущиеся, как мы попытаемся показать ниже.
2См., например, слова Клаузевица о поднятии духа всей нации. Впрочем, Это все больше лишь намеки.
463
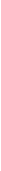

социологии
— тем паче,
так как в ней будут исследоваться не
только особые явления, но и с совершенно
особой — воен. ной — точки зрения.
Что же касается второго доказательства, то из краткого перечня явлений, исследуемых военной социологией, сразу видно, что она не рассматривает те из них, которые изучаются другими военными науками. Сомнение может появиться лицц, по отношению к тактике и низшей стратегии, так как обе они также рассматривают действия и взаимодействия социальных групп — армий, отрядов и т.п. Но разница чрезвычайно велика: они исследуют действия только особых групп (воору. женных), в особых условиях (боя, похода и отдыха), в ограниченном пространстве (театр войны) и времени (во время неприязненных действий и ближайшего к нему); между тем социология будет исследовать значение и действия всех групп, включая эти особые условия и не включая их, на более обширном пространстве (вся территория воюющих) и уже вовсе не стесняясь временем (иначе немыслимо понятие об эволюции, например). Таким образом, разница эта настолько велика, что нам кажется, что и второе доказательство надо признать убедительным.
Возможность построения военной социологии
Переходя к возможности построения военной социологии, сознаемся, что здесь дело обстоит менее удовлетворительно, чем мы то видели при выяснении возможности другой новой науки — военной психологии. Это сразу станет ясно при сравнении их методов исследования. Той науки, которая могла бы быть весьма полезна своими выводами, т.е. социологии, почти еще не существует; по крайней мере, трудно утверждать, чтобы она давала какие-либо твердые положения. Есть, правда, многие талантливые исследования; но заключения их следует относить, скорее, к личным мнениям авторов, чем к установившимся научным' выводам. Поэтому дедуктивный метод, могущий дать столь плодотворные результаты в военной психологии, в военной социологии пока почти не применим. В отношении индукции также имеется значительное ограничение: здесь опыта может быть еще менее, чем в психологии1» а самонаблюдение (интроспекция) применимо лишь в исключительных случаях. Поэтому от той ветви индукции, которую мы назвали "путем наблюдения", остается почти только одно наблюдение в чистом виде.
Из этого ясно, что другая ветвь индукции, "путь исторический", приобретает в военной социологии не только пер-
'Здесь идет речь о научном опыте; случайный же опыт встречается горазд0 чаще научного: например, все мероприятия правительств.
венствующее, но и совершенно преобладающее значение; и поэтому таким-то путем почти исключительно должны идти все ближайшие исследования в этой интересной области. Правда, выводы могут получиться здесь почти только эмпирические — из-за невозможности обосновать их на не существующих еще данных социологии; но и здесь, как и в военной психологии и по тем же причинам, наличие одних лишь эмпирических выводов не может иметь слишком большого значения для молодой науки.
Чтобы выяснить характер ее, следовало бы сделать попытку показать возможность классификации военно-социальных явлений, как то было сделано по отношению к явлениям военно-духовным. Но там сама область и предметы ведения были более или менее известны и заранее усвоены каждым; между тем как здесь, где в самой социологии существует полный хаос, потребовалось бы предварительно вполне доказательное (по крайней мере по отношению к высказываемому мнению) исследование всего того, что может войти в число явлений, подлежащих изучению военной социологией. А так как подобное исследование не может уместиться в рамках этого труда, то мы вынуждены отказаться от указанной классификации. Да притом здесь даже неуместно было бы входить в большие подробности: целью нашей было лишь показать возможность нарождения новой науки, возможность, до сих пор скрывавшуюся от взоров исследователей отсутствием связи военных наук с общественными; поскольку же возможность эта показана, сами исследования в новой области должны быть предоставлены другим, вполне самостоятельным трудам в этом направлении.
Головин Н.Н.
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ВОЙНЫ1
Науки, изучающей войну не с точки зрения военного искусства, а исследующей ее как особое явление социальной жизни, еще нет
Военная наука как теория военного искусства насчитывает Тысячелетия своего существования. Она представляет собой "°гатый кладезь эмпирическим путем добытых навыков наибо-
j. 'Доклад на XII Международном социологическом конгрессе в Брюсселе ~" августа 1925 г. Публикуется по изданию: Головин Н.Н. О социологическом ^Учении войны//Осведомитель. 1937. № 4. (Издание Русского военно-научного Нс'гитута в Белграде).
464
465


лее
выгодного использования усилий
человеческих масс для успешного ведения
войны. Недаром американский инженер
Тейлор, являющийся отцом «научной
организации производства», по
собственному его признанию, широко
использовал при создании своей теории
выводы германской военной науки.
Однако, замкнутая в кругу военных профессионалов, военная, наука до сей поры еще остается в рамках одной лишь теории военного искусства, или, выражаясь иными словами, она продолжает оставаться только наукой о ведении войны. Это не может не оказывать сковывающего влияния на развитие познания человечеством войны.
Для того чтобы родилась наука 6 войне, требовалось, чтобы изучением войны заинтересовались более широкие научные круги, а не только военные профессионалы.
До мировой войны 1914-1918 гг. среди представителей гражданских наук существовало определенное пренебрежение к изучению войны. Последняя почиталась пережитком варварства и всецело предоставлялась изучению господ военных.
Мировая война 1914-1918 гг. вовлекла в свою орбиту народные массы всего мира. Она не могла не произвести перемен в отношениях общей социальной науки к войне. Даже наиболее пацифистски настроенные научные учреждения начали понимать, что для того, чтобы человечество излечилось от войны, нужно, чтобы сама эта социальная болезнь была хорошо изучена. Во всех разветвлениях науки об обществе идет сейчас детальное изучение процессов, вызванных мировой войной и ей сопутствовавших. Особенное внимание такому изучению уделяется в современных экономических науках, которым еще сейчас приходится считаться с неизжитыми последствиями войны 1914-1918 гг.
Однако до изучения самой войны как особого процесса социальной жизни, еще далеко.
В этом легко убедиться, взяв, например, в обзоре современных социологических теорий, составленных профессором Пити-римом Сорокиным1, главу, озаглавленную «Социологическое объяснение борьбы за существование и социология войны». Вот подзаголовки этой полно и обстоятельно составленной главы: 1. Общая характеристика этой отрасли социологии. 2. Неопределенность понятия «борьба за существование» в биологической и социологической литературе. 3. Виды «борьбы за существование» и их эволюция в истории человечества. Критика. 4. Социальная'роль и последствия войны и борьбы: а) социальный отбор, производимый войной; б) воздействие войны в области физиологии населения; в) влияние войны в области демографии; г) влияние войны на экономическую
'См.: Sorokin P. Contcmproraiy Sociological Theories. New Yoik and London, 1928.
466
жизнь; д) война как средство упрочения социальной солидарности и мира; е) моральные последствия войны; ж) влияние войны на политическую жизнь страны; з) война, революция И реформы; и) война и «внутренняя социальная подвижность» общества; к) война и изменения в общественных мнениях, настроении и поведении; л) влияние войны на науку и искусство. 5. Факторы, вызывающие войну. 6. Общее заключение о «биологической» социологии.
Одного только чтения вышеприведенного оглавления достаточно, чтобы убедиться в том, что социологи направляли до сих пор все свое внимание на изучение роли, которую играет война в жизни человечества, на влияние, которое она оказывает на различные стороны этой жизни, на причины, которые вызывают войну, и на последствия, которые она вызывает.
Я ссылаюсь на указанную главу труда профессора Питирима Сорокина потому, что считаю ее наиболее полным и объективным обзором социологической литературы, касающейся изучения войны. На 480 страницах читатель получает возможность составить верное представление об этой литературе. Чтение самих социологических трактатов может лишь подтвердить главный вывод, который можно сделать: социологи подходят со всех сторон к войне, стремятся изучить все явления, которые ей предшествуют, ее окружают и за ней следуют, и не изучают только одно —- саму войну. А между тем без изучения процессов, составляющих саму войну, нельзя объективно понять те явления, которые происходят на ее периферии.
Поэтому отношение большинства социологов к войне можно уподобить человеку, не решающемуся войти в дом и гуляющему вокруг него.
Несомненно, что на столь печальном положении, в котором оказалось широкое научное изучение войны, сказывается взаимная отчужденность науки общей и науки военной. Военные профессионалы в силу требований, предъявляемых к ним повседневной жизнью, продолжают сосредоточивать все свое внимание на научной разработке «науки о ведении войны». Представители же общей науки не считают нужным приложить специальные усилия для изучения самой войны, т.е. социологии войны. В результате война продолжает по-прежнему оставаться вне социологии.
«Наукой о войне» может быть только «социология войны»:
ее создание необходимо для познания реальностей
социальной жизни
Задачей «науки о войне» является изучение войны как Явления социальной жизни. Следовательно, такая наука должна
467

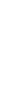

представлять
собою социологическое исследование,
объектом которого будет изучение
процессов и явлений войны с точки зрения
их существования, сосуществования,
сходства и последовательности. Иначе
говоря, наука о войне должна представлять
собою социологию войны.
Казалось бы, не нужно настаивать на том, что нельзя составить правильное синтетическое представление о целом если не знать по крайней мере главные составные части целого'. А между тем подобной ошибкой и является всякая попытка создавать общие теории социальной жизни без подобного анализа самих явлений войны. Одним из результатов такого отношения к войне стало имевшее место до мировой войны засилье в исторических и общественных науках экономического материализма. Сосредоточивая свое научное внимание лишь на процессах социальной жизни в период мира, когда экономические факторы играют более видную роль, многие ученые упускали из виду периоды войн, когда на первый план выдвигаются связанные с вооруженной борьбой глубокие психические процессы.
Как я говорил выше, катаклизм, который пережило человечество в виде войны 1914-1918 гг., пробудил интерес социальных наук к войне. Но до осознания необходимости зарождения социологии войны еще далеко.
Насколько велико еще непонимание настоятельной необходимости изучения войны как особого социального процесса, ярче всего доказывает следующий факт. Вот уже много лет как я проповедую мысль об учреждении хотя бы в одном университете кафедры по «социологии войны». Те немногочисленные отклики, которые пришлось услышать, сами по себе характерны. Признавая необходимость социологического изучения войны, мои корреспонденты обнаруживают непонимание основной мысли, а именно — что для того, чтобы создать социологию войны, нужна колоссальная по объему подготовительная работа. Ни в коем случае вопрос не может быть сведен к составлению одной-двух монографий, а тем более — к выхватыванию наспех разбросанных среди бесчисленных работ по теории военного искусства данных или цифр, чтобы сделать тот или другой скороспелый вывод. Дело в том, чт° вся существовавшая до сих пор военная наука, построенная на ограниченном задании — изучать способы ведения войны, — требует не только радикальной проверки и переоценки данных, но и некоторой перестройки.
ч: ... .■ У,-
■'■'■п ,-«Н.-п**-'.'«• . ...-jitiZ • ■■•■'■■Ж $'Ши:'.
468
Создание социологии войны требует громадной подготовительной работы:
а) по переоценке данных военной истории
Для того чтобы пояснить эту мысль, я процитирую выдержки из работы Жана Нортона Крю1, представляющей собой попытку изучить войну такой, какова она есть, на основании анализа свидетельских показаний непосредственных участников боев. Ж.Н.Крю, бывший до войны профессором в одном из американских университетов (Вилльямс колледж в Массачусетсе), с объявлением войны стал солдатом во французском пехотном полку, в рядах которого сражался до начала 1917 г. То, что он не являлся военным профессором, а был представителем .общей науки, которому воочию пришлось наблюдать войну «снизу», позволило ему в его суждениях о войне подняться над уровнем предрассудков, свойственных военным профессионалам.
«Думали и думают еще, что знают войны, — пишет Ж.Н.Крю, — полагают, что общая история, военная история и стратегические науки дают нам знания о войнах: картина, которая соперничает в точности с политической, социальной, экономической и духовной историей за тот же период. Вот воображение столь же косное, сколь и опасное. Военная история была до сих пор в низшем положении по отношению к другим историям. Она и остается таковой, так как занимается специальными фактами, основанными на свидетельствах летописцев и современных историков, чьи рукописи являются единственными документами, проникнутыми к тому же желанием извратить истину из патриотических, тщеславных или традиционалистских соображений».
«...Наше время гордится научным осознанием; оно хвастается, что ничего не принимает без проверки, оно требует доказательств, исходящих из глубокого и неоспоримого исследования. Не нужно было делать исключений и принимать без проверки традиционные толкования известных человеческих явлений, наблюдаемых и непроверенных».
«...Так, спрашивается, соответствует ли принятое понятие сражения материальным и психологическим данным, наблюдавшимся очевидцами? Существуют ли доказательства? Каковы они? Обладают ли их авторы нужными качествами, чтобы свидетельствовать? Каково доверие к ним? Эти вопросы я Поставил себе, как, вероятно, и многие другие солдаты, когда в 1914 г. жестокий удар грозной реальности войны разрушил Мою теоретическую мысль о действиях и об ощущениях солдата
1Cru J.N. Temoins — Eassais d'analwe Jet' .<}? critique dcs souvenirs de combattants edites en Fran§ais de 1915 я'ЩШШ. *Paris, 1929.
469

в
бою, мысль историческую, которую я
наивно принимал 'за научную...»
...Вот каково то обвинение, которое предъявлено военной истории одним из представителей, если можно так выразиться гражданской науки. Это обвинение заслуживает тем большего внимания, что оно не единичное. Его можно также найти в воспоминаниях и многих других; при этом, что особенно важно, все эти обвинители, так же как и цитируемый Ж.Н.Крю, прошли минувшую войну в качестве простых солдат или в роли младших офицеров. Следовательно, они могли наблюдать явления боя в непосредственной близости. Поэтому их свидетельства о «реальном облике войны» имеют большую ценность, нежели многие описания боевых действий, составленные лицами, находившимися в отдаленных от боевой линии штабах.
То, что эти критики не принадлежат к числу военных профессионалов, тоже чрезвычайно ценно, ибо если им и свойственны ошибки, связанные с непониманием общих сторон боевых явлений, то зато они не связаны с теми традиционными предрассудками, которые особенно сильны в среде военных профессионалов.
Прислушаемся к их голосу, и тогда мы увидим, что они не так уж не правы. Как часто военная история, обслуживая исключительно практическую задачу подготовки к войне данного йарода, отказывалась от полного восстановления истинной картины войны из опасения повредить ведению будущей войны. Классическим примером в этом отношении может служить указание, данное знаменитым Мольтке для составления в подведомственном ему германском генеральном штабе истории войны 1866 г. Это научное исследование должно было служить для подготовки прусской армии к ожидаемой войне с французами. Ввиду того, что многих из высших военачальников, наделавших ошибок в 1866 г. (например, кронпринца), сменить не представлялось возможным, Мольтке, чтобы не подрывать доверия войск к распоряжениям этих начальников в будущей войне, приказал опустить некоторые места описания. «Пишите правду, только правду, но не всю правду» — так сформулировал он свою директиву составителям этой истории войны.
Можно не оспаривать практической правильности решения Мольтке, принимая во внимание цель, которую он преследовал, и те привходящие условия, с которыми он должен был считаться. Тем не менее нельзя не считать, что умалчивание хотя бы части истины отклоняет военную историю с того пути настоящей науки, на который уже вступила общая историческая наука.
Только что приведенный пример интересен в том отношении, что показывает, как конфликт, возникший в военной историй
между требованиями чистой науки и ближайшей практической пользы, был разрешен одним из величайших полководцев и в то же время одним из величайших военных ученых.
От сокрытия части правды всего несколько шагов до создания неправды. В военной истории это выражается в склонности к легендам. Эти легенды творятся бессознательно самими народными массами, стремящимися прославить павших героев, они сочиняются и сознательно отдельными лицами для собственного прославления, наконец, они являются также продуктами политики. За примером ходить недалеко — нужно только внимательно проследить за советской военной литературой. Не надо быть особенно проницательным, чтобы увидеть, что в основе ее лежит «политический заказ» создать красивую легенду о гражданской войне, которая привлекла бы сердца подрастающей русской молодежи к Коммунистической партии.
Как это ни кажется странным, но к числу сил, способствующих искажению истинного облика войны, нужно отнести и пацифистов. Вот что говорит тот же Ж.Н.Крю1, которого ни в коем случае нельзя причислить к шовинистам.
«После окончания войны, даже с 1916 г., пацифизм был хорошо воспринят в среде писателей. Рецептом успеха было представлять эту войну в качестве наиболее кровопролитной и наиболее гнусной. Общество совершает ошибку, веря, что, говоря возможно хуже о войне, действительно служат на пользу миру. Оно забывает спросить себя, точно ли это зло, соответствуют ли ужасы, в которых ее представляют, той действительности, которую мы, воины, переживали. Если бы общество было разумным, оно должно было бы рассуждать таким образом: война есть болезнь человеческого рода, одна из болезней — как чума или желтая лихорадка, от которой себя можно предохранить, можно добиться ее уничтожения на Земном шаре, если будут приняты все необходимые санитарные меры. Каковы же эти меры? Как их открыть, испытать, применить? В познании болезни, в подробностях ее проявлений, ее распространения, в разнесении ее зародышей? Если бы честолюбивый доктор опубликовал работу с претензией на научность или описал воображаемое зло от желтой лихорадки, свойственной ей, наудачу и без исследования, или воображаемые им вредные последствия холеры, чахотки или алкоголизма, — можно ли было бы сказать, что этот исследователь сделал полезное дело? Если бы научные академии Европы, Введенные в заблуждение подобными работами, присудили ему Подобным награды и медали, изменилась ли бы их ценность? Полезность романов Барбуесе и Доргеле, полезность романа
lCru J.N. Temoins — Eassais d'analyse ct de critique dcs souvenirs de ibattants edites en Franjais de 1915 a 1928. Paris, 1929. С 89.
470
471
Ремарка
— . книги, случай которой является еще
более знаменательным, — едва ли более
реальны, чем полезность фантастической
медицинской работы (заметим, что если
в этом сравнении доктор есть мистификатор,
то романисты Барбуссе и Доргеле тем
меньше виноваты в сознательном обмане)».
В результате этой издавна установившейся тенденции к искажению истинного облика войны и создается тот разрыв между, если можно так выразиться, «теоретическим» представлением о бое и теми впечатлениями, которые выносит боец при первом же соприкосновении с реальностями боя. В литературе этот разрыв привел к парадоксам Стендаля и гр.Льва Толстого1. Об этом же разрыве свидетельствуют все мемуары, написанные теми, кто непосредственно дрался на боевых линиях. «О бое мы знали, — записывает в своих воспоминаниях один из таких бойцов-мемуаристов, — только то, что было записано в легендах...»2 Мало кто имел гражданское мужество генерала Модьюи, который в конце 1914 г. громогласно признался: «Нет, я не знал войны». Генерал Модьюи незадолго до войны был одним из самых выдающихся профессоров по общей тактике в Парижской высшей военной школе.
Не лишено интереса, что аналогичное заявление мне пришлось услышать той же осенью 1914г. от одного из выдающихся профессоров по военной истории в Русской высшей военной школе3. Это был генерал Юнаков, лауреат русской академии. Выйдя из первого боя, в котором он участвовал со своей бригадой, он сказал мне при встрече: «Война на деле произносится иначе, нежели пишется».
Как же выйти из того' ложного круга, в который попала военная история?
Я вижу только один путь: создание науки социологии войны, которая, предъявив военно-исторической науке свои требования к правде, только правде и всей правде о войне, выведет ее из рамок обслуживания текущих практических интересов.
б) по постановке специальной вспомогательной науки: «статистики войны»
Если таким окажется воздействие социологии войны на уже тясячелетия существующую историческую отрасль военной науки, то одновременно создание социологии войны вызовет зарождение и новых отраслей знания о войне.
'Сущность «парадокса Стендаля и Льва Толстого» Н.Н.Головин трактует следующим образом: «...сражение понимает тот, кто фактически не видит самой борьбы, а не понимает его как раз тот, кто является непосредственным свидетелем реальностей боя». {Головин Н.Н. Наука о войне. О социологическом изучении войны. Париж, 1938. С. 74.) 7
2Capitanc Rimbault. Propos d'un marmite. Fouraier. Paris, 1920. P. Ш"11
3Императорская Николаевская военная академия.
472
Само собою разумеется, что социология войны должна использовать при своих изысканиях весь тот богатый арсенал методов, который так плодотворно применяется в более развитых социальных науках. Однако возможность применения этих методов к специальной задаче — изучению войны — требует проведения ряда подготовительных работ.
Возьмем для примера такой широко распространенный при исследовании явлений социальной жизни метод, каковым является метод статистический. Просматривая перечисление кафедр военных наук, мы можем увидеть, что в старой Русской Императорской академии существовала в течение полувека до мировой войны кафедра военной статистики. Однако если исследователь заинтересуется тем, как определялась той же военной академией задача этой науки, то в последних программах этого учреждения он прочтет следующее: целью курса военной статистики является изучение сил и средств России и сопредельных с нею государств со стратегическим обзором тех их частей, которые могут стать районами действий в случае войны. Здесь мы встречаемся с явлением, аналогичным тому, которое обнаружили уже в военно-исторической науке. Основная задача, которую должна была обслуживать Высшая военная школа, заключалась в том, чтобы подготовить своих учеников к ведению будущей войны. Поэтому роенная статистика, так же как и военная история, ограничила поле своих научных изысканий одним только изучением средств ведения войны, находящихся в нашем распоряжении, а также тех, которые находятся в руках вероятных противников.
Такое ограничение кругозора официальной военной науки одними только рамками науки о ведении войны привело к тому, что новые ростки настоящей статистики войны появились вне полей, обрабатываемых высшими военными школами. Таким замечательным новым ростком является книга капитана Австро-Венгерского генерального штаба — Отто Берндта под названием «Число на войне»1. Отметим здесь, что появлению этой книги помогло обстоятельство, не имеющее ничего общего с военной наукой. Отец автора этой книги был одним из крупных издателей Вены, вследствие чего в вопросе о ее напечатании отпало самое труднопреодолимое препятствие: стремление издателя окупить свое издание. Не знаю, каковы были коммерческие результаты напечатания книги капитана Отто Берндта, но одно можно сказать: она не обратила на себя того научного внимания, которого заслужила.
Объектом статистического исследования Отто Берндта являются войны XIX столетия. Изучая число и продолжитель-
lBemdt О. Die Zahl im Kriege. Statistische Daten aus dcr neueren Kriegs-
geschichte in graphischer Daistellung. Wien, 1897.
473

ность
войн, численность армий в наиболее
крупных операциях, численность
потерь в важнейших сражениях и осадах,
он обнаружил
некоторые черты закономерности в
явлениях войны. В
особенности интересны его исследования
о потерях в боях. Тут
он намечает новый метод исследования
явлений боя, который,
по нашему мнению, обещает быть чрезвычайно
плодотворным
для социологического исследования
войны. Хотя, как я говорил выше, работа
Отто Берндта не обратила на
себя того внимания военных специалистов,
которого она заслужила,
тем не менее она нашла себе последователя...
Таковым
является труд австрийского ученого
Гастона Бодарта, напечатанный
в 1918 г.1
Этот труд представляет собой гораздо
большее
по объему и более тщательно проверенное
статистическое
обследование о численности войск и их
потерь в сражениях
последних трех столетий до минувшей
мировой войны
(1618-1914 гг.)2.
С появлением работы Бодарта путь к применению статистического метода при социологическом изучении войны может считаться окончательно намеченным. Но этот же труд наглядно показал, что получение богатых результатов, которых можно было бы ожидать от применения статистического метода, значительно затрудняется вследствие крайне неудовлетворительного состояния, в котором находится нужный для статистического исследования цифровой материал, касающийся войн минувших столетий.
Казалось бы, статистические материалы по только что минувшей мировой войне должны предоставлять совсем иные •возможности. И тем не менее я берусь утверждать, что многие социологические выводы не смогут быть сделаны с полной научной достоверностью вследствие того, что для регистрации статистических данных о войне не было установлено соответствующего научного фундамента.
Для пояснения этой мысли укажу хотя бы на тот разнобой, который можно встретить в понимании категории, именуемой словом «боец». В среде только одной русской армии мы можем увидеть случай, когда два начальника Штаба Верховного Главнокомандующего — генерал Алексеев и заменивший его генерал Гурко, исходя из различного толкования того, что такое категория бойцов, приходят к совершенно противоположным выводам: в то время как генерал Алексеев утверждает, что бойцы составляют 35% численного состава русской армии, а
'См.: Bodart G. Militar-historischcs Kriegs-Lexicon (1618-1905). Wien und Leipzig, 1908.
2B это исследование включены помимо главных сражений и все значительные бои, в которых потери обеих сторон составляли не менее 1000 человек для сухопутных столкновений и 500 — для морских. Всего изучено 1700 боев. (См.: Головин Н.Н. Наука о войне... С.169.)
не бойцы — 65%, генерал Гурко считает, что бойцы составляют 65%, а не бойцы — 35%'.
Только что приведенным примером я хотел наглядно показать, что для того, чтобы использовать накопившийся после минувшей мировой войны материал, требуется громадная работа, заключающаяся не только в тщательной проверке данных и оценке источников, но также и в чрезвычайно обстоятельном исследовании того понимания, которое вкладывалось составителями документов в различные категории номенклатуры.
Но даже в тех случаях, когда будет встречаться единство в понимании номенклатуры, использование статистического материала минувшей войны требует большой разработки. Возьмем для примера хотя бы данные о потерях в личном составе. В основу всей этой сложной отчетности положены были задания всецело практического значения (оперативные, санитарные). Для того чтобы изучить, например, предел моральной упругости войск в различных сражениях, потребуется полная переработка всех этих данных. Да и то навряд ли можно будет распределить эти данные по всем очагам боя данного сражения.
Разработка цифрового материала, остающегося от войны, требует столь обширной и специальной работы, что естественно ожидать, что по мере развития самой социологии войны из ее состава выделится специальная наука «статистика войны».
Если человечеству еще долго не суждено исключить войну из обихода международных отношений, то нужно по крайней мере принять все меры для того, чтобы пережитый кровавый опыт мог быть исследован в деталях. А для этого настоятельно необходимо, чтобы во всех видах деятельности армии, подлежащих учету, таковой не только руководствовался утилитарными задачами, но также давал возможность и для статистической обработки цифровых данных с чисто научной целью.
в) по производству вспомогательных исследований
Вот почему является неотложной необходимостью возможно скорее приступить к тем подготовительным работам, из которых впоследствии вырастет социология войны. И эта работа должна быть сразу же развернута в большом масштабе. Слишком много времени потеряно. После мировой войны прошло уже 19 лет, а, по существу, еще ничего не сделано. Для того чтобы ускорить работу, необходимо параллельно со сбором, классификацией и систематизацией материала, параллельно с разработкой методов теперь же приступить к составлению
'См.: Golovin N. The Russian Army in the World War//A sociological study. New Haven, 1931. P. 110-111.
474
475

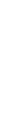

отдельных
монографий по социологическому
исследованию войны. Такая работа
представляет собою необходимые первичные
попытки разобраться в материалах для
разрешения проблем, выдвигаемых
социологическим изучением войны. Эти
работы можно уподобить тропам, которые
намечаются первыми путешественниками
в неведомых странах. Тем, кто пойдет за
ними в эту новую область, предстоит
расширить эти тропы, обратить их в торные
дороги или же использовать их для
проведения новых путей.
Кроме упомянутых выше, примером подобных трудов может служить книга профессора Йельского университета (США) Maurice R.Davfe «La Guerre dans les cosietes, son role et son evolution». К числу подобных же работ должен быть отнесен классический труд профессора Берлинского университета Ганса Дельбрюка «История военного искусства в рамках политической истории»1. Работой такого же вспомогательного характера для социологических исследований войны является также и труд самого автора статьи, напечатанный «Carnegie Endomment for International Peace» под названием: «Russian Army in the World War».
В предисловии к этой книге автор счел даже нужным упомянуть, что он смотрит на нее «лишь как на часть той большой работы по исследованию войны, которую он задумал под общим наименованием «Социология войны». Он закончил это свое предисловие словами: «Удастся ли автору довести эту работу до конца, он не знает, но считает, что меры, принимаемые современными цивилизованными народами для предотвращения возможностей новой войны, значительно выигрывают от подробнейшего изучения самой войны как явления социальной жизни. Лечение всякой болезни становится на верный путь лишь после того, как природа самой болезни хорошо изучена. А война есть социальная болезнь»2.
Такая работа непосильна для отдельных лиц — необходима организованная коллегиальная работа. Первым этапом такой работы должно быть учреждение хотя бы в одном из университетов мира специальной кафедры по социологии войны...
«к-
'См.: Delbriick H. Geschichte dcr Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. Berlin, 1922-1927.
2Golovin N. The Russian Army in the World War... P. XV.
476
Зибер Н.И.
