
- •I. Предмет, задачи и структура социологии
- •Лидмепфельд шф.
- •Природа социологии. Отношение ее к
- •Философии истории, этике и психологии.
- •Социология и учение о социальной жизни
- •Животных. Социология и статистика1
- •Изучение общественной жизни. Основные вопросы и зддачи социологии. Ее научное построение и направление1
- •1 Сущность социологии1
- •Социология и психология1
- •Кареев н.И. О значении психологии для общественных наук2
- •Статистика и социология1 предисловие
- •Национальных движений
- •Немного статистики
- •Южаков с.Н.
- •О методе в социологии1
- •1. Наблюдение и опыт
- •2. Опыт
- •3. Анализ
- •5. Вывод
- •6. Предположение (гипотеза)
- •8. Обобщения
- •Особые социологические методы
- •1. Сравнительно-эволюционный метод
- •2. Метод пережитков
- •3. Метод тенденций
- •4. Метод диалектический
- •5. Метод аналогический
- •Законы статистические
- •«Русская социологическая школа» и категория возможности при решении социально-этических проблем1
- •При исследовании социальных явлений
- •Хвостов в.М. Метод социологии1
- •Основные положения эмоциональной теории эстетических и этических явлений. Два вида обязанностей и норм1
- •§ 241. В силу долгового отношения кредитор имеет право
- •§ 242. Должник обязан исполнить действие так, как это соответствует требованиям доброй совести и обычаев гражданского оборота.
- •Науки об общем и науки об индивидуальном1
- •Необходимое и должное в культурном творчестве1
- •1 Бухарин н.И.
- •III. Отраслевая социология
- •Размещение по квартирам представителей различных профессий в составе петербургского населения1
- •Материалы для наблюдения над общественно-экономической жизнью русского города1
- •Ленин в.И.
- •Число выборщиков
- •Число думских депутатов:
- •1. Производство и потребление косвенные
- •2. Производство и потребление прямые, непосредственные
- •Или сектантстве
- •Семейный и домашний быт сектантов
- •Тенишев в.Н.
- •Б. Местные условия жизни крестьян
- •Вопросник1
- •II. Рабочие на фабрике
- •III. Условия труда
- •V. Рабочий день
- •VI. Частная торговля
- •XI. Комсомол
- •XIV. Культшефство
- •XV. Селькоры
- •XVII. Легенды и слухи
- •II. Теория и метод в социологии
- •III. Отраслевая социология и конкретные социологические исследования. Программы. Анкеты
- •129110, Москва б. Переяславская, 46
Науки об общем и науки об индивидуальном1
1. В новейших классификациях наук, начиная с О.Конта, обыкновенно проводится та мысль, что вся сущность научного знания состоит в установлении общих формул и положений. По Кошу задачей науки является открытие законов явлений, т.е. неизменных отношений последовательности и сходства явлений. «Для положительной системы высшая степень совершенства, к которой она беспрестанно стремится, хотя, быть может, никогда не достигнет, заключалась бы в возможности представлять себя все наблюдаемые явления, как частные случаи одного общего явления, такого, например, как тяготение». Только таким путем, думает Конт, можно получить знание, из которого вытекает предвидение, обеспечивающее влияние. Хотя Конт знает не одни только науки абстрактные, вторые составляют его линейные ряд наук, но и науки конкретные, которые применяют общие законы к действительному состоянию различных существ, однако, под конкретным его системе разумеется общее, а не индивидуальное2. Кон-
?Из кн.: Хвостов В.М. Теория исторического процесса. М., 1910. Id <~'ледУст различать противоположение абстрактного и конкретного, и Р°тивоположение общего и индивидуального или единичного.
311
кретными
науками оказываются зоология и ботаника
в отно> шении к физиологии, минералогия
в отношении к химии ц т.п. История, как
таковая, совершенно не находит себе
места в контовской • схеме. Конт говорит
об истории как науке поставляющей
материал для социологических обобщений,
о^ упоминает
также об историческом методе изложения
наук; под этим методом, в отличие от
догматического, он разумеет такой
порядок изложения еще неустановившейся
науки, при которое знания передаются
в той самой последовательности, в
которой они исторически были приобретены
человечеством, а не в виде логически
развиваемой системы общих положений.
Спенсер предлагает взамен контовского ряда наук свою классификацию, в которой он различает науки абстрактные имеющие дело лишь с формами явлений (логика и математика) науки абстрактно-конкретные, изучающие сами явления в их элементах (механика, физика, химия), и науки конкретные, изучающие явления в их целом (астрономия, геология, биология и т.п.). Но все эти науки в одинаковой степени являются общими; все они изучают законы: законы форм, законы факторов и законы продуктов...
Точно так же Милль знает только науки об общем. Относительно такой науки, как история, он нашел нужным сказать только следующее: «История, при разумном ее изучении, дает эмпирические законы общества. Задача же общей социологии заключается в том, чтобы проверить эти законы и связать их с законами человеческой природы посредством дедукций, показывающих, что таких именно производных законов и надо было ожидать в качестве следствий тех основных законов» (Логика, пер.Ивановского, стр.740). Таким образом, вся ценность истории состоит, как и у Конта, в том, что она дает материал для социологических обобщений.
Наиболее резко выражал этот взгляд на науку Шопенгауэр, когда он выступал с известным заявлением, что история, в которой не проведен принцип подчинения, и не есть наука, а только дело памяти, простое знание, не заслуживающее имени науки.
В наше время возникли, однако, весьма существенные возражения против такого понимания научного знания. С разных. сторон указывают на то, что достойным изучения следует почитать не одно только общее, будь оно абстрактн0 или конкретно, но и вполне индивидуальное, т.е. такие явления, которые точно определены данными пространства й времени и которые поэтому не могут повторяться со всем*1 своими признаками. «Индивидуум, — говорит Риккерт, — ест* нечто такое, что встречается лишь один раз в данном оПРе' деленном пункте пространства и времени и отличается °^ всякого иного телесного и духовного бытия, что, следователь'
jjo, никогда не повторяется и коль скоро оно разрушается, оказывается навсегда утраченным» («Границы естественнонаучно1,0 образования понятий», пер.Водена, стр.208). Вот это-то индивидуальное и должно быть принято наукой во внимание, если она хочет дать нам надлежащее представление о М«ре явлений. Знание, состоящее в одних только общих понятиях и суждениях, будет неполным знанием. В этом нетрудно убедиться при помощи самых простых соображений.
Обобщения создаются путем обработки материала опыта мышлением. Мышление расчленяет опыт, выделяет из представлений отдельные элементы, комбинирует эти элементы в абстрактные или конкретные общие понятия, под которые затем и подводит те представления, в коих налицо оказываются вошедшие в понятие элементы. Так получается масса общих понятий, которые затем приводятся к логическому единству между собой и составляют систему общего знания. Но при таком сооружении обобщений постоянно остается неиспользованный элемент чисто индивидуальных особенностей обобщаемых явлений. Этот остаток с точки 'зрения обобщающих наук представляется иррациональным, не укладывающимся в общие формулы знания, но он тем не менее существует, и с ним нельзя не считаться. Если мы хотим иметь полное представление о мире, то мы должны так или иначе попытаться ввести и эти не поддающиеся обобщению индивидуальные элементы опыта в наши научные суждения. В противном случае создаваемая нами картина мира окажется слишком упрощенной, более рациональной, чем подлежащая описанию и объяснению действительность. Общее знание должно быть восполнено знанием индивидуального.
Даже в обыкновенной практической деятельности мы не Можем удовольствоваться знанием только тех общих законов, с которыми приходится считаться в этой деятельности. ААЛупров в своих «Очерках по теории статистики» иллюстрирует эту мысль на целом ряде примеров. Сельскому хозяину следует знать не только вечные законы природы, но и индивидуальные свойства его земельного участка, а также точное Местонахождение на земном шаре тех веществ, которые нужны Яля удобрения этого участка, цены этих предметов на данном Рынке и т.п.; чтобы работать паровыми машинами, следует 3Нать не только естественно-научные законы, на которых Покоится устройство этих машин, но также и то, где именно родится необходимая для сооружения машин железная руда ** Необходимый для топки каменный уголь. Все эти сведения Дают нам науки, занимающиеся инвентаризированием того, что ^ас в каждый данный момент окружает, каковы география, тътистика. Но и для чистого естествознания необходимы **ания об индивидуальном. Нельзя построить астрономию с
312
313
одним
только знанием общих формул тяготения;
необходим знать, какие именно существуют
небесные тела и как распей ложены хотя
бы в какой-нибудь определенный момент
вре" мени; зная это, можно уже с помощью
общих законов ра</
считать положение этих тел для любого
момента...
Наиболее важное значение получает знание индивидуаль» ного в той группе наук, которая называется именем Hayv исторических. Индивидуальное составляет исключительный предмет изучения этих наук и притом не в смысле инвен» таризирования индивидуального, наличного в каждый данный момент, а в смысле изучения последовательной смены индд. видуальных и неповторяющихся событий в социальной жизни людей. Так определяют историю Бернгейм, Эдуард Мейер ц другие видные представители исторической науки в наше время, и я думаю, что это определение правильно. Следует только отдать себе отчет в том, какую важность имеет для нас именно такое изучение индивидуального в истории, и тогда должны прекратиться все попытки превратить историю в науку об общем, — попытки, которых делается немало и которые, в сущности, стирают всякую грань между историей и социологией или, вернее, уничтожают историю как таковую, и заменяют ее социологией или статистикой1.
Рассуждая об истории, Виндельбанд в своей известной речи «История и естествознание» (см. Виндельбанд. «Прелюдии», пер. Франка, стр. 313, ел.) предложил различать науки о законах и науки о событиях, а по отношению к научному мышлению различать мышление номотетическое и мышление идеографическое. В дальнейшем он свел эти различия к противоположности наук естественных и исторических. Полнее и глубже аналогичные идеи разработаны были затем Генрихом Риккертом в его труде «Границы естественно-научного образования понятий» (русск. пер. Водена, 1904 г.) и недавно еще раз изложены в более сокращенном виде в его «Философии истории» (русск. пер. Гессена, 1908 г.). На воззрениях Риккерта мы и остановимся специально в дальнейшем изложении, так как они дают много весьма ценного для выяснения места истории во всей системе научного знания, но, на мой взгляД; нуждаются и в существенных поправках.
П. Основная идея Риккерта состоит в том, что классифй" кация наук должна иметь в основе не различие предметов, подлежащих изучению, а различие тех точек зрения, с которых отдельные науки рассматривают действительность. Эмпирическая действительность есть бесконечное многообразие явлений, экстенсивное и интенсивное. С экстенсивным многообразие
'Тард напр.," сводит всю историю х археологии и статистике (3 подражания, гл. ГУ). См. Также L.Bourdeau. L'histoire et les histonens,
j^i встречаемся, когда хотим рассматривать мир как целое, с интенсивным, когда намереваемся изучить отдельное явление < во всей полноте его свойств. И там и здесь задача оказывается для нас неразрешимой, если мы не прибегнем к известному '< упрощению действительности. Действительность, как она есть, иррациональна в том смысле, что не поддается нашему ло- -гическому познанию во всей своей полноте. «Конечно, слово «иррациональное» не может означать то же самое, что «ан-тИрациональное», но лишь выражает индифферентность сущего до отношению к понятию» («Границы», 544; ср. 431). Естес- ■ хвознание (в широком смысле слова) ставит себе задачей изучить эмпирическую действительность так, чтобы по возможности свести ее к системе общих понятий и тем преодолеть как экстенсивное, так и интенсивное многообразие. В результате идеалом естественных наук оказывается удаление из опыта всякой воззрительности и сведение мира к системе общих i отношений между простыми вещами. В этом и состоит механическая картина мира, сводящая все к количественным отношениям «последних, простых вещей» и устраняющая всякие качественные элементы. Психология и социология также принадлежат к области естествознания. Их задача состоит также в сведении психических процессов к отношениям простейших элементов. Правда, в психологии невозможна J квантификация: здесь нет места чисто количественному методу, ■■ ибо если мы по отношению к психическому, не наполняющему пространства, отвлечемся от качеств, то в нем ничего не останется («Границы», 182). Но квантификация, в качестве , простого лишь средства, служащего для упрощения, может обосновать между естествознанием и психологией различие -лишь по степени (183). В общем же, нет оснований выделять из области естествознания психологию и социологию, которые также путем общих понятий стремятся к преодолению эмпи- ; рического многообразия, к упрощению действительности.
Единственную противоположность естествознанию, по мнению Риккерта, составляют исторические науки, которые смотрят на действительность с совершенно иной точки зрения и Работают иными методами. В то время, как естественные науки Работают методом генерализирующим, т.е. интересуются только °бщим и лишь общее, как таковое, почитают существенным, Науки исторические, напротив, обращают все свое внимание На индивидуальное. Эти науки работают методом индивиду-ализирующим. Однако и они нуждаются в известном принципе °тбора фактов. Ведь немыслимо изучить решительно все факты ?^йствительности во всей их индивидуальности. Таким принципом отбора для индивидуализирующих наук является метод ^Несения к ценности. В то время, как генерализирующие аУки в своей работе принципиально отвлекаются от всяких
314
315
ценностей,
кроме логических, науки исторические
обращают внимание только на те явления,
которые стоят в прямое отношении к
признаваемым людьми ценностям. Они
изучают только существенные исторические
факты, а индивидуальное может стать
существенным только под углом зрения
какой, нибудь ценности. Путем применения
метода отнесения ^ ценностям историческое
понимание преодолевает как интенсивное,
так и экстенсивное необозримое
многообразие эмпирической
действительности («Границы», 306).
Метод отнесения к ценностям не означает того, будт0 историк сам должен подвергать изучаемые им события этическим или эстетическим оценкам. Напротив, по мнений Риккерта, историк может и должен оставаться объективным, Люди самых различных воззрений могут интересоваться одними и теми же событиями, так как они несомненно имеют отношение к ценностям, и потому одинаково сделают эти именно события предметом исторического изучения. Это не помешает одному из них относиться сочувственно как раз к тем элементам событий, которые в другом возбуждают негодование. Вот эти-то субъективные оценки и не должны быть вносимы учеными в историческое изложение и исследование. Отнесение к ценностям должно иметь значение только для отбора существенного и подлежащего изучению материала, но не более того. Непосредственной же задачей исторического исследования должно служить обнаружение той причинной связи, в которой стоят между собой исторические события. Эта историческая причинность не совпадает с той причинностью, которая изучается естествознанием. В естественных науках дело идет об установлении общих законов явлений. В истории вскрывается историческая причинность, в которой нет ничего общего; она столь же индивидуальна, как индивидуальны события, изучаемые историком. Историческая причинность никогда не повторяется, и ее особенностью является то, что результат здесь никогда целиком не содержится в своих причинах. «Во всяком непосредственно наблюдаемом индивидуальном причинном процессе причина отличается от эффекта, т.е. вызывает отнюдь не самое себя, а всегда что-либо новое, до того еще не оказывавшееся налицо». «Естествознание устанавливает, безусловно, общие положения относительно связи между причиной и эффектом ... оно допускает, что «та #е самая» причина всякий раз вызывает то же самое действие»-Напротив, «история, образующая не общие, но индивидуальны^ понятия, не имеет решительно никакой возможности приме* нять принцип равенства причин и эффекта или хотя бы Д^* лишь мыслить свои причинные связи по аналогии с эт#м принципом». «Истории вообще неведомо понятие о причинно равенстве, но, если должна быть выражена причинная свя
двух индивидуальных исторических процессов, это может происходить лишь в причинных неравенствах» («Границы» 357-359). '
«Полная индивидуальная причинная связь, как и всякая полная действительность, может быть лишь переживаема или воспроизводима в воспоминании, но никогда не может быть прямо выражена научно» («Границы», 365). Если даже разложить индивидуальную историческую причинную связь на ее общие элементы и затем свести эти элементы к синтезу, то весьма редко может исчезнуть тот иррациональный остаток, который не поддается каузальному выведению. «В таких случаях говорят часто о свободе, подразумевая под этим невозможность исчерпывающего проникновения в причинную необходимость»' («Философия истории», 42).
Система общепризнанных ценностей составляет содержание так называемой культуры. Поэтому науки, работающие методом отнесения к ценностям, могут быть названы науками о культуре, в противоположность генерализирующим наукам о природе, в состав которых, как мы видели, одинаково входят как науки о мире физическом, так и общие науки о духе. Установление самой системы ценностей не есть уже дело истории. Это — задача общей философии и философии истории. Так как объекты теснее всего связаны с ценностями в области духовной жизни людей, то' нет ничего удивительного, если индивидуализирующий метод исторических наук по преимуществу применяется именно к событиям духовной жизни людей. Но это не дает основания, по мнению Риккерта, причислить историю к наукам о духе. Духовные явления составляют все-таки лишь одну сторону исторического процесса, правда наиболее важную, но не единственную. История не упускает из виду и телесных процессов, имеющих отношение к ценностям. С другой стороны, и не вся духовная жизнь людей дает материал для истории, но лишь исторически существенная часть ее. «Понятие о духе как о психическом, в том виде, как его должны построить естествознание и естественно-научная психология, совершенно непригодно для того, чтобы вывести из него что-либо для логической сущности Исторической науки» («Границы», 466).
Таким образом, Риккерт не склонен придавать принципиальное значение в классификации наук разделению последних «о предметам изучения на науки о природе и о духе, но думает, ^о в основе этой классификации должно лежать различие «перирующих с общими понятиями наук о природе и опе-Г«гУЮЩИХ с инДивиДУальными понятиями наук о культуре Драницы», 493). Эти положения Риккерта стоят в тесной «язи с защищаемой им теорией знания, которой, помимо 'вязанных уже произведений, посвящено специальное сочине-
316
317
ние
о предмете познания (русск.пер.Шпетта
под названием «Введение в. трансцендентальную
философию», 1905 г.) и
недавно
написанная статья «Zwei
Wego der Erkenntnistheorie» (в
Kant-Studien,
1909). Риккерт,
опираясь на эту теорию утверждает, что
не существует принципиальных различий
между познанием мира физического и
психического в том смысле будто
психический мир дан нам более
непосредственно, чем физический.
Напротив, он уверен, что перед познанием
одинаково непосредственно даны как
физический, так и психический мир.
А затем он не усматривает никаких
коренных различий между причинностью
мира физического и психического,
хотя и согласен с тем, что количественный
принцип неприложим к психическому
миру. Так он и приходит к изложенной
теории причинности исторической и
общей, согласно которой причинность
историческая отличается от общей тем,
что она индивидуальна. Именно в этих
положениях Риккерта я усматриваю слабые
стороны его построения. Поэтому изложение
его теории исторической науки мы
дополним кратким очерком его гносеологии,
с тем чтобы уже после этого перейти к
критической оценке положений Риккерта
о классификации наук.
III. В своей теории познания Риккерт заботится главным образом о том, чтобы по возможности освободить ее от всякого психологизма. Правда, он признает, что познание есть «род мышления», а именно: «истинное мышление» («Zwei Wege», 170). Но саму истину он считает не принадлежащей к сфере психического: всякий психический процесс протекает во времени, начинается в определенный момент времени и прекращается в другой, позднейший момент. В этом смысле содержание мысли не есть нечто психическое и вообще не принадлежит к области реальностей. «Мы предполагаем, что мысль — истинна, и это значит, что она всегда истинна, или, точнее, что понятие течения времени совершенно не может быть с этим связано. Отсюда следует не только то, что мысль, которая истинна, не есть акт мышления, но что она вообще не есть нечто психическое ... Только акты мышления реальны, истинные же мысли не принадлежат к эмпирической действительности, ни к психической, ни физической» (там же, 197). Истина принадлежит не к бытию, а к ценностям. Это последнее слово означает такое понятие, которое точно так же> как и бытие, не поддается более точному определению, но означает то, что не есть, и в то же время есть нечто, а не ничто (203). Предметом познания и является истина как трансцендентная ценность. По отношению к признающему эту ценность психологическому субъекту она принимает форМУ теоретического долженствования, аналогичного долженствованию моральному. Сама логика, обратившись к познающе^У
субъекту, принимает характер учения о нормах, которым должен следовать этот субъект, если он хочет истины, характер нормативной науки (там же, 210—211). К трансцендентной и транссубъективной ценности познающий субъект подходит, конечно, при помощи известного психического акта, чувства логической необходимости или очевидности, которое является психологическим критерием распознавания истины. Так делается возможным познание предмета. В этом состоит необходимая уступка со стороны теории познания психологическому элементу. Но от этого сам предмет познания не обращается в психический факт: он остается трансцендентной ценностью, а не видом бытия, хотя бы даже метафизического.
Так излагается теория познания Риккертом в статье, написанной в 1909 году. Близкий к этому смысл имеет развиваемое Риккертом в других его трудах учение о гносеологическом субъекте и о сознании вообще. Риккерт настаивает на том, что в теории познания субъектом не может быть не только психофизический субъект, но даже и психологический. Здесь под именем познающего субъекта следует разуметь лишь то активное начало сознания, которое останется по устранении из сознания всякого содержания как относящегося к миру физическому, так и миру психическому. Для гносеологического субъекта все становится объектом, кроме него самого: ему одинаково непосредственно дан как мир физический, так и мир психический. Сам же он не входит ни в один из этих миров, составляющих содержание сознания. Гносеологический субъект не есть мое сознание или чье-нибудь вообще сознание: он есть сознание сверхиндивидуальное, сознание вообще. Гносеологический субъект есть субъект сверхиндивидуальный («Границы», 554, 556). При этом подчеркивается, что такое выделение гносеологического субъекта мыслимо лишь в понятиях, что «объективирование всей душевной жизни никогда не может быть произведено таким образом, чтобы гносеологический субъект оставался в качестве эмпирической реальности, противостоящей психологическому, как точно такой же реальности, как это возможно было при отделении психофизического субъекта от психологического субъекта». «Напротив того, с гносеологическим субъектом всегда остается, так сказать, связанной некоторая часть психологического субъекта, Или гносеологический субъект никогда не выступает изолированно» («Границы», 156). Гносеологическому субъекту или сознанию вообще придается далее то значение, что это понятие спасает наше познание от субъективности, без необходимости Признавать какое-либо трансцендентное бытие, вещь в себе: ТаК как гносеологический субъект сверхиндивидуален, то и 01тределяемое им познание есть познание объективное, а не субъективное. «Всякое познание основывается не только на
318
319
«сознании
вообще», но на сознании вообще,
производящее акты суждения, а
следовательно, и на сверхиндивидуальное
гносеологическом субъекте, производящем
оценку истинности». «Именно потому что
содержание познания должно принимать
определенные формы познающего субъекта,
эти формальные составные части получают
обязательность, протирающуюся далее
единичного случая, коль скоро доказано,
что они принадлежат не только
индивидуальному психологическому, но
и сверхиндивидуальному гносеологическому
субъекту» («Границы», 557, 556).
IV. Краткий смысл всех этих довольно длинных и не всегда ясных речей, по моему мнению, сводится к следующим довольно простым мыслям. Истина, конечно, не есть какой-либо физический предмет или какое-либо психическое ощущение. Истина есть понятие, которое создается нашим мышлением. Я полагаю притом, что человеческая мысль знает не одно только понятие истины, а, по меньшей мере, два. Здесь я должен, впрочем, сделать необходимую оговорку во избежание недоразумений. Указывая на двоякое понятие истины, я разумею открывающиеся для людей два пути проникновения в сущность мирового процесса, членами которого они являются. Имея в виду эту двойственность доступного нам познавания мира, мы и можем говорить о двояком понятии истины. Во-первых, истиной мы считаем все то, что непосредственно переживается; в этом смысле мы говорим как об истинности чувственного опыта, так и об истинности опыта религиозного, который, по моему мнению, Джемс с весьма большими основаниями сопоставляет с опытом чувственным как непосредственное восприятие мира сверхчувственного во всей его реальности. Об этого рода истине говорит и Бергсон с его теорией философской интуиции, которая должна нам дать не логически расчлененное, а целостное и непосредственное знание существа жизни. Некоторую аналогию этому составляют и мысли Канта, когда он в своей критической философии видное место отводил, наряду с теоретическим разумом, разуму практическому. Кант принимал во внимание особого рода знание, не теоретическое, но моральное, состоящее в непосредственной данности нам морального закона и морального долга. И в этом моральном знании он усматривал гарантию реальности того мира, который для теоретического разума оказывается только мыслимым, умопостигаемым. Все идеи теоретического разума, по Канту, находят свою опору в разуме практическом, т.е. знание теоретическое, логическое имеет свою базу в знании моральном-Поэтому, по Канту, в области философии в ее целом «умозрительное употребление разума в метафизике необходим0 соединяется с практическим в морали» (Пролегомены, § 60)-Риккерт и родственные ему по направлению гносеологии
стараются элиминировать из области философии этого рода ретину, заключающуюся в непосредственном восприятии реальности как чувственного, так и сверхчувственного мира, и это создает им большие затруднения, с которыми едва ли им удается справиться при помощи учения о гносеологическом субъекте или о трансцендентных ценностях. Риккерт принимает ро внимание при построении философской системы только рторой вид истины, известный людям, а именно: истину, логически доказуемую, получающуюся при посредстве приведения наших дискурсивных суждений в состояние, лишенное противоречий. Такое состояние суждений, конечно, может быть названо бытием, только в смысле усвоенного нами идеала логически правильного мышления, идеала, против которого на деле наше психологическое мышление постоянно погрешает. В этом именно смысле логические законы, как правильно формулировал Виндельбанд, отличаются от законов природы: они не законы, действующие с необходимостью, но лишь нормы, представляющие собою отбор психологически возможных путей мышления, отбор, при котором мы руководимся идеалом приведенного к полному отсутствию противоречий состояний суждений. Такое состояние мы называем логически доказанной истиной.
Таким образом, логическая истина' если и есть вид бытия, но только в качестве руководящего нашим мышлением и им же созданного идеала. Поэтому-то она нуждается в каком-либо ином обосновании, которое ручалось бы за то, что она имеет прямое отношение ко всему остальному бытию. И сам Риккерт признается, что логика нуждается в сверхлогической базе («Границы», 579). Однако, вместо того, чтобы искать эту базу в истине первого рода, в непосредственном восприятии сверхчувственной реальности, которое содержится в моральном знании Канта, мистическом или религиозном опыте Джемса или в непосредственной интуиции, на которую обращает внимание философ Бергсон, Риккерт прибегает к понятию трансцендентных ценностей, чтобы в нем получить недоста- ' Ющую ему базу. С таким приемом невозможно согласиться. Какую базу для логики может создать трансцендентная ценность, о которой говорится, что она не есть бытие, но не есть и ничто, а есть какое-то «нечто»? Признаюсь, я так мало Понимаю, что это значит, что никакой базы ни для чего в Подобном понятии не могу найти. Я не могу понять, как Подобное неопределенное нечто, которое не есть бытие, может °ьггь для меня порукой в существовании независимой от с°знания реальности, как оно может меня вывести из субъективизма или даже из полного солипсизма и иллюзионизма, Пасностью которого грозит всякая теория познания, которая тановится на точку зрения имманентизма. Между тем Риккерт
320
3«- 1S22
321
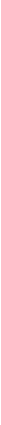
U»
Все рассуждения Риккерта на меня производят такое впечатление, что он, отвергнув сперва всякий элемент бытия в своем «сознании вообще», перед которым одинаково непосредственно даны все содержания сознания, со включением полностью мира физического и психического, затем на самом деле гипостазирует это понятие, получает таким путем понятие гносеологического субъекта, который даже окрещен так, что в нем, несмотря на все оговорки автора, трудно не видеть какой-то реальности, и затем, опираясь на эти гипостазированные абстракции, получает необходимую сверхлогическую базу для логики. Во всех этих построениях я вижу только замаскированную метафизику или мистику. Я не понимаю, как может быть не реальным гносеологический субъект, который, однако, активно познает содержание сознания. Как будто можно быть активнвш и не быть реальным? Между тем, гносеологический субъект объявляется тут же только понятием и этим достигается тот результат, что логически правильное мышление выделяется из области психической жизни, объявляется чем-то от нее независимым.
В самом деле ведь гносеологический субъект или сознание вообще Риккерта есть, в сущности, мышление, но лишь постольку, поскольку оно идет логически правильно. Перед таким мышлением и развертывается, как предмет обработки, все содержание сознания одинаково непосредственно, в том числе, очевидно, и анализируемый логически правильной мыслью процесс мышления психологического во всей своей реальности, т.е. заключающий в себе и возможные уклонения от логических норм. Таким образом,' оказывается, что пока я правильно мыслю, я не реальность, но только понятие гносеологического субъекта; это, собственно, даже не я, не мое сознание так мыслит, но сверхиндивидуальное сознание вообще. Поскольку же я мыслю неправильно, я нахожусь у*е в области полной психологической реальности. Если Декарт рассуждал: cogito, ergo sum, то не дошли ли современны6 гносеологи до положения: cogito, ergo non sum?
■См. Вопросы Фил. и Психол., 1909 г. Кн. 97. Ср. Вундт. О наивно»* и критическом реализме (пер. Водена, 1910 г.). С. 90.
322
I
Я думаю, что хотя мышление может создавать понятия, реющие идеальное значение, каково понятие о логически законченном знании, но оно само всегда остается психологической реальностью, т.е. как тогда, когда оно делает логические ошибки, так и тогда, когда оно протекает логически правильно. Ведь и сам Риккерт в конце концов не может определить познание иначе, как истинное мышление. А раз дознание есть мышление, то тем самым оно есть психический процесс. Никакой абстракцией невозможно выделить познание #3 психического мира. Оно всегда остается деятельностью психики, получающей определенное направление под влиянием поставленных им самому себе в руководство логических норм, jl эти нормы как руководящие нами идеалы также составляют психическую реальность, ибо они, будучи нами созданы, затем сами же на нас действуют; ведь не может быть не реальным то, что действует. Если же это так, то вместе с гносеологическим субъектом и с «сознанием вообще» рушится и утверждение Риккерта, что мир психический дан нам совершенно так же непосредственно, или так же опосредованно, как мир физический. Вся критика гносеологических построений Риккерта мне была нужна исключительно для того, чтобы иметь почву для опровержения его ошибочного воззрения на положение мира духовного и физического в отношении к познанию, — воззрения, которое привело" его к • неправильной оценке разделения наук на науки о духе и науки о природе, а также к неправильным представлениям о характере исторической причинности.
Если мы признаем, что мышление, со включением сюда и логически правильного, есть психический процесс, то окажется, вопреки мнению Риккерта, что духовная жизнь не есть только объект познания, подобно миру физических явлений, но что в нее входит и тот активный элемент сознания, от которого исходит всякое познание. Если опытное знание, со включением в него и того, которое получается в результате исследования так называемого внутреннего опыта, есть знание опосредствованное интеллектом, который производит анализ опыта, то в состав духовного мира входит не одно только содержание внутреннего опыта, но и сам интеллект; об интеллекте же мы знаем не путем логической работы над содержанием сознания, Но совершенно непосредственно, ибо мы переживаем его как активную деятельность сознания, которая сама для себя создает и нормы в виде логических законов. А в таком случае уже эТо обстоятельство дает нам возможность говорить о том, что Духовный мир дан нам в гораздо большей степени непосред-ственно, нежели мир физический: духовный мир слагается не т°лько из внутреннего опыта, опосредствованного работой интеллекта, но и из самого интеллекта, от которого исходят
323
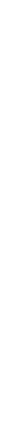 всякие
расчленения и противопоставления,
который являете^ активным элементом
сознания.
всякие
расчленения и противопоставления,
который являете^ активным элементом
сознания.
Нетрудно убедиться, далее, и в том, что для построения из содержания сознания мира физического требуется гораздо более энергичная обработка этих содержаний интеллектом, чем для построения мира духовной жизни. Ведь интеллекту при-ходится для построения физического мира произвести очистку содержаний сознания от всех качественных элементов, которые относятся к духовному миру, и пытаться сводить физические явления к одним только количественным отношениям. На долю же духовного мира остаются содержания сознания в их непосредственной данности.
Вот почему, вопреки убеждениям Риккерта, я продолжаю держаться того взгляда, что мир духовный дан нам более непосредственно, чем мир физический. Затем я особенно подчеркиваю тот факт, что в духовный мир входят все непосредственно нами переживаемые активные элементы сознания, каково прежде всего само мышление, а затем и все, несомненно, стоящие с ним в родстве (по признанию самого Риккерта, CM.»Zwei Wege», 182) волевые процессы. Этот факт имеет для нас огромное значение. Учитывая его, мы приходим к пониманию того, чем причинность мира физического отличается от причинности мира психического.
Отличие это состоит... в том, что в психической причинности, проникнутой активным волевым характером, заключается момент свободного творчества, которого нет в причинности физической. Мир физических явлений, как он строится эмпирической наукой, есть мир количеств, и в нем всякая причинная связь выражается количественным уравнением: в следствии всегда содержится то, что дано в причинах. В этом и состоит значение основного принципа естествознания, принципа сохранения энергии. Напротив, мир духовный есть мир качеств. Здесь следствие не содержится в своих причинах; хотя оно не может наступить без своих причин, но оно содержит в себе качественно новый синтез, которого не было в причинах. Здесь основным принципом оказывается формулированный Вундтом закон нарастания духовной энергии» который в социально исторической действительности выражается в процессе творчества культурных ценностей.
Ясно, какое значение имеют все эти положения для выяснения той особой причинности, о которой Риккерт говорит под именем причинности исторической. Я не буду останавливаться на развитии этих положений о характере духовной причинности, так как я достаточно разъяснял это понятие выше, но прямо перейду к изложению тех выводов из него» которые получаются в применении к исторической науке # исторической причинности.
V. Я утверждаю, что та особая историческая причинность, 0 которой рассуждает Риккерт, есть не что иное, как именно причинность психическая. Отсюда и то отличительное свойство исторической причинности, на котором так настаивает Риккерт: что при ее наличности результат не содержится в своих Причинах и всегда представляет собою нечто новое. Этим именно свойством отличается духовный процесс, как его рисует Вундт. В новейшее время эти особенности духовной жизни лзображает Бергсон в своей книге о непосредственных данных сознания, где он разрабатывает вопрос о свободе воли, а также И в последнем своем сочинении о творческой эволюции, где оН на этой почве строит метафизическую картину мирового творчества. В творческом процессе время не есть то абстрактное t, каким оно является в естествознании, но реальный процесс, в котором на основах данного уже прошедшего создается неизвестное заранее и качественно новое будущее. Но возразят мне, если историческая причинность есть причинность психическая, если только духовной причинности свойственно производить то, чего не было прежде, что не содержится в причинах, то тогда, по-видимому, и понятие индивидуума, как чего-то отличного по своим свойствам от всего другого и потому именно привлекающего наше внимание, также должно быть достоянием только наук о духе. Между тем мы знаем, что и в физическом мире нет предмета, который был бы безусловно тождественен с каким-либо, другим, что и физический мир представляет собою бесконечное многообразие индивидуальных явлений. Нетрудно показать, что эти индивидуумы мира физического представляют для нас интерес: Риккерт приводит в качестве примера алмаз Кохинур. Этот алмаз, представляющий собою единственный в своем роде предмет, который никаким другим заменен быть не может, конечно, есть индивидуум мира физического, который нельзя поставить на одну линию, например, с большим куском угля. Для нас безралично, если будет разбит кусок угля, который всегда может быть заменен другим, но далеко не безразлично, если будет разбит Кохинур («Границы», стр.301). И не только Сдельные предметы мира физического привлекают к себе наше внимание. Предметом нашего изучения служат и некоторые Индивидуальные процессы мира физического, а также единичные системы физических тел. Такая наука, как астрономия, Имеет дело с совершенно индивидуальными небесными телами, ИзУЧает их свойства, движения и расположение друг относи-еЛьно друга. Геология также изучает вполне индивидуальный, Циничный процесс образования земной коры. Учение об ^олюции животных видов есть также отрасль естествознания, реющая дело с единичным неповторяющимся процессом. Яедовательно, и в науках о мире физическом мы встречаемся
324
325
с
изучением индивидуального. Духовная
причинность и духов» ное творчество,
по-видимому, здесь не причем.
Признавая все эти факты, я тем не менее буду настаивать на том, что главным образом психическая причинность с ее особенностями вызывает в нас интерес к индивидуальному. Дд^ наук о мире физическом, по общему правилу, все индиви. дуальное безразлично, так как эти науки покоятся на то^ основном тезисе, что в физическом мире нет никакого твор. чества и происходит процесс постоянного перераспределения одного и того же запаса энергии по одним и тем же законам, допускающим количественное выражение в виде уравнений. При таком положении дел для естествоиспытателя обыкновенно совершенно безразличны те индивидуальные сочетания, в которые вступает физическая энергия. Его интересуют только общие формулы, в которых выражаются законы ее распределения. Алмаз Кохинур для химика представляет не больший интерес, чем кусок угля. Если этот алмаз будет разбит, то химик, как таковой, огорчен не будет. У него даже, именно как у химика, может явиться соблазн для пользы науки подвергнуть этот алмаз химическому разложению и, если что его остановит, то только мысль о слишком крупных денежных издержках или же не химический интерес к алмазу, а чисто эстетический. Химик как человек с чувством изящного и прекрасного может пожалеть алмаз как эстетическую ценность. Но из всего сказанного совершенно ясен тот вывод, что алмаз является индивидом не в смысле физического тела, с которым имеют дело естественные науки, а в смысле предмета, возбуждающего наше эстетическое чувство. Кохинур есть индивид не в физическом мире, но в мире наших оценок, т.е. в мире психических переживаний, где большую роль играют основанные на чувстве качественные оценки. Красивый камень индивидуален не сам по себе, как предмет физического мира, со стороны своего объективного существования, но лишь как наше психическое ощущение, т.е. будучи взят по отношению к нашей психике.
Из этого не следует, конечно, чтобы в естественных науках никогда и ни при каких условиях единичное не становилось предметом специального изучения. Любознательность человека безгранична, и такие науки о мире физическом как астрономия, геология, учение о происхождении животных видов, география будут, конечно, отнесены к наукам о единичном-Следует однако заметить, что астрономия находится в особом положении. Вселенная, взятая в целом, есть, конечно, единичное явление и только в качестве такового может быть изучаема. Астрономия под известным углом зрения берет именно весь доступный опыту мир как предмет специального изучения и потому может изучать только единичное. Что #е
^сается остальных упомянутых наук, то едва ли я ошибусь, если буду настаивать на том, что специальное изучение истории 3еМН°й коры во всех ее единичных подробностях интересно ддя нас, главным образом, потому, что именно земля сделалась ^последствии той сценой, на которой выступило человечество со своим процессом культурного творчества. Каждая особенность Земли как физического тела важна для уяснения дальнейших судеб человечества. Такой же характер имеет и тот интерес, который побуждает нас к детальным занятиям географией. О тесной связи географии с историей человечества много распространяться не приходится. Наконец, и учение об эволюции животных видов в значительной степени привлекает к себе наше внимание также в качестве той генетической науки, которая естественно предшествует истории в тесном смысле этого слова. Для нас интересно каждое звено того процесса, который привел в результате к появлению на земле мыслящего и чувствующего человечества.
Но как бы ни смотреть на эти естественные науки, совершенно очевидно, что при изучении самой истории факторы мира физического останавливают наше внимание на себе лишь постольку, поскольку они имели значение для психики людей, создававших своими действиями исторический процесс. Внешняя природа имеет значение в истории только со стороны ее воздействия на психику отдельных людей и целых народных масс, действия которых в процессе культурного творчества составляют специальный предмет интереса историка.
Таким образом, в истории человечества интерес к индивидуальному особенно усиливается у нас именно потому, что исторический процесс есть процесс духовной жизни и что в нем проявляется отличительное свойство духовной причинности — создавать качественно новые синтезы, то, чего не было раньше. Опираясь на эти соображения, можно утверждать также, что то индивидуальное, с которым имеет дело история людей, отличается по своим свойствам то того единичного, с изучением которого мы иногда встречаемся и в области наук о мире физическом. Индивидуальные события в истории и индивидуальные деятели исторического процесса, будь то отдельные люди или целые народы, привлекают наше внимание со стороны того, что мы в них находим качественно Нового, чего раньше не было. Единичные же явления мира Физического ничего качественно Нового в себе не содержат и отличаются от общих типических процессов этого мира лишь Своей сложностью, которая состоит в сплетении в них целого РяДа общих причинных процессов, сплетении, дающем в °Нкретной действительности только запутанные по своей с5°*ности, но не качественно новые синтезы. Каждый такой ^Нтез, как это показывает любой лабораторный опыт, может
326
327
быть
без остатка сведен к отдельным простейшим
элементам из которых он получился, чего
нельзя сделать в облает^ качественно
новых духовных синтезов.
Я настаиваю, следовательно, на том, что история есть по самому своему существу наука о духе и что разделение нау^ на науки о природе и о духе ввиду принципиального различия в характере причинности психической и физической имеет огромное значение в классификации наук. Только с точки зрения такого деления становится понятным и тот интерес ^ познанию чисто индивидуальных причинных рядов, который проявляется с особенной силой в исторических науках. Ос-новная ошибка Риккерта состоит в том, что он, увлекаясь своей мыслью о гносеологическом субъекте, перед которым одинаково непосредственно даны как физический, так и психический мир, просмотрел это коренное различие в характере физической и психической причинности и так создал неправильное учение о будто бы особом виде исторической причинности.
В остальном же я присоединяюсь к Риккерту. Именно я думаю, что Риккерт прав, утверждая, что руководящим моментом при отборе исторически существенных фактов от несущественных является метод отнесения к ценностям. Ведь именно интерес наш к культурным ценностям приводит к тому, что мы начинаем внимательно изучать неповторяющиеся события в социальной жизни людей во всей их индивидуальности. Нам желательно знать каждый шаг, пройденный людьми в процессе создания культурных ценностей. Но если так, то совершенно ясно, что исторически существенными оказываются именно те события, которые стояли в той или иной связи с этим процессом. Согласен я с Риккертом и в том, что для историка важно исключительно признание того факта, что существуют ценности, которым люди придают значение. Никакой оценки событий с точки зрения своих личных взглядов на содержание этих ценностей историк производить не должен. Дело в том, что раз процесс создания ценностей еше не закончен, и мы всю историю именно к нему и сводим, то при научной работе нельзя исходить из того представления о содержании ценностей, которое в данный момент существует у данного историка. Это было бы равносильно привнесению в научную работу чуждых точной науке элементов. Дело общей философии заниматься установлением содержания ценностей и приведением их в систему. Философ при этом прибегает и к таким приемам, которые чужды точному знанию и имеет на это полное право, так как при построении полной системы мировоззрения, отвечающей не только теоретическим, но ** этическим запросам, мы не можем ограничиваться одн**^ логическим знанием, но должны использовать все те сторон** человеческого существа, которые так или иначе раскрывав
йам связь человека с миром. Я не могу согласиться с Риккертом в его стремлении отождествить методы философии и науки. Но в области строго эмпирической науки, каковой дзляется история, мы должны ограничиваться исключительно применением логических критериев, установившимися взглядами на содержание логических норм. Все же остальные #ормы — этические, эстетические — могут быть липа предметом изучения историка в их генезисе, но не могут определять методов исторического исследования. Метод историка состоит в каузальном изучении исторической действительности при помощи строго логического ее анализа. При этом те факты считаются существенными и подвергаются изучению, которые стоят' в том или ином отношении к признаваемым людьми культурным ценностям.
Следует, впрочем, прибавить еще одну необходимую оговорку. Конечно, говоря о культурных ценностях, я остаюсь на почве тех представлений, которые сам Риккерт назвал бы «вредным психологизмом». Под этими ценностями я разумею те содержания мысли, чувства и воли; которые создаются людьми в процессе их социально-психического действия. Хотя люди надеются найти общеобязательное содержание этих ценностей как окончательный итог своего культурного развития, но это обстоятельство, как мне кажется, не дает основания выделять понятие ценности из области бытия, как это делает Риккерт, все время противополагающий понятия бытия и ценности. Это противоположение, впрочем, приводит лишь к тому, что в конце концов Риккерт с величайшими усилиями и затруднениями вынужден отыскивать тот способ, при помощи которого ему бы удалось вновь объединить эти разорванные им самим понятия в один общий синтез. По моему разумению, идеал общеобязательных ценностей, который предносится людям и является психологическим фактором, определяющим направление их работы в области культуры, не может быть оторван от остальной породившей его психической Действительности. Для такого разрыва бытия и ценности я не ВДжу никаких оснований и полагаю, что осуществить его даже в абстракции нет никакой возможности. Стремящиеся к этому мыслители поэтому только тем и занимаются, что упрекают ДРУГ друга в недопустимом психологизме. Этот- психологизм, Который они гонят в дверь, неизбежно врывается в окно. Это и Понятно: ведь свобода от психологизма была бы освобождением от всего человеческого. Это совершенно последователь-Но и утверждает, например, г.Яковенко в первой книжке н°вого журнала «Логос» (стр. 224). Думаю, что можно вполне °^Новательно усомниться в том, можем ли мы, оставаясь ^°Дьми, создать философию, свободную от «человеческого» °°бще, от «человеческого в каком бы то ни было отношении»,
328
329
как
того желает названный автор. Не убедила
меня в пра> вильности риккертовской
точки зрения на ценности и новая статья
самого Риккерта «О понятии философии»,
помещенная в той же книжке журнала
«Логос».
В таком свете мне представляет история; я определяю ее как индивидуализирующую науку о духе, а историческую причинность считаю особым проявлением причинности пси-хической с ее качественно-творческим характером.
Чернов В.М. . |
II
МОНИСТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ||
В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ1 ||
I
Что значит построить научно историю? Вот вопрос, который еще до сих пор не решен для большинства исследователей. Все согласны, что история не должна оставаться каким-то пестрым калейдоскопом событий, совершенно различных по своему характеру и значению. Все смутно стремятся внести порядок и единство в хаос разнородных величин; найти что-то такое, что могло бы служить, так сказать, общим знаменателем для всех исторических явлений. Где, в каких сферах и как его искать — об этом всякий судит по-своему, но все, или по крайней мере большинство, сходятся как будто в одном: главной задачей общественной науки является отыскание «сущности» или «основы» исторического процесса, т.е. такого элемента, который бы, развиваясь исключительно в силу внутренне-присущих («имманентных») условий и законов, определял своим саморазвитием движения и изменения во всех других сферах, во всех других сторонах общественной жизни.
Один исследователь полагает, что нашел эту «первопричину» социального развития в умственном развитии, прогрессе идей; другой, наоборот, считает идеи лишь симптомами событий, а видит фундамент всех социальных явлений в развитии фор»1 производства или производительных сил; третий выдвигает на первый план значение политики и права. Эклектики выступают в новой теорией, желая примирить всех: они признают са-
:Из кн.: Чернов В.М. Монистическая точка зрения в психологии и с0 циологии. М, 1906.
состоятельное значение и за идеологическим развитием общества, и за материальным прогрессом, и за общественным законодательством, развитием права. В их глазах история есть результат взаимодействия этих самостоятельных, но влияющих друг на друга и зависящих друг от друга факторов. Наконец, уступает еще четвертая теория, просто отрицающая самостоятельность какого бы то ни было из этих трех «факторов» И принимающая их за пустые абстракции или лишь за различные стороны нераздельного процесса социального развития; три стороны, лишь мысленно расчленяемые, открывающиеся наблюдению с трех различных точек зрения. И эта теория — тоже носит характер монизма.
К единству, к монизму, к цельному взгляду на историю стремятся многие; но понимают монистический принцип очень и очень не одинаково. Самые различные, даже диаметрально противоположные направления выступают под одним и тем же флагом монизма. Это, конечно, указывает на зачаточное состояние исторической науки, на переживаемый ею период эмбриологии.
Что же такое истинный монизм?
Чтобы пролить свет на значение философского принципа монизма в области научного понимания общественных явлений, мы считаем полезным сначала проследить судьбу этого принципа, его постепенное выяснение и детальную выработку в области вопросов менее сложных, в науке более общей и простой — индивидуальной психологии. Крайнее разнообразие явлений и состояний душевной жизни в свое время не менее, чем калейдоскопичность зрелища, представляемого всемирной историей, служило препятствием к выработке целостного научного взгладя. Постепенно начали являться и здесь попытки ориентироваться среди явлений, разделить их на более и менее элементарные, на простые и сложные, первичные, основные и вторичные, производные.
И вот, подобно тому, как в социологии одни историки сводили все на идеи, другие — на материальные, экономические факты, третьи — на юридические и политические, — так и в области психологии исследователи сводили все душевные движения, все аффекты и страсти, все желания и стремления, все самые сложные идеи и высшие побуждения на гипотетические элементы и первоисточники. Одни искали эти Первоисточники в области ума, рассудка, другие — в области Объективного внутреннего чувства, третьи — в побуждениях в°ли и в инстинктах. Таким образом, получились три школы: интеллектуалисты, валюнтаристы и, скажем хоть, сенсуалисты1.
Интеллектуалистическое направление в психологии имеет
Фр. Паульсен. «Введение в философию». С. 115—116.
330
331
своим
типичным выразителем Гербарта и его
школу. По этому воззрению, как метко и
сжато характеризует его Паульсец
«представление есть первая и собственно
характеристическая функция души;
чувство и желание, напротив того,
являются как нечто случайное и вторичное,
встречающееся там и сям как побочное
действие хода представлений». Психология
Гербарта «представляет собою попытку
вывести все явления сознания из
представлений и их отношений. Представления
являются для него первичными элементами
духовной жизни-они, подобно элементам
телесного мира, устойчивы, взаимно
притягиваются и отталкиваются, теснят
друг друга и соединяются между собой.
Задача психологии состоит для него в
том, чтобы формулировать законы движения
представлений и объяснить из них все
остальные явления»1.
Рибо («Психология чувствований») также считает особенно характерной чертою этого направления то, что для него эффективные состояния в ряду душевных явлений представляют факты «вторичные, производные»; они «представляют из себя лишь качества, виды или функции познания; они обязаны своим существованием лишь мысли, и сами — ничто иное, как «смутное понимание». «Чувствование — лишь следствие существования в душе одного человека сливающихся или взаимно исключающих идей... Но самого по себе чувствования не существует: подобно гармонии и диссонансу в музыке, оно отличается от простых звуков, хотя благодаря им только и существует»2.
Напротив того, для типичного представителя психологического сенсуализма Ад.Горвича, «чувствительность есть деятельность в своей наиболее простой, наиболее элементарной, наиболее общей психической форме, и эта деятельность — исходный пункт всех остальных психических процессов». К чувствованиям он сводит и ум, и волю. «Всякое представление было первоначально чувствованием; вообще чувствование для Горвича — первоначальный психический факт», говорит Рибо. То же и относительно волевых актов. Как ни велика для общепринятого мнения их зависимость от представлений, т.е. рассудочного элемента, но на самом деле безусловно решающая роль принадлежит опять-таки чувству. «Это весьма различные вещи — иметь теоретическое знание и поступать согласно с ним... Необходим посредствующий фактор, который бы обратил знание в желание, как диастаз обращает крахмал в сахар-Посредник этот — чувствование».
«В новейшее время, — говорит по поводу Горвича Г.Гефдинг, — делались попытки видеть в чувствовании пер-
ручную форму сознания, так что на низшей ступени сознательная жизнь должна бы являться только жизнью чувства, а другие элементы развились лишь мало-помалу...». «Но это ^ение не выдерживает критики прежде всего потому, что воспоминание обнаруживается уже там, где продолжается с0стояние удовольствия и неудовольствия, а оно должно продолжаться, чтобы его можно было почувствовать как следует; как только же наступит колебание (чувства же по своей ^тенсивности всегда подвержены колебаниям), то непременно проявится невольное сравнение. Следовательно, тут уже есть элементы познания... Так что познание не образуется путем какого-то generatio aequivaca (самопроизвольного зарождения) йз совершенно бесформенных и слепых состояний чувств»1.
Из видных психологов нашего времени особенно многие тяготеют к волюнтаризму. Поэтому нам придется остановиться на нем несколько дольше, хотя в задачу настоящей статьи вовсе не входит подробный разбор всех этих взаимно исключающихся и противоположных направлений. Мы уделяем больше места волюнтаризму лишь как теории, занимающей более сильную позицию и имеющей более авторитетных защитников.
Уже цитированный нами Рибо, например, сводит самые чувствования на волю. «Во всех аффективных проявлениях, — говорит он, — существует два элемента: двигательные состояния или стремления, которые. являются первичными, и состояния приятные и неприятные, которые являются вторичными». «То, что мы называем приятными или неприятными состояниями, представляет лишь внешнюю сторону аффективной жизни, внутреннее содержание которой составляют проявляющиеся в движениях стремления, влечения, потребности, желания ... Говорят, что чувствительность есть способность ощущать удовольствие и страдание. Я бы сказал: это есть способность стремиться или желать, и вследствие этого (курсив подлинника) испытывать удовольствие или страдание». «Приятные и неприятные состояния суть только признаки или показатели удовольствия и страдания, суть только последствия, которые должны привести нас к розысканию и определению причин, таящихся в области инстинктов, подобно тому, как симптомы болезни указывают нам только существование болезни, а не ее сущность...»2
Наиболее ярые волюнтаристы доходят до того, что с распростертыми объятиями встречают даже метафизику Шопен-ГаУэра. В самом деле, психологический волюнтаризм получает Прочное общефилософское основание в признании «тождества сУЩности всякой стремящейся и действующей силы в природе
 1Рибо.
«Психология
чувствований», введение. С. 2—3.
2«Современная
германская психология», 259-263.
1Рибо.
«Психология
чувствований», введение. С. 2—3.
2«Современная
германская психология», 259-263.
^Гефдинг. «Очерки психологии, основанной на опыте». С. 38 и далее. Рибо. «Психология чувствований» С. 6—7.
332
333
с
волею». Всякий более крайний и
последовательный волю^ тарист, желая
поставить волю независимой от сознания"
представления и мысли, должен до нельзя
расширить смысл понятия «воли», доводя
ее до темной области инстинктивных и
непроизвольных движений. Только в таком
случае и мысль и сознательная
чувствительность может быть выведена
из воли' как из первоисточника. Но что
же такое философия Шопен.! гауэра, как
не чудовищное расширение понятия
«воли»? Шопенгауэр также начинает с
инстинкта, указывая на факты что
«годовалая птица не имеет понятия о
яйцах, для которых вьет гнездо ... личинки
жука-оленя прогрызает в дереве дыру
для своего превращения, вдвое длинней,
когда ей предстоит быть самцом, чем
когда ей быть самкой, чтобы в первом
случае приготовить место для рогов, о
которых она еще не имеет представления».
Из этих-то фактов, в применении к которым
слишком смело говорить о таких сложных,
дифференцированных явлениях духа,
как ум, чувство, воля, — Шопенгауэр
выводит драгоценное положение —
палладиум волюнтаризма — что
«представление в качестве мотива не
составляет необходимого и существенного
условия деятельности воли»1.
Шопенгауэр только с неумолимой последовательностью идет еще дальше, не страшась делать все логические последствия своих мыслей. В самом деле, если усматривать «волю» в инстинктивных движениях гусеницы, то почему отрицать ее в движениях растений, и даже, наконец, в обыкновеннейших физических явлениях? Шопенгауэр так и делает.
Столь же ярый волюнтарист, как Рибо, философ-поэт Фр.Паульсен решительно указывает на Шопенгауэра, как на «главу» того направления в психологии, которое рассматривает волю, «как первичную и основную сторону душевной жизни, ум же, напротив, как вторичное развитие» («Введение в философию», пер. Титовского, стр. 116. Новейшая психология, по его мнению, «все более и более приблизилась ко взгляду Шопенгауэра», ibid.2). Ad majorem magistri gloriam3 Паульсен зачисляет в ряды последователей этого, последнего даже В.Вундта, который обеими руками открещивается от всякого родства с шопенгауэровской философией. У Шопенгауэра оказывается «поразительная сила ясного и глубоко проникающего созерцания»; вторая часть его труда «Мир как воля» есть «гениальная интуиция».
Роль ума, по мнению Паульсена, «второстепенна в срав^ нении с волей» (то же соч., 117). «Воля есть первоначальный и в известном смысле постоянный фактор душевной жизни
.'«Мир, как воля и представление», пер. А.Фет. С. 132, 136. 2Ibidem (ibid., ib.) (лат.) — там же. 3Ad majorem magistri gloriam (лат.) — к вящей славе учителя.
Ум есть вторичный и переменчивый фактор, присоединявшийся к воле, как орган» (ib., 118—119).
Красноречиво и увлекательно доказывает Паульсен значение й преобладание воли... «Воля господствует над восприятием, определяя внимание; она делает выбор между раздражениями, которые возбуждают ощущения и чувства без всякого различия; в сознание проникает только то, или главным образом то, что стоит в дружественном или враждебном отношении к нашим целям и задачам. Воля господствует над памятью; мы забываем то, что нас более не касается, мы удерживаем то, что представляет для воли продолжительную важность. Воля господствует над ходом представлений; наши мысли постоянно тяготеют по направлению к наличному центру тяжести наших интересов; мы думаем о том, что нам мило и дорого, или ненавистно и опасно. Воля постоянно влияет на суждение, она определяет вес и значение вещей и явлений, оснований и доказательств ... раз интерес или наклонность решили, тотчас же находятся основания, оправдывающие это решение ... Отсюда ясно, какое решающее влияние оказывает воля при построении всего миросозерцания...» (там же, 121—122).
Все это цитированное место очень рельефно рисует важное значение воли в человеческой жизни. Вряд ли, однако, оно способно прояснить взгляд человека на природу души, ее структуру и законы ее постепенного развития от низших ступеней к высшим. Все это более красноречиво, чем убедительно, более увлекательно, чем научно.
Итак, мы имеем три взаимно друг друга исключающих теории, одинаково тяготеющих к монизму. «Со времен Канта, — говорит Гефдинг1, — делались попытки свести все проявления сознания к одному роду элементов. Эти попытки не удались...» Поэтому вполне естественным было появление эклектической школы, пытавшейся примирить все эти направления и смотреть на ум, чувство и волю, как на «самостоятельные, обособленные части или способности души». Геф-Динг справедливо видит в этой эклектической теории худший вид психологической метафизики. «Кроме разлада, внесенного таким образом в различные части или способности душевной Жизни, — разлада, опровергаемого безусловным единством сознательной жизни, без которого нельзя было бы чувствовать и сознавать как раз самых резких противоположностей, — Приверженцы этого взгляда не избегли иллюзии, будто свести Различные «способности» значит объяснить душевные явления, — будто, например, познание, чувствование, каждое само По себе, легче понять, если принять особую познавательную и особую чувственную способность». Соединяя в себе, таким
1Гефдинг. «Очерки психологии, основанной на опыте». С. 90-91.
334
335
образом,
недостатки всех попыток свести к одному
из трех начал два других, эта теория не
обладала и их достоинствами потому что
вместо единства, монизма, водворяла
^гутаницу «взаимодействия», не открывая
ни генезиса взаимодействующих элементов,
ни законов их взаимодействия. Таким/
образом теория «взаимодействия» трех
«факторов», «самостоятельных, хотя и
независимых», сводилась' просто к
бессодержательному эклектизму. Но
именно поэтому она и стала ходячим
представлением, именно поэтому она
и вошла в школьные учеб-ники. Тройственное
деление способностей духа сделалось
традиционным.
Однако, психологическая мысль не могла надолго застыть на этой «золотой середине», с которой так легко примирилась академическая схоластика. Первые удары ей были нанесены с той стороны, откуда трудно было ожидать. Явились психологи, недовольные именно трехчастным делением способности души.
С одной стороны, выступил проект нового, четырехчастного деления. У нас сторонником его выступал г.Н.Грот, доказывавший, что в общее понятие «воли» психология включает слишком разнородные элементы — вместе с сознательной волей, нераздельной с выбором, сравнением, и слепые органические побуждения. По мнению г.Грота, последние представляют особый элемент, нуждающийся в особой рубрике. В подтверждение этой мысли он ссылался из иностранных психологов на Шнейдера, выделявшего из общей совокупности психических явлений животную волю — der thierische Wille.
С другой стороны, явились сторонники только двухчастного деления. Из чистых психологов-специалистов мы сюда отнесем Вундта, из философов — Л.Уорда.
Л.Уорд не специалист в психологии. Этим отчасти следует объяснить некоторую туманность и спутанность его воззрений на различные стороны духа. Он то тяготеет к Шопенгауэру с его «приматом воли», то, как истый сенсуалист, утверждает, что «двигательный импульс следует за чувственным впечатлением, как следствие за причиной». Впрочем, он не видит существенной разницы между чувствованием и волей, относя ту и другую в сферу «субъективной психологии»,- в противоположность восприятиям внешнего мира, представлениям, понятиям, умозаключениям, составляющим область «объектив^ ной психологии». Он стоит на точке зрения «двойственной природы» духа: пассивной, воспринимающей, и активной, реагирующей. К последней относятся волевые акты наравне с чувствительными: они едино суть. «Каждая эмоция принадлежит к этой способности и является частью могучего потока страсти, двигающего корабль чувствующей жизни... С одной стороны, мы имеем приманки, очарования, обольщения #
336
увлечения, надежды, стремления и мечты; с другой стороны — страх, ужас, отвращение, ненависть, зависть, соперничество, ревность, злобу, ярость, бешенство и отчаяние. В этом направлении мы видим горе, заботу, грусть, раскаяние, угрызение, являющиеся выражением недостигнутого, неудавшегося лди безвозвратно утраченного ... Эти чувствительные явления духа так сложны и изменчивы, что неудивительно, если общая связь между ними обыкновенно теряется из виду и поэтому игнорируется общая истина, что все они представляют собою одно явление». Л.Уорд даже изобретает для него новый термин — «конация», «конативная способность» (лат.сопаио).
Еще далее пошел Вундт, которого обыкновенно ошибочно причисляют к волюнтаристам. Правда, он так сам себя называет, но не трудно убедиться, что он под волюнтаризмом разумеет нечто иное, чем Рибо и Паульсен. Тогда как последние чувствуют большую слабость к Шопенгауэру, Вундт делает прежде всего весьма характерную оговорку: «если то строго эмпирическое направление, принципы которого излагаются мною, можно назвать «волюнтаристическим», то при этом не следует забывать, что этот психологический волюнтаризм сам по себе не имеет ничего общего с каким бы то ни было метафизическим учением о воле, — в частности, с односторонним метафизическим волюнтаризмом Шопенгауэра»1. И в другом месте: «волюнтаристическая психология ни в коем случае не считает волю единственной реальной формой психической деятельности. Она утверждает только, что воля и тесно связанные с ней чувствования и аффекты представляют столь же необходимую составную часть психологического опыта, как ощущения и представление». Наконец, в третьем месте он еще раз характеризует свой «волюнтаризм», как «направление, рассматривающее субъективные движения как процессы, равноправные с представлениями».
До сих пор мы видим только то, что уже видели у Л.Уорда: соединение в одну рубрику «субъективных процессов духа», взгляд на волю и чувства как на нечто единое, тесно связанное Между собой. Но далее Вундт делает крупный шаг вперед. Споры о двухчастном, трехчастном и четырехчастном делении элементов души должны были логически привести к сознанию Условного, чисто-отвлеченного характера подобных классификаций и разграничений. Споры эти подкопали правоспособность прежнего взгляда на ум, чувство и волю как на какие-То самостоятельные «способности», «силы» или «факторы». И в°т, разделив элементы психического опыта, элементы духа на Объективные и объективные, Вундт говорит: «мы заранее довариваемся, что всякий объект психического опыта содер-
«Очсрк психологии», пер. Г.А.Папсрна. С. 11. v -кг ■■:■<$*• -■■"'<>•■:■<''•■■
337
жит в себе одновременно факторы объективные и субъектив. ные, причем реально они никогда не могут являться в качестве раздельных процессов, и различать их можно только в абстрак. ции. В самом деле, непосредственный опыт показывает, что одинаково невозможно существование представлений, не воз. буждающих в нас чувствований и побуждений различной силы как невозможно существование чувствований и волевых процессов, не связанных с представлениями о внешних предметах» (Очерк психологии, стр.10).
Более подробное и решительное развитие этого взгляда находим у Гефдинга, влияние которого на Byimja в этом пункте очевидно.
«Не всегда был ясен, — пишет Гефдинг, — отвлеченный характер психологических подразделений и понятий ... Упускался из виду, как это все еще делается сплошь и рядом, чисто абстрактный характер таких разграничений. Они указывают только на существование известных различий между известными состояниями сознания, но это не дает права заключить каждое из них в особую рубрику. Прежде всего надобно исследовать, не находятся ли одни и те же элементы во всех действительных состояниях сознания, так что различия основываются лишь на преобладании известных элементов и на подчиненном значении других. Итак, собственно говоря, группируются и подразделяются не сами явления сознания или состояния его, а элементы, которые мы находим в них, причем под психологическими элементами (курсив подлинника) мы понимаем различные стороны (курсив наш) или свойства состояний сознания или явлений его. Обособляя познавание и чувствование, мы имеем в виду только состояния с преобладающими элементами представления в противоположность состояниям с преобладающими элементами чувствования ... Только этот взгляд и выдерживает критику, так как нельзя указать ни на одно состояние, которое всецело было бы или чистым представлением, или чувствованием, или хотением»1.
Гефдинг посвящает много места подробному развитию этой последней мысли в применении к каждой из сторон человеческого духа в отдельности. «Нет познания без чувства», «нет познания без воли», «нет чувства без познания» и т.д., таковы подзаголовки целого ряда параграфов его интересной книги-К ней мы и отсылаем всех интересующихся подробностями этого важного положения эмпирической психологии.
Чтобы кончить наш беглый обзор исторических суде» монистического принципа в психологии (собственно лишь в той ее части, которая трактует о взаимных отношениях межДУ различными элементами духа), скажем несколько слов о том,
Гефдинг. «Очерки психологии, основанной на опыте». С. 90.
в каком новом свете представляет точка зрения Гефдинга историю развития психической жизни.
Рассматривая психическую жизнь в статическом состоянии да высших ступенях ее развития, можно, по мнению Гефдинга, вполне удовлетвориться трехчастным делением способностей духа. В познании (ощущения, представления, мысли) человек является по отношению к миру как пассивно-воспринимающее существо; в акте воли — как активно-реагирующее; чувство представляет собою средний, промежуточный член, мост между этими двумя, противоположными по характеру, движениями духа, — освещая, так сказать, изнутри поток ощущений и представлений (как чисто субъективное начало).
Но «хотя таким образом мы в праве при психологическом исследовании брать за основание трехчастное деление, но отсюда, однако, не следует, что его нужно считать первичным фактом. В нашей характеристике сознательной жизни мы принимаем ее так, как она является на высшей ступени развития, где она достигла известной отчетливой формы. Мы не имеем никакого права предполагать, чтобы тройственность элементов так же ясно выступала на низших ступенях развития. Напротив, один из общих законов развития тот, что неопределенное и однородное предшествует определенному и разнородному (закон дифференциации). Так, например, зародыш организма представляет однообразную массу, где еще нельзя различить определенного строения. Если сознательная жизнь следует общим законам жизни и развития, то мы должны ожидать, что три различных рода элементов выступают на низших ступенях не так отчетливо, как на высших».
Нечто подобное мы встретим и в области социологии, хотя — это нужно здесь же оговорить — мы будем вести в этой новой области совершенно самостоятельную аргументацию. Поэтому мы приглашаем читателей смотреть на предыдущее изложение отнюдь не как на «доказательство по аналогии», ибо comparaison n'est pas raison1. Все это изложение имеет единственной целью выяснить на примере явлений сравнительно менее сложных, сущность монистической точки зрения, в отличие от точек зрения дуалистической и эклектической, а также охарактеризовать различные виды или типы Монистических воззрений.
II
Остановимся на некоторых из тех выводов, к которым мы Пришли.
Прежде всего ум человеческий начал различать разные войства или стороны состояний сознания. Но при этом он
Comparaison n'est raison (франц.) — сравнение не есть доказательство. X
338
339
еще
не разглядел, что эти стороны вовсе не
самостоятельные независимые друг от
друга и лишь совместно действующи^
процессы; что это лишь необходимые
составные элементы каждого состояния
сознания и каждого душевного движения
расчленяемые лишь мысленно, в абстракции.
Человеческому уму вообще свойственно
обманываться абстракциями и принимать
их за нечто реальное, совершенно забыв
о том ум. ственном процессе, который
призвал их к жизни, и вне которого они
— чистое ничто, бессодержательные
условности.
Исследуя вещи и процессы с разных сторон, со всех точек зрения, мы открываем в них разные свойства. Эти свойства мы обозначаем именами существительными, делаем их объектами, относим к ним как к реальностям разные взаимоотношения и постепенно, незаметно привыкаем приписывать им известную самостоятельность.
Но так как всякий процесс многосторонен, то, обособляя различные его стороны, мы, в сущности, дробим его, вносим в него некоторый разлад, дисгармонию. Отсюда рождается проблема: привести к одному знаменателю разнородные элементы процесса, найти их связующую нить, словом — выработать целостный, монистический взгляд.
И вот ум человеческий поочередно цепляется то за один, то за другой элемент, принимая его за основной фактор и группируя возле него остальные как вторичные или производные.
Таким образом, различные стороны процесса или свойства отдельных его моментов, состояний преображаются в самостоятельные факторы, источники процесса, его производящие силы.
Психологический процесс облечения пустых абстракций в жизненную плоть и кровь весьма удачно анализирован Тэном в его книге «Об уме и познании». В целом ряде примеров, начиная в самых элементарнейших, он показывает, как из простых свойств и соотношений вещей «мы делаем, по некоторой фикции ума, субстанции». Цепляясь за какую-нибудь сторону, за ту или другую особенность факта или процесса, «мы называем ее именем существительным, силой или способностью; мы приписываем ей качества, говорим, что она бывает больше или меньше, употребляем ее в разговоре, как подлежащее; мы забываем, что ее бытие чисто словесное, что она получила его от нас, что она обладает им по заимствованию, временно, для удобства речи, и сама в себе она есть лишь отношение, свойство ... Обманутые языком и привычкой, мы допускаем, что тут есть некоторая реальная вещь и, попав на ложную дорогу, увеличиваем на каждом шагу нашу ошибку»-Эта мнимая реальность все растет и растет в наших глазах, превращаясь в причину всякого факта, всякого события. *>
самом деле, «она пребывает, тогда как оно проходит; сколько бы оно ни повторялось и ни изменялось, она все одна и та ясе; ее можно сравнивать с неистощимым источником, которого событие есть волна. Таким образом, на нее смотрят, как на сущность высшего разряда, стоящую выше фактов ... По этому образцу философы населяют мир подобными сущностями. Между тем сама в себе она есть не что иное, как призрак, свойство, особенность данного факта ... Особенность, отделенная от него отвлечением, обособленная фикцией, удерживаемая в состоянии особого существа — особым существительным именем...»
Еще глубже исследует этот вопрос Зиммель в своей книге о «проблемах философии истории». Он констатирует факт, что «именно высочайшие абстракции, полученные из сложнейших явлений, из впечатлений, исходящих от внешнего соприкосновения с вещами — каковые впечатления разлагать учит лишь эмпирическая наука — именно они кажутся глубочайшим первоисточником действительности, лежащим наиболее далеко от внешней поверхности этих вещей». Затем он приводит «некоторые психологические основания, которые могут дать повод к такому самообману». Более абстрактные и общие свойства вещей сознание постигает позже, чем их конкретные, непосредственно-чувственные свойства. Но именно поэтому конкретное, индивидуальное и кажется внешним, поверхностным, тогда как общее и абстрактное — внутренним, глубоко лежащим и потому наиболее существенным. Аналогия быстро переходит к тому, что эмпирическую действительность принимает за мертвую материю, абстрактные же ее свойства — за внутреннюю, оживотворяющую душу реального процесса. Таким образом, метафизическое мышление путем простого синтеза, обобщения непосредственных, конкретных свойств явлений «получает значение таинственного проникновения в сущность вещей»1.
В спорах о природе и развитии душевной жизни мы уже имели яркую иллюстрацию слов Тэна и Зиммеля. Другую иллюстрацию мы увидим в спорах о сущности исторического процесса.
Исторический процесс так многосторонен и так многословен, что прежде выработки целостного взгляда на него как На определенный механизм должны были появиться частичные, специальные исследования той или иной стороны его. Стремясь разом охватить целое, разом получить все, ум рискует Не Добиться ничего. Наблюдение довольно скоро открыло во ^ех общественных явлениях, состояниях и переменах различные составные элементы, причем почти во всех явлениях
Зиммель Г. Проблемы философии истории. С. 74-75.
340
341
замечались
одни и те же элементы, но в разных, так
сказать пропорциях. В исторических
явлениях стали различать Интел!
лектуальный, материальный и правовой
— политико-юриди. ческий прогресс.
Интеллектуальный прогресс, в свою
очередь распался для исследователей
на умственный и нравственный' материальный
— на рост техники и развитие форм
производи ства, правовой — на
собственно-политический, государствен-ный
и частно-гражданский, юридический и
т.д., и т.д.
Эта специализация была не только полезна, но она была неизбежна, необходима — хотя она же повела и к целому ряду иллкйий. Она положила начало ложному взгляду, будто эволюция каждого или, по крайней мере, некоторых из этих элементов исторического процесса может быть объяснена самостоятельно, сама из себя; но она же, и только она, дала возможность поставить более общий вопрос: как построить как понять историю в качестве единого, целостного механизма?
Еще Бокль заметил, что «печальная особенность истории человека заключается в том, что хотя ее определенные части рассмотрены со значительным умением, но едва ли кто пытался слить их в одно целое и привести в известность существующую между ними связь». Из новейших авторов П.Николаев («Активный прогресс и экономический материализм») заявляет, что «в современных исторических исследованиях эволюции права, этики, экономики и пр. стоят отдельно, и неизвестно, существует ли какая общая им причина, связывающая их в одну целую систему, настолько же целую, насколько целостен субстрат всех этих функций человеческого общества — человек. Ведь право, мораль, экономика и пр. — не право, мораль и экономика an und fur sich1, а право, мораль, экономика человека».
Однако, попыток слить в одно целое эволюции различных сторон человеческого общежития было не мало. При этом, за немногими исключениями, все они носили один и тот же характер. Каждая попытка научного построения истории принимала за центральный пункт развитие какой-либо одной из его сторон, группируя вокруг нее все остальные как вторичные, производные. Таким образом, одна из сторон исторического процесса принималась за «основу» целого; начало, зарождение всех более крупных исторических перемен предполагалось непременно в ее области; что же касается перемен во всех других областях, то им приписывалось лишь значение симптомов, которые лишь указывают на существование более глубоко кроющихся изменений, но сами не играют существенного значения в ходе процесса.
Таким образом, различные стороны исторического процесса
'An und Шг sich (нем.) — в себе и для себя.
обособлялись, противопоставлялись друг другу, превращались В самостоятельные «факторы», в абстрактные «основы» и «сущности» исторического процесса.
При этом невольно припоминается меткое замечание Алоиза риля (автора книги о «философском критицизме»): «Так как сущность явлений зависит от того принципа, который мы кладем в основание своей классификации, то нам сделается вполне понятным возникновение многих метафизических систем, принимавших сущность за нечто, существующее вне нас (след. реализировавших пустые абстракции). Что именно получило название сущности — это оказывалось вполне зависящим от того, какая наука занимала первенствующее место в общественном мозгу».
Так, вполне понятно происхождение знаменитой гегелевской системы в Германии, в эпоху общественной реакции, когда уставшие от политического возбуждения умы удалились в холодные и спокойные заоблачные сферы отвлеченной мысли, чтобы облечь в пышное и красивое одеяние самое неприглядное и прозаическое примирение с пошлой и гнусной «действительностью». Расцвет метафизики, надолго упрочивший за Германией имя «страны философии», и поглощение ею сильнейших умов эпохи было знамением времени. В общественном мнении чашка весов так сильно была наклонена в пользу философии, что естественно было появление теорий, видевших существеннейшую сторону всего исторического процесса в развитии философских идей и систем... И вот, пытаясь охватить в одной общей формуле природу и историю, учение Гегеля видело во всем проявление одной пантеистической «идеи», одного пантеистического «Разума», открывающего себя людям при благосклонном содействии Божьей милостью короля прусского, покровителя благомыслящих и благонамеренных философов, чуждых крайностей и увлечений революционно-утопического характера.
Известно, однако, как громадно было значение этого монистического взгляда на природу и историю как на непрерывную цель причинно связанных фактов, как на один целостный «процесс развития», — хотя механизм этого процесса и усматривался в диалектике понятий. Известно, какую неизгладимую печать наложила гегелевская философия на склад Ума людей, даже освободившихся от полного подчинения ей. Так, один из наиболее талантливых левых гегельянцев, создав вполне реалистическую, даже почти материалистическую концепцию исторического процесса (ФЛассаль — «Идея рабочего сословия в ее связи с современным историческим периодом»), в заключение рядит свое детище в идеалистическое одеяние, в тогу гегелевской терминологии, так рекомендуя свой труд: «ото — развитие объективного разумного процесса мысли,
342
343
более
тысячи лет лежащего в основании
европейской истории-разоблачение
внутренней души, присущей исторической
дей! ствительности, по-видимому, лишь
фактической, лишь эмпирической;
души, которая своей движущей и производящей
силой развила эту действительность из
себя (sic).
Это -^
глубоко развитое доказательство того,
что история — не что иное, как непрестанный
прогресс разума и свободы, совершающийся
по внутренней необходимости под покровом
явлений, по-видимому, чисто случайных
и материальных».
«Я провожу перед читателем три великие мировые периода, показывая, что каждый из них основан на внутренней идее, владычествующей над всеми его областями, как бы далеко они ни лежали друг от друга, над всеми его явлениями, как бы они ни были разнообразны и рассеяны; я показал, кроме того, что каждый предшествующий из этих периодов есть лишь необходимое подготовление следующего, каждый следующий — лишь собственное имманентное развитие, логическое следствие и исполнение предыдущего, так что все три составляют друг с другом высшее единство и разумную необходимость».
Эти слова представляют собой сжатую и рельефную характеристику гегельянской «философии истории».
Не одна гегельянская школа, однако, видела «внутреннюю душу» истории, развивающую «из себя» все и вся, в росте идей. То же слово, только иначе молвила школа Огюста Конта.
«Несмотря на связь между элементами нашего развития, — полагает О.Конт, — один из них должен играть преобладающую роль, он должен давать другим первоначальный толчок и, в свою очередь, двигаться вперед под влиянием их развития. Нам нужно определить этот преобладающий элемент, который должен стоять во главе изложения динамики. Определение его не может представлять никакого затруднения (sic): нужно найти такой социальный элемент, развитие которого могло бы быть довольно хорошо понятно помимо развития других элементов, несмотря на их связь между собой; теория же этого элемента неизбежно должна входить в исследование развития всех остальных элементов социальной жизни. Основываясь на этом отличительном признаке, умственную эволюцию следует без колебания поставить на первом плане как основу- всего развития человечества» (курсив везде наш).
Итак, перед Ог.Контом стояла ближайшая задача — дать такую теорию умственного развития, которая бы не считалась с развитием других сторон человеческого общества и представляла рост идей как нечто, замкнутое в себе, саморазвивающееся, самодовлеющее. Умственное развитие должно быть понято само из себя или из внутренней «природы» человеческого ума, чтобы служить «в последнем счете» объясняющие принципом всякого общественного развития. Конт и нашеЛ)
что «человеческий ум в силу своей природы ... последовательно пользуется тремя философскими методами ... сначала теологическим, затем метафизическим и, наконец, положительным. Отсюда являются три рода философии или три системы общих теорий о всей совокупности явлений, исключающие друг друга; первая служит необходимой исходной точкой для человеческого ума, третья представляет окончательное, вполне установившееся состояние его, вторая служит лишь переходной ступенью» (вступительная лекция в курс позитивной философии). Эта «история человеческого духа» и стоит «во главе истории общества».
Теологический дух, переходный метафизический дух, положительный дух — вот философия умственного развития человечества, на котором зиждутся соответственные надстройки; теократическо-военный режим, переходящий в монархизм; переходный момент «революционной метафизики» и демократического режима; последняя, положительная, индустриальная стадия. Умственное развитие — фундамент, основа, на которую в последнем счете опираются все социальные явления, учреждения и реформы. Умственное развитие замкнуто само в себе: основной ход его непосредственно вытекает из природы человеческого ума. Это — настоящее «саморазвитие», развитие на основании внутренне присущих или имманентных законов.
Системы Гегеля и Конта представляют яркий пример попытки вывести всю историю из одного начала, объяснить ее всю, исходя из одного простого принципа. Все разнообразие исторических явлений, весь этот пестрый калейдоскоп событий сводились к единству. Был найден, так сказать, общий знаменатель для всех событий исторической жизни человечества. Воздвигалась стройная теория, подкупающая своей последовательностью и симметричностью.
Ахиллесовой пятой теории оставался вопрос о «саморазвитии» умственного элемента в историческом процессе. Безусловная независимость и самобытность развития разума особенно плохо гармонировала с духом позитивной философии, которая ниспровергала все сущности и саморазвития.
«Считать разум движущей силой всемирной истории и объяснять его развитие какими-то особыми, ему самому присущими внутренними свойствами — значит превращать его в нечто безусловное, или, другими словами, воскрешать снова ту самую абсолютную идею, которую только что объявили Похороненной на веки», справедливо говорит г.Бельтов1, автор Книги о «монистическом взгляде на историю».
В том же духе высказывается его философский единомышленник, Г.П.Струве: «таким образом идеи гипостазировались в
Н.Бельтов — псевдоним Г.В.Плеханова. *"'"
344
345

истории,
т.е. им приписывалось самостоятельное,
независимое от внешних событий и
процессов бытие».
Ошибка указана верно, но следует ли из этого, что дело пойдет иначе, если на место саморазвития идей мы поставим, в качестве опять-таки «последнего объясняющего принципа», «единого начала, из которого объясняется весь исторический процесс» — развитие какой-либо другой из сторон общественной жизни, например права или экономики? В чем ошибка — в том ли, что неудачно выбран социальный элемент, которому приписана преобладающая роль, или в самой постановке вопроса, в самом искании такого элемента, развитие которого было бы понятно само из себя и теория которого неминуемо должна бы войти в объяснение социальных метаморфоз всякого иного порядка?..
III
В своей книге «Образование права по учениям немецкой юриспруденции» профессор С.Муромцев подвергает обстоятельной критике воззрения. исторической школы. Для нас больше всего интереса представляет тот упрек его этой школе, согласно которому она повинна в неменьшей «гипостазировке» своих наиболее общих понятий, чем мы видели у школ Гегеля и Конта. Подобно тому как эти школы приписывали абсолютную самобытность и независимость процесеу умственного развития человечества^ превращая его таким образом в саморазвивающееся, замкнутое в себе целое, — так и развитие права превращалось у юристов исторической школы в обособленный, •зависящий лишь от собственных внутренних законов развития, процесс. Этот прием г.Муромцев называет «объективированием» отвлеченных категорий, не имеющих самостоятельного существования, независимо от всей совокупности процессов жизни и развития человеческого общества. '
«Объективизм или объективирование, — говорит он, — есть нечто иное, как наклонность приписывать некоторым образом самостоятельное существование тому, что является лишь продуктом умственной и нравственной деятельности людей». Поводом к такому объективированию может служить тот факт, что развитие и деятельность общественного союза не может быть сведена к сумме деятельностей членов его, отдельно взятых, что сила каждого лица, вступившего в союз, своеобразно увеличивается вследствие соединения с силами других лиц»1. «Но понятый и выраженный неправильно, он (этот факт) удаляет образование права как бы в область внечело-веческую; образуясь и развиваясь для людей, оно не создается
^Муромцев С. Образование права по учениям немецкой юриспруденции-С. 8.
ими». «Развитие понималось так, как будто оно необходимо предполагает, что в развивающемся существует внутренне стремление стать чем-то высоким». «Известная метафора сравнила развитие права с развитием зерна, которое будто бы само собою превращается в широкоствольное дерево. Как будто бы дерево не обязано своим происхождением столько же окружающей его среде, сколько и зерну! Не замечали, что развитие определяется во всех случаях взаимодействием внутренних и внешних факторов (Спенсер). И как дерево происходит столько же из зерна, сколько из окружающих его газов, воды и элементов почвы, — так и любой правовой институт развивается не сам собою, но через взаимодействие многих факторов, из которых главные надо искать вне области права...»
Любопытно отметить, что характерной чертой для этих «объективистов» юриспруденции является любовь к фигуральным выражениям, злоупотребление аналогиями и метафорами. И это не случайность. Образный язык отлично прикрывает характер тех категорий, которыми приходится оперировать, и облегчает употребление их в качестве реальностей, которым затем уже немудрено приписать целый ряд самых активных свойств, влияний и функций. «Все частные руководящие понятия исторической школы, как, например, «общенародное правовое убеждение», «народный дух», «правовой организм», «органическое развитие права», были, говорит г.Муромцев, по большей части «фигуральными выражениями, которые неизбежно должны были внести туман в область реального процесса образования права. Было легко создавать действительность путем аналогий, вместо того чтобы исследовать ее тщательно и подробно».
То же самое видим мы ныне в исторической концепции последователей «исторического материализма». Легко и просто, вне времени и пространства, без отношения к конкретным условиям каждого отдельного случая, решаются с новой точки зрения самые сложные и запутанные практические вопросы социологии и политики. Говоря словами г.Муромцева, конечно, легче «строить действительность путем аналогий», чем «исследовать ее тщательно и подробно». Зато стройность, с которой вьгкручивается из головы вся эта система, не оставляет желать Ничего лучшего. Туманный метафизический язык удачно скрадывает все пробелы теории, красиво драпируя ее в терминологию настолько общего характера, что возражать против Подобной аргументации становится крайне трудно: она не Поддается точному анализу. Можно только послать ей самый °бщий упрек в бессодержательном фразерстве и припомнить ^ассическую фразу Гете, что «слова» всегда выручают там, гДе обнаруживается недостаток в понятиях.
Современные экономические материалисты в большей или
346
347
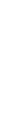
меньшей
степени подверглись влиянию критической
философии, — даже те, которые объявляют
философский критицизм метафизической
отрыжкой нашего материалистического
века Поэтому их душевное равновесие
нарушено, их разъедают внутренние
противоречия. «Ах, две души живут в моей
груди и одна хочет разлучиться с другой».
С одной стороны, они -! рабы, невольники
своего направления. Их теоретический
долг — доказывать, что только перемены,
происходящие в области экономики, имеют
для хода исторического процесса
существенное значение, все же
остальные перемены имеют только значение
симптоматическое. Им нужно доказывать,
что явления из области умственной,
политической, юридической эволюции
имеют характер вторичный, производный,
тогда как экономические явления
«первичны». Им нужно вырвать экономическую
эволюцию из ее органической связи с
другими объяснить ее «из самой себя»,
доказать ее независимость, ее
«саморазвитие». Но для этого, с другой
стороны, нужно «гипостазировать
абстракции», говоря словами Г.П.Струве,
или, употребляя терминологию г.Бельтова,
«воскрешать абсолют», объясняя развитие
«экономики» «какими-то особыми, ей
самой присущими внутренними свойствами».
В итоге получается следующее. Пока мысль у экономического материалиста не прячется в метафоры и аналогии, он говорит целый ряд истин, подтачивающих в корне всю стройность и цельность его миросозерцания. Но это затем нисколько не мешает ему опять забраться в безбрежное море реализованных абстракций и левой рукой воздвигать вновь то, что разрушила правая.
Приведем примеры. Возьмем сначала г.Струве, автора, который пробовал обосновать экономический материализм на прочном фундаменте критической философии1. По его мнению, экономический материализм есть нечто иное, как «смелая попытка из одного начала (курсив наш) объяснить весь исторический процесс». В чем же заключается это историческое «начало всех начал»? Пока г.Струве пребывает в области метафор и аналогий, ответ не труден. Он дается цитатой из Энгельса, что «в последнем счете» (материалистический способ обозначения «конечных причин» старой метафизики) все сводится на «экономическую структуру». Но как только мы перейдем к анализу этих терминов — картина меняется. «Возьмем понятие товарное производство, — читаем мы на стр- 45 книги г.Струве, — это — весьма богатый содержанием комплекс представлений. Оперируя с этим понятием, мы пользуемся, как априорными, целым рядом психологических преД-
'Попытка это была уже мною разобрана довольно подробно: см- cTj «Экономический материализм и критическая философия» в «Вопросах Фи" лософии и психологии», кн. 39.
досылок. Товарное производство не является каким-то внешним фактором, определяющим действия людей: это определенная форма удовлетворения человеческих потребностей, предполагающая существование известных правовых институтов и определенного правосознания. Это, можно сказать, столько же психологическое, сколько и экономическое понятие» (курсив везде наш).
Итак, с одной стороны, экономическая структура есть «основа», «фундамент» или «базис», на котором зиждутся психологическая, юридическая и иные «надстройки»; с другой стороны, оказывается, что «основа» эта имеет столько же психологический, сколько и экономический характер... «В последнем счете» все опирается на экономическую структуру; а сама эта структура — уже неизвестно в каком «счете» — предполагает и определенное правосознание, и определенные правовые институты.
Та же история и у г.Н.Бельтова1. И у него вы постоянно найдете тезисы вроде таких, что «экономия господствует над политикой», что «правовые отношения и государственные ... коренятся в материальных жизненных отношениях», что «психология общества всегда целесообразна по отношению (?!) к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею». Все это повторяется неоднократно. Но и г.Бельтов вкусил от древа критики, и потому у него проскальзывают и другого рода сознания. — «И экономия общества, и его психология представляют две стороны одного и того же явления (как же это «одна сторона» явления может «корениться» в «другой стороне» того же явления, быть «целесообразной по отношению к ней» и «определяться» ею?): производство жизни людей, их борьбы за существование, к которой они группируются известным образом, благодаря данному состоянию производительных сил. Борьба за существование создает их экономию; на ее же почве вырастает их психология. Экономия есть сама нечто производное, как и психология»2. Этот отказ экономии в «праве первородства» очень любопытен. Но вместе с тем он ни к чему не обязьшает. Тот же самый г.Бельтов опять заговорит о «господстве» экономии над психологией, правом, политикой и в ответ на упреки спокойно ответит, что это он говорит «так себе», для простоты, для популярности... В самом деле, Далее у него мы читаем: «Из этого видно, что только в Популярной речи можно говорить об экономии как о первичной причине всех общественных явлений». Однако что же это 39 странные допущения «ради популярной речи»? Неужели экономический материализм заключает, подобно мистическим
См.: Плеханов Г.В. Монистический взгляд на историю. С. 172 и др. Там же. С. 173.
348
349
учениям
древности, экзотерическую и
эзотерическую части-одни «истины»
играют роль разменной, ходячей
монеты которая, в сущности, ничего не
стоит, но бросается в обра! щение для
«не посвященных», для ничего не
смыслящей толпы; из уважения к ее
слабости и неспособности «вместить»
учение во всей его чистоте, ей дается
упрощенный суррогат истины; другая же
часть — истины высшего порядка,
настоящие «таинства» учения —
открыты лишь «посвященным» «избранным»
вроде г.Бельтова и К°? Неужели,
действительно' экономический материализм
— какой-то двуликий Янус, одним лицом
обращенный к правоверным, а другим к
«оглашенным» стоящим еще в преддверии
истины?
Одно из двух — или «психология» общества, как и «экономия» его, равно производные явления; тогда нужно выбросить за борт все рассуждения о том, что психология «в последнем счете» определяется экономией, что экономия «господствует» над психологией, что психология вынуждена «приспособляться» к экономии, что экономия — фундамент, а психология и идеология общества — надстройка и множество подобных этому фигуральных выражений, из которых, как из кирпичей, легко воздвигается грандиозное здание «материалистической системы» в социологии. Или же с критическим отношением к терминологии безопаснее совершенно распроститься. А «смешивать два эти ремесла» довольно неудобно. Вот, например, г.Струве обещал изложить систему экономического материализма как «смелую попытку из одного начала объяснить весь исторический процесс», а в конце концов оказывается, что в его изложении недостает ... немного, как раз этого «единого начала». Мы уже видели, что «экономическая структура» и ее развитие оказалось слишком «сложным комплексом представлений» для роли такого «единого начала». Но, быть может, дело будет удачнее, если мы обратимся к «росту производительных сил», к «технике процессов производства»?.. В самом деле, недаром Маркс говаривал, что изменения способов, техники производства — это «дрожжи, приводящие в брожение все отношения буржуазного общества», и уподоблял их влияние на экономическую структуру влиянию нового вооружения войск на боевой строй солдат и всю военную тактику. Недаром и г.Бельтов говорит про «экономическую структуру», эту «основу» всех социологических надстроек: «далекая от того, чтобы быть первичной причиной, она сама есть следствие, «функция» производительных сил1. П.Струве также повторяет на все лады это положение, что экономическая структура определяется состоянием производительных сил; но, вкусив от «древа» философского критицизма и утратив
'Монистический взгляд. С. 173.
первобытную невинность, он сочувственно цитирует слова Э.Бернштейна: «техническое развитие способов производства есть необходимый потенциальный фактор (социального процесса), но не исключительный, не такой фактор, который бы действовал самопроизвольно, механически». С поисками «единого начала», которым объясняется «весь исторический прогресс», и здесь обстоит неблагополучно. Подобно экономической структуре и техника производства эволюционирует не «самопроизвольно», не на основании каких-то «внутренне присущих» или, высоким слогом говоря, «имманентных» свойств и законов, а в связи с развитием, эволюцией «целого», т.е. всей совокупности общественных явлений.
Этого мало. Следуя примеру г.Струве, мы можем утверждать, что понятие «роста производительных сил» есть не что-то единое и простое, а «очень сложный и очень богатый содержанием комплекс представления». В самом деле, он уже «предполагает» определенную экономическую структуру: известно, что господство свободы конкуренции, заставляя каждого капиталиста удешевлять товары и производство их, дает громадный толчок росту производительных сил, тогда как докапиталистические, цеховые отношения не только сами не вызывали этого роста, но, напротив того, тормозили его и даже насильственно ему препятствовали — таковы законодательные запрещения машин, меры против них со стороны городских управлений и т.д. Притом «рост производительных сил» можно назвать понятием столько же психологическим, сколько и экономическим. Развитие способов производства есть приложение знаний человека к практике, к господству над природой. Уровень познаний — хороший измеритель технического развития орудий борьбы человека с природой. Почти полному отсутствию каких бы то ни было теоретических знаний соответствует господство случайности в сфере изобретений и открытий. Дальнейший рост знаний делает прогресс техники все систематичнее, обдуманнее, потому прочнее и непрерывнее. Все, что задерживает рост знаний, задерживает и развитие техники. Таким образом, повторяем, и рост производительных сил. не сам себе довлеет, а совершается в связи с развитием всей совокупности общественных отношений. Стало быть, его нельзя принять за primum movens1 всякого социального движения.
Но тогда где же, в конце концов, это сокровенное «единое Начало», из которого экономический материализм выводит «весь исторический процесс», ввиду того что развитие этого «Начала» понятно «само из себя»? Остается, правда, еще одно Предположение: это «начало» есть «голос желудка», «экономи-
'Primum movens (лат.) — перводвигатель.
350
351
ческий
или материальный интерес». И действительно,
«в популярной речи» материалисты охотно
употребляют такие общие и неопределенные
выражения, как-то, что «материальные
нужды правят миром», «история есть
борьба материальных интересов» и т.д.
В этом общем виде приведенные нами
приложения недоступны серьезной критике,
требующей точности выражений. Но
попробуйте обобщить их; попробуйте
принять за теорему экономического
материализма положение, что «экономический
или материальный интерес есть единственная
основная сила истории, все же другие
стимулы — только замаскированные
проявления этого основного мотива». В
этом виде тезис становится ясным и
определенным, а следовательно, допускает
серьезное научное обсуждение, серьезный
научный спор. Но такой постановки вопроса
не только экономические материалисты
сами не делают, но даже осмеивают ее,
когда ее предлагают их критики. Так, по
мнению г.Н.Бельтова, это — смешное и
глупое искажение взглядов «экономического
материализма». «Обыкновенному
русскому читателю, — говорит он, —
историческая теория Маркса кажется
каким-то гнусным пасквилем на человеческий
род. У Г.И.Успенского, если не ошибаемся,
в «Разорении», есть старуха чиновница,
которая даже в предсмертном бреду упорно
повторяет правило всей своей жизни: «в
карман норови, в карман!» Русская
интеллигенция наивно думает, что
Маркс приписывает это правило всему
человечеству» ... И затем следует сравнение
«русской интеллигенции» с почтенной
чиновницей, которая воображает, что
Дарвин утверждает, будто она — переодетая
обезьяна. Не спорим, все это, быть может,
и остроумно, но — да простит меня автор
— в конце концов, он все-таки увертывается
от вопроса. Оставим в стороне «обыкновенных
русских читателей», «русскую
интеллигенцию» тоже. Положим, что она
физически не в состоянии «превзойти ту
меру понимания, которая отпущена ей
благодетельной натурой», как говорит
г.Бельтов в другом месте. Но вот перед
нами самый настоящий философ Зиммель,
хруды которого, по свидетельству
г.Струве, доказывают, как плодотворно
применение методов критической философии
к решению социологических вопросов. И
он считает характерной особенностью
экономического материализма
«предположение, что все исторически
действующие интересы являются лишь
преобразованием и прикрытием материальных».
Но «так как действительное сознание,
лежащее в основе наших поступков, тысячи
раз проявляет совершенно иные, кроме
экономических, мотивы, то это учение
должно проникать еше глубже сознания,
до его бессознательных оснований». По
мнению Зиммеля, этого «основного
предположения» — «никогда нельзя
доказать», а потому оно является
«догматизмом* и «метафизическим
произволом», особенно когда на нем
352
останавливаются и «объявляют его последним пунктом, которого можно достигнуть в исследовании, который сам по себе понятен и не требует больше никакого исследования». При этом, в сущности, «отказываются проследить материальные и душевные нити, стечение которых необходимо для порождения *; этого интереса и которые должны пройти через этот последний пункт для образования, так сказать, каждой дальнейшей ткани из фактов»1.
Должно быть, вина лежит не в «обыкновенных русских читателях», непонятливость которых для г.Бельтова вошла в пословицу, а в чем-то ином. В чем же? Мы не затруднимся ответить: опять в той «популярной речи», которая, по г.Бельтову, допускает «упрощение» глубоких истин экономического материализма.
Я нисколько не сомневаюсь, что с точки зрения эконо мических материалистов психология человека вовсе не соткана из одной экономической выгоды, а, напротив, представляет '■ собою ... «очень сложный комплекс» чувств, потребностей, эмоций. Противоположный взгляд сводился бы к самому " вульгарному бентамизму, о котором Маркс отзывался крайне | резко. «Ни в какие времена и ни в какой стране не случалось, + чтобы подобная доморощенная пошлость выступала с таким самодовольством ... «принцип полезности» вовсе не есть открытие Бентама. Он только глупо воспроизвел то, что Гельвеций и другие французы XVIII столетия развивали остро умно. Если, например, желают знать, что полезно для соба ки, — то нужно исследовать собачью натуру. Саму же эту натуру нельзя построить из «принципа полезности». Если же " принцип полезности прилагают к человеку, т.е. если хотят ' обсуждать все дела, поступки, отношения и т.д. с точки зрения ; этого принципа, то при этом следует повести речь о чело- " веческой природе вообще, а потом уже об измененной чело веческой природе, как она проявляется в каждой исторической | эпохе. Бентам об этом не задумывается. С наивнейшей су хостью он принимает современного лавочника, и притом английского, за нормального человека ... Этот масштаб служит ему для мерки прошедшего, настоящего и будущего»2. I Итак, хоть, казалось, мы взяли за primum agens социального
Движения такую простую вещь, как материальный интерес, Расчет экономической пользы или выгоды, — при углублении в вопрос дело оказалось сложнее, чем мы думали. Оказалось, Что «польза» бывает всяческая, что «интересы людей меняют-ся», как вообще меняется их природа в связи с развитием всей совокупности общественных отношений. Словом, мы и здесь
13иммель Г. Проблемы^философии истории. С 103 104 Шаркс К. Капитал. 2гв изд. Т. 1. С. 532-533. Прим. 67.
353
2 Зя*. 1822

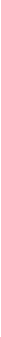 не
получили никакого «начала», из которого
можно было бы выкрутить целостное и
законченное объяснение исторического
процесса.
не
получили никакого «начала», из которого
можно было бы выкрутить целостное и
законченное объяснение исторического
процесса.
После этого становится понятной причина, почему экономические материалисты не задерживаются подолгу на точном и строгом критическом анализе своих руководящих терминов, а спешат спуститься в сферу «популярной речи», где все просто, стройно и симметрично.
Ясно, что «экономический фактор» главенствует в истории, особенно если в этот неопределенный термин вдвинуть без разбора все, в чем есть хоть крупица чего-нибудь «экономического»: и рост производительных сил, и строй производства, и экономическое законодательство, и материальные нужды ... Таким образом, основа теории экономического материализма готова. Нет ничего легче, как воздвигать далее одну теорему на другую, обильно пользуясь метафорами и аналогиями. Экономика есть фундамент, все остальное — надстройки; разве это не логический вывод из «главенства» экономического фактора? Затем к услугам целый ряд еще подобных же метафор: «требования» развившихся форм производства, «перерастание» их растущими производительными силами, «отражение» экономической действительности в мозгу личности, «производство... индивидов», «приспособление» интеллектуальных отношений к материальным ... хотя бы не существующим, а лишь «имеющим наступить»1.
А в общем, слова, слова и слова, прикрывающие недостатки анализа, какая-то «вульгарная теория исторического процесса», параллельная «вульгарной политической экономии».
IV
Мы видели, как неудачны были попытки свести весь исторический процесс в последнем счете к развитию какого-либо одного из элементов общественной жизни. Поэтому вполне естественно было появление примирительной, эклектической теории, которая признавала относительную самостоятельность каждого из этих элементов — права, экономики, идеологии — причем за каждым из них признавалась также и некоторая доля «влияния» на другие. Эта теория известна обычно под
2Н.Бельтов, желая примирить два своих положения — одно, что «психология общества определяется экономией, приспособляется к ней», и другое, что сплошь и рядом «психологическая эволюция предшествует экономической революции», прибегает к такой поэтической вольности в употреблении слова «приспособление» (что, вероятно, допустимо «в популярной речи»). По Бельтову, психология европейского пролетариата «приспособляется к новым, будущим отношениям производства». Определяющая причина является позднее своего следствия; новый вид мистического «действия на расстоянии»-
названием теории «взаимодействия» факторов. Нетрудно видеть, как, в конце концов, туманно это эклектическое воззрение, признающее развитие права, экономики и идеологии за особые, замкнутые в себе циклы, за отдельно друг от друга тянущиеся причинные цепи фактов, лишь время от времени, местами, не то как бы перерывающиеся и привходящие друг от друга» не то пускающие друг к другу отдельные отростки. В конце концов, и «взаимодействие» есть только удобная формула, как будто разрешающая все, но, в сущности, не дающая точного, ясного и определенного взгляда на природу и на механизм социального развития.
Всего хуже в социологии именно такое полузнание, которое дается туманными общими формулами, будь то «взаимодействие» или отношение «фундамента» к надстройкам. Когда люди заручаются одной из подобных формул, они поддаются самообману, как будто бы им что-то разъяснилось, что-то, прежде неизвестное, сделалось известным. Дело философского критицизма здесь, прежде всего, заключается в том, чтобы расчистить путь истинному знанию, устранив с его дороги всякие его суррогаты и на их место поставив хотя бы самое откровенное «не знаю».
Из предыдущего видно, что общественная наука все еще переживает ту стадию развития, которую Конт назвал бы «метафизической».
Ум человеческий неудержимо стремится к обобщениям, стремится всю совокупность своих фактических знаний скомбинировать в нескольких формулах, подвести им итоги, охватить несколькими положениями, определяющими существеннейшее содержание процессов и явлений. Но положения эти должны твердо опираться на фактический материал. Построение науки может совершаться лишь весьма медленно, начинаясь с обобщений чисто эмпирических и переходя далее через целый ряд этажей и надстроек к вершине знания, в данном случае, единому и целостному взгляду на основное содержание истории и механизм ее движения. Умозрение, однако, часто обгоняет нормальный, естественный прогресс науки, стремится предвосхитить ее отдаленнейшие выводы. В результате получаются системы, выкрученные из головы, ставящие фикции На место реальностей ... Жизнь бесконечно сложна, широка, Разнообразна и калейдоскопична; метафизические теории, напротив того, прежде всего узки, прямолинейны и чрезвычайно симметричны.
Мы видели в начале статьи, как в менее сложном психологическом вопросе о природе и развитии душевной жизни Менялись школы, принимавшие за независимые факторы Различные элементы сознания, точнее — различные стороны ег°- Неуспех этих теорий привел к временному господству
354
12»
355

эклектического
взгляда на относительную самостоятельность
ц равноправность
этих мнимых «факторов», и только впослед.
ствии постепенно начало пробиваться
сознание условного отвлеченного
характера этих психологических
разграничений, От такого сознания еще
было далеко до полной теории развития
душевной жизни. Но оно было прежде всего
большим шагом вперед в методологическом
отношении. С этих пор психология могла
взяться за свою настоящую задачу —
изучение законов развития психической
жизни в ее целом — общих законов эволюции
ее — вместо того, чтобы более или менее
остроумно сводить к какому-нибудь
одному излюбленному элементу все ее
проявления, или вместо тщательных
попыток как-нибудь уяснить природу и
способ «взаимодействия» ее элементов,
при самостоятельном развитии каждого
из них порознь.
Мы, впрочем, далеки от того, чтобы считать совершенно бесплодной борьбу мнений по вопросу о том, какой из элементов душевной жизни нужно считать господствующим. Напротив, каждая из этих школ принесла свою долю пользы. Все они вместе (каждая для своего излюбленного «элемента») доказывали, и действительно доказали, присутствие всех элементов в каждом из состояний сознания; именно благодаря этой подготовительной работе новая школа могла, подводя итоги спорам, сказать: нет познания без чувства, нет познания без воли, нет чувства без познания и воли, нет воли без чувства и без познания. И только с этого времени старые школы утратили свой raison d'etre1, их роль оказалась сыгранной.
То же и в социологии. Она стоит сейчас перед задачей — твердо, определенно, раз навсегда выяснить отвлеченный характер тех разграничений, за которыми прежние школы видели какие-то особые «факторы» — экономический фактор, юридический, умственный.
Мы подвергали резкой критике воззрения этих школ, но считаем необходимым оговориться: нельзя считать их работу совершенно бесплодной. Напротив, каждая из них внесла нечто новое в сумму положительных знаний, которыми может располагать современный социолог. У каждой из этих школ была важная задача: доказать повсеместное присутствие того элемента, который она принимала за преобладающий. Каждая из этих школ, при философской неудовлетворительности всей совокупности ее построений, имела свой особый метод разработки, исследования исторических данных, метод, дававший положительные результаты.
В предыдущем изложении мы обращали особенное внимание на экономический материализм, так как это самая пос-
'Raison d'etre (франц.) — разумное основание, смысл; букв, «смысл суШбС' твования».
дедняя из односторонне-монистических теорий, до сих пор еще ле потерявшая кредита в глазах нашей интеллигенции. Если 0б историческом идеализме Конта и Гегеля или об исторической школе в праве можно говорить спокойно как об учениях узке похороненных, то в лице экономического материализма реред нами живое и воинствующее учение. Поэтому мы Критиковали его резко и решительно. Это не должно, однако, домешать нам отнестись к экономическому материализму с той справедливостью, которой он несомненно заслуживает.
Экономический материализм, оставаясь плоской социальной философией, может принести немало пользы как метод детального научного исследования. Перед ним важная и серьезная задача — путем точного анализа исторических данных осветить экономическую сторону каждого исторического периода, понять, так сказать, экономическую подоплеку всякого социального явления. Нет отдельных процессов умственных, экономических или правовых, есть лишь социальные процессы, которые можно и должно рассматривать со всех этих трех сторон, трех точек зрения. И тем интереснее все исследования, руководимые принципами экономического материализма, что у многих, очень многих исторических исследователей материальный быт трудящихся масс оставался в тени, на заднем плане. Для того, чтобы выпрямить палку, иногда не мешает перегнуть ее в противоположную сторону, и поэтому со стороны исследователей истории с точки зрения экономического материализма даже неизбежные односторонности и увлечения будут бедой «еще не столь большой руки».
Таким образом, в общем мы считаем вполне законным усиление экономического направления в истории. Оно особенно своевременно теперь, в эпоху наибольшего обострения социального вопроса и борьбы классов, и нельзя не приветствовать той демократической струи, которая проникает мировоззрение адептов экономического материализма (разумеется, за немногими исключениями). Жать только, что теоретическая форма, в которую вылилось это мировоззрение, так неудачна и так мало соответствует живому, идеалистическому содержанию ... То реализирование пустых абстракций, в котором Повинны экономические материалисты, накладывает на их взгляды, против их воли, печать какого-то формализма. Отмеченные категории превращаются в какие-то фетиши, в «факторы», стоящие превыше людей... Эта метафизическая скорлупа многих отталкивает от экономического материализма, °скорбляя их нравственное чувство и даже навлекая на адептов экономического материализма подозрение в гражданском ^НДифферентизме и квиетизме, которые, действительно, часто Прикрываются всевозможными фаталистическими теориями.
Впрочем, у нас экономический материализм, очевидно,
356
357
переживает
переходное состояние. Все его сторонники,
g
сущности,
пытаются реформировать его на разные
лад^, П.Струве признавал «метафизическую
внешность» экономичен кого материализма
и думал избавить от нее эту теорию
посредством выяснения основных начал
социологической «гно. сеологии». Но
работа, очевидно, оказалась труднее,
чем он думал, ибо впоследствии он пошел
еще дальше в признании «метафизичности»
этой теории. Он признал, что во взглядах
Энгельса положительные научные данные
тесно переплетаются с «материалистической
метафизикой» и что «почти наверное»
то же относится и к К.Марксу. Это уже
более чем «метафи. зическая внешность».
С.Н.Булгаков, также считающий необходимым
пересмотреть основные положения
экономического материализма при свете
критической философии, предлагает даже
само название «экономический материализм»
заменить более широким «социальный
материализм». Н.Бельтов, тяготеющий
более к Гегелю, колеблется между
«диалектическим материализмом» и
«историческим монизмом». А иные dii
minores1
той же
группы еще сильнее тяготеют к широкому
социальному монизму.
Исторический монизм заключается вовсе не в том, чтобы непременно сводить все явления социальной жизни на изменение одного из ее элементов. Есть еще вид монизма, который состоит в понимании искусственности и условности деления социальных явлений на экономические, юридические, идеологические и т.п.
С нашей точки зрения, аналогичной точке зрения Гефдинга в психологии, классификация социальных «явлений» по их содержанию на экономические, юридические и интеллектуальные на самом деле вовсе не классификация явлений, а лишь классификация элементов, из которых состоят явления. Разнице терминов, иными словами, соответствует не различие между объектами, а лишь различие в тех сторонах этих объектов, которые открываются нам с различных точек зрения.
Так, например, говоря о «товарном производстве» как объекте политической экономии, мы вовсе не имеем дела с чистым кристаллом «экономической субстанции», не заключающим в себе никаких посторонних примесей: ни грана юридического, правового и ни грана психологического элемента. Вовсе нет. Товарное производство, как говорит и Г.П.Струве, подразумевает существование буржуазной собственности и связанных с ней юридических институтов — наследования, купли-продажи и т.п. Товарное производство совершается в рамках этих юридических установлений и без них немыслимо. Кроме того, товарное производство подразумевает и целый ряд явлений
'Dii minores (лат.) — младшие боги.
социальной психологии — индивидуализм, всепоглощающее соперничество при обмене и т.п. И эти юридические установления, и эти явления социальной психологии представляют собой вовсе не результат, а именно единое и нераздельное целое с товарным производством. Они взаимно друг друга подразумевают и обусловливают.
Таким образом, самостоятельно и независимо существует не «товарное производство» an und fur sich, и не институт частной собственности с ее обычными аксессуарами, и не мелкобуржуазный индивидуализм — существует определенное социальное состояние, в котором неразделенно слито и то, и другое, и третье.
Отсюда следует, что употребление термина «товарное производство» в качестве чисто экономического основано просто на абстрагировании от психологической и формально-юридической стороны данного реального общественного состояния или явления. Не упуская из виду этого состояния в его целом, мы имеем полное право ввиду той или другой специальной цели временно отвлекать свое внимание от всех других его сторон, за исключением одной. Но ни на минуту не следует забывать об условности этого приема, имеющего исключительно методологический характер.
Мы обращаем внимание то на формальную сторону отношений между людьми, и тогда имеем то, что называется совокупностью правовых норм или юридическим строем; то на объективно-реальную — и тогда имеем производство, обмен, распределение материальных продуктов, словом, материальную культуру общества; то, наконец, на внутреннюю, субъективную сторону и тогда имеем состояние образованности, умственное общение, литературу, нравственный уровень общества — словом, социальную идеологию и психологию. Таким образом, с трех различных точек зрения открываются нам три стороны социального развития: формальная или нормативная, объективно-реальная или материальная, субъективная или психологическая.
Эта точка зрения имеет кое-что общее с точкой зрения Гефдинга в психологии еще и в другом отношении. Гефдинг, как мы видели, замечает, что тройственность элементов сознания годится лишь для характеристики высших ступеней Развития психической жизни; но мы не имеем никакого права предполагать, чтобы три различных рода элементов столь же отчетливо выступали на низших ступенях. По общему закону Развития неопределенное и однородное предшествует определенному и разнородному. То же и в социологии. Если на вьгсщих ступенях социальной жизни ее формально-юридичес-^Я) материальная и психологическая сторона довольно резко и отчетливо дифференцируются, то вовсе нельзя заметить того
358
359
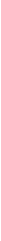
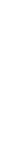
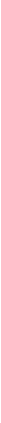 же
самого в эпохи более примитивного
состояния обществен-ных отношений.
Возьмем для примера обычное право. В
чем отличие обычного права от формального?
Да в том, что обычное право еще не
обособилось от общепринятой морали и
даже от простого обычая, традиционного
быта, еще не приобрело своей особой,
специальной формы выражения. Реальные,
фактические отношения, сохраняемые
обычаем господствующие этические
понятия или правосознание и социальные
нормы поведения, обладающие внешней
обязательной силой, — еще совпадают...
Только впоследствии право вырастает
в целую систему законов и учреждений,
экономические отношения — в сложный
строй производства, обмена, торговли,
кредита, распределения, а психическое
взаимодействие членов общества —
в искусство, литературу и науку. Однако
же, как опять-таки справедливо замечает
Гефдинг, «дифференцирование предполагает
лишь преобладание различных элементов
в различных состояниях, а не полное
разъединение их». И потому г.Струве
имеет право сказать, хотя и не без
натяжки, не без преувеличения, что
«товарное производство есть столько
же психологическое, сколько экономическое
понятие».
же
самого в эпохи более примитивного
состояния обществен-ных отношений.
Возьмем для примера обычное право. В
чем отличие обычного права от формального?
Да в том, что обычное право еще не
обособилось от общепринятой морали и
даже от простого обычая, традиционного
быта, еще не приобрело своей особой,
специальной формы выражения. Реальные,
фактические отношения, сохраняемые
обычаем господствующие этические
понятия или правосознание и социальные
нормы поведения, обладающие внешней
обязательной силой, — еще совпадают...
Только впоследствии право вырастает
в целую систему законов и учреждений,
экономические отношения — в сложный
строй производства, обмена, торговли,
кредита, распределения, а психическое
взаимодействие членов общества —
в искусство, литературу и науку. Однако
же, как опять-таки справедливо замечает
Гефдинг, «дифференцирование предполагает
лишь преобладание различных элементов
в различных состояниях, а не полное
разъединение их». И потому г.Струве
имеет право сказать, хотя и не без
натяжки, не без преувеличения, что
«товарное производство есть столько
же психологическое, сколько экономическое
понятие».
Выяснение условного, чисто методологического характера расчленения единого социального процесса путем абстракции, конечно, есть прежде всего чисто отрицательная работа. Она еще не дает ключа к разгадке механизма исторического процесса — она лишь предостерегает от уклонений с надлежащего пути к этой разгадке. Ее методологическое значение, следовательно, весьма существенно.
Если мы признали, что социальный процесс развития представляет собой некоторое высшее единство и что «все его элементы находятся в теснейшей между собой связи, друг друга обусловливая», то непосредственно отсюда вытекает и практический вывод (в русской литературе провозглашенный ровно тридцать лет назад): «если мы ухватимся за один какой-нибудь социальный элемент,ч почему-либо бросившийся нам в глаза, и по движению этой части будем судить о развитии целого, то вся история естественно окрасится для нас односторонним и ложным цветом»; мало того, «мы неизбежно извратим и частную историю этого самого элемента». «Так что в этом случае нам представляется дилемма: или полное и всестороннее уяснение, или никакого (это, по нашему мнению, сказано чересчур сильно) уяснения даже развития частного факта». Поэтому «мы ищем не истории войны, торговли, экономических отношений, верований, нравственных, эстетических идеалов и т.п. Мы ищем законов, управляющих единовременным движением всех этих элементов» (Н.К.Михайловский. «Что такое прогресс»).
Ковалевский М.М.
ПОНЯТИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ''
:• F
И ЕЕ МЕТОД
Генетической социологией называют ту часть науки об обществе, его организации и поступательном ходе, которая занимается вопросом о происхождении общественной жизни и общественных институтов, каковы: семья, собственность, религия, государство, нравственность и право, входящие на первых порах в состав одного и того же понятия дозволенных действий в противоположность действиям недозволенным.
В современном ее состоянии, генетическая социология располагает не более как эмпирическими законами или приблизительными обобщениями, — законами, притом постоянно оспариваемыми и нуждающимися поэтому в прочном фундаменте хорошо обследованных фактов. Материалом для ее построения служат, с одной стороны, данные этнографии о быте отсталых, недоразвившихся племен, обыкновенно обозначаемых эпитетами: дикие и варварские. В предисловии к одному из своих многочисленных сочинений по сравнительной этнографии Летурно справедливо говорит, что без помощи поставляемого этнографией материала немыслимо было бы заглянуть в отдаленное прошлое исторических народов, так как все это прошлое лежит за рубежом истории, или, точнее говоря, за рубежом письменности. Вопросы генетической социологии, науки о происхождении общественных институтов, имеют особый интерес для русских ввиду чрезвычайно богатого этнографического материала, находящегося в их руках и далеко еще не разработанного, несмотря на целые поколения исследователей.
Но для того чтобы этнографический материал мог служить Указателем нашего отдаленного прошлого, необходимо, чтобы в быту исторических народов открыты были, если не в Настоящем, то в прошлом, а иногда и в обоих, следы порядков и отношений, однохарактерных с теми, с какими ставит нас лицом к лицу сравнительная этнография. Возьмем пример. У с°временных дикарей весьма распространена, как читатель Увидит впоследствии, система считать родство не по отцу, а По матери, — обстоятельство, благодаря которому связь ребенка со старшим братом матери, иначе говоря, с материнским 5^Дейтеснее его связи с отцом. Имя, а иногда и имущество,
п„ "3 кн.: Ковалевский М.М. Социология: в 2 т. Т. 2. Генетическая социология. СПб., 1910.
360
361
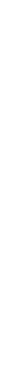
передается
от материнского дяди к племяннику, а
не от отца к сыну. Можем ли мы на основании
существования такой системы у дикарей
делать какие-либо выводы и о нашем
отдаленном прошлом? Очевидно нет, но
только до тех пор(
пока в этом
прошлом мы не откроем каких-либо следов
порядков, однохарактерных с теми,
которые доселе держатся у дикарей. Нам
предстоит в будущем познакомиться с
этими пережитками; в настоящее же время,
с целью показать, что поиски в этом
направлении не остаются бесплодными,
напомню хотя бы широкое распространение
не у одних только германцев, но и у
восточных славян, в удельно-вечевой
период, порядка передачи престола не
сыну, а старшему брату по матери, или
еще известный текст Тацитовой «Германии»,
в котором римский анналист высказывает
удивление тому, что у немецких племен
дядя по матери пользуется даже большим
уважением, чем отец. Возьмем другой
пример: жизнь диких и варварских племен
проходит в междоусобицах; они вызываются
фактами нанесения материального вреда
членами одного племени членам другого
или в пределах одного* и того же племени
— членами 'одного его подразделения
членам другого. Так как эти подразделения
принято обозначать словом «роды», то
и вызываемая частыми насилиями вражда,
не одного только потерпевшего, но и
всех членов одного с ним подразделения,
носит наименование родовой вражды или
родовой мести. Спрашивается, можем ли
мы на основании факта отсутствия у
дикарей системы публичных наказаний
и передачи в руки обиженного и его
родственников заботы о кровном возмездии
делать заключение о том, что и в ранний
период общественной жизни культурных
народов господствовала та же система
родового самоуправства? Опять-таки
этот вопрос может получить
утвердительное решение лишь в том
случае, когда нам удастся указать, что
и в эпоху, следующую за установлением
письменности, в памятниках законодательства,
а также в занесенных на бумагу народных
сказаниях, в так называемом «народном
эпосе», в поговорках, пословицах й
народных песнях, сохранился отклик
однохарактерных явлений. Не забегая
вперед, я уже и в настоящее время считаю
нужным сказать, что такой отклик можно
найти, что вся так называемая легендарная
литература и семитических, и арийских
народов постоянно говорит о вражде
родов, вызываемой фактом нанесения
материального вреда, например в
форме убийства или воровства, членом
одного рода члену другого. Но этого
мало: древнейш#е
памятники
права еще упоминают о самоуправстве,
как ° действии, неизбежно сопровождающем
собою причинение кому-либо материального
вреда. Они только желают ввести это
самоуправство в некоторые границы,
сократить по возможности число лиц,
которым оно дозволено, изъять из его
действий
известные места и лица, наконец, определить срок, долее которого обиженный не вправе лично преследовать обидчика. Они рекомендуют также замену самоуправного возмездия выкупом, а самоуправной конфискации — штрафом. Зная все это, мы вправе отнестись к этнографическим данным о господстве кровной мести и родового самоуправства как к надежному материалу, позволяющему нам сделать шаг вперед в глубь прошлого и подняться от эпохи, когда родовое самоуправство встречало уже ограничение в церковном и светском законодательстве, ко временам его неограниченного господства.
Всюду, где существует кровная месть, она носит характер чего-то обязательного. Убитый требует отмщения; его родственники считают себя опозоренными, если уклонятся от этой обязанности; она священна. Все указывает, таким образом, на религиозную основу мести; и последняя, действительно, опирается на веру в души усопших предков, продолжающих в загробном мире свою земную жизнь и требующих от своих родственников тех же услуг, какие они получали от них при жизни. Неисполнивший этих обязательств к родственным теням ждет от них кары за свое нерадение. Добрые по отношению к памятливому потомству, духи становятся злыми к потомству нерадивому; чтобы пользоваться их покровительством и защитой, надо кормить и поить их в форме домашних жертвоприношений, надо также отмщать нанесенные им обиды. Даже у народностей, не имеющих еще веры в богов и особого жреческого класса, мы встречаем уже уверенность в тесном общении мира живущих с миром духов-предков и в возможности для некоторых лиц входит в общение с этими предками, получать от них способность ясновидения.
Таким образом, вера в существование мира невидимого, духовного и в его общение с миром земным, а также вера в посредническую роль между обоими мирами особых лиц — кудесников, чародеев, магиков, или каким бы другим именем мы их ни называли — принадлежат к числу тех, которые встречаются у самых отсталых народностей земного шара. Мы снова поставим себе вопрос: бросает ли этот факт какой-нибудь свет на наше отдаленное прошлое? Сам по себе нет, а только в связи с многочисленными переживаниями таких же верований, заключающимися и в древнейших религиях Востока и Запада, и в доселе держащихся народных суевериях, да и не в одних народных.
Анимизм — воспользуемся термином, впервые введенным в Употребление Тэйлором для обозначения той системы оду-х°творения всего сущего, какая свойственна дикарям, — оставил многочисленные следы и в индусских Ведах, в культе, ^°торьгм они окружают так называемых «питрис», т.е. души Ус°Шиих предков, и в Авесте древних персов в однохарактер-
362
363
ном
по источнику культе «фравашей». О
существовании культа предков у древних
греков или римлян едва ли нужно
распространяться после Фюстель-
де-Куланжа; а о том, что и нашим предкам
не было чуждо поклонение роду и роженицам,
говорит нам любопытный памятник X
века «Слово
некоего христолюб-ца». В современном
простонародном быту страх домового
еще является наивным выражением того
же культа. Этих примеров я думаю,
достаточно, чтобы показать, что
этнографический материал способен
навести нас на те или другие выводы
касательно характера старинных
общественных институтов верований и
обычаев, только в том случае, когда мы
находим подтверждение нашим догадкам
в тех заключениях, к каким приводит нас
изучение старинных памятников
письменности, легенд и преданий,
исторических свидетельств, наконец,
той живой старины, какая окружает нас
в форме суеверий, притч, пословиц,
поговорок, заклинаний, сказок, песен и
других проявлений народного творчества,
обнимаемых понятием «фольклор» —
английский термин, пока еще оставшийся
без перевода.
Из сказанного ясно также, что всякому, занимающемуся генетической социологией, предстоит обращение одновременно к разным научным дисциплинам описательного характера и ко взаимной проверке выводов, добытых каждой из этих дисциплин в отдельности. Ему приходится одновременно быть знакомым и с историей религий, и с древнейшими правовыми институтами, и с народным литературным творчеством, и с пережитками, держащимися или державшимися в форме обычаев и обрядов не в одном современном быту, но и при тех порядках, которые отошли уже в область прошедшего. Но так как следы этого прошлого сохранились у одного народа в одной особенности, а у другого в другой, то социологу, занятому воссозданием в уме того отдаленного периода, когда зарождались общественные отношения и складывались те учреждения, какими в широком смысле можно назвать одинаково и сумму верований, и сумму обычаев того или другого народа, необходимо вносить в общую сокровищницу все эти разбросанные следы архаических порядков.
Много лет тому назад, картинно передавая отношения сравнительного историка права и учреждений к материалу его исследований, мой учитель Мэн говорил, что историк на весь мир должен смотреть не в увеличительное, а, наоборот, в уменьшительное стекло. Такой метод, разумеется, не лишен опасностей; при нем немудрено свести к общей причине факторы местные и временные. Вот почему я рекомендовал бы всем, кто намерен заняться изучением генезиса верований, обычаев и учреждений, запастись достаточной дозой скептицизма и прежде, чем пускаться в какие-либо общие выводы
ла основании частного факта, искать объяснения ему в современной ему обстановке или в недавнем прошлом. Как часто ^ще самому приходилось впадать в ту же ошибку, от которой Р настоящее время я готов предостеречь других.
Припомню следующий случай. Во время моих странствований по горам Кавказа, в Сванетии, я не раз имел возможность убедиться в том, что христианские часовни, уцелевшие здесь со времени грузинского царства, обыкновенно стоят среди высоких рощь. Сванеты сохранили лишь слабые следы своей официальной принадлежности к христианству; само имя Иисуса далеко не всем известно; часовни их не только не посещались прихожанами, но о них еще ходило представление как об обиталище духа, готового покарать всякого, кто дерзнет проникнуть в посвященное ему жилище. Ввиду всего слышанного моя фантазия стала работать, и я не прочь был увидеть в рощах и расположенных в них часовнях следы культа деревьев и тесно связанного с ним культа духов предков, живущих в рощах или в построенных среди них капищах. Долгое время я оставался под влиянием мною же самим созданной теории, не давая ей, к счастью, выражения в письменном виде, пока, наконец, из ближайшего расспроса сванетов, живущих по соседству с этими рощами, я не узнал, что дело объясняется несравненно проще, а именно, что кутаисские губернаторы во время своих ревизий края позволяли себе в прежнее время забирать из храмов и часовен старые иконы, из которых некоторые были византийского письма. Чтобы положить конец дальнейшему хищничеству, сванеты перестали пускать в свои часовни прохожих и проезжих; сами же они давно прекратили их посещение, так как Общество Поддержания Православия в среде кавказских горцев даже не озаботилось содержанием постоянного причета в их среде. Это обстоятельство в связи с безграмотностью сванетов и их чисто внешним христианством повело к совершенному оставлению часовен. Путь к ним теперь зарос лесом.
Не всегда желание воспользоваться теми или другими народными особенностями, тем или другим «курьезом» в современном быту или в историческом и легендарном предании, для построения общей гипотезы проходит так же безвредно, как в описанном мною случае. Вспомним, напри-Мер, что Бахофен на основании греческих сказаний об амазонках, подобие которым, правда отдаленное, представляют в Наших былинах так называемые «поленицы», решился подарить Историю человечества начальным периодом женовластия. Очевидно, он мог додуматься до этого только сопоставив эти Легенды или с исключительными этнографическими данными, Вроде того факта, что у Дагомейского короля имелся особый полк женщин-воительниц, или с неверно понятым им мат-
364
365

риархатом,
т.е. счетом родства по матери, несомненно,
весьма распространенным у дикарей и
варваров, но отнюдь не од. нохарактерным
с господством женщин. Ведь и при
материнстве первенствующее место
занимает мужчина, только им является
не отец, а брат матери: дядя.
Еще опаснее поспешных выводов фактические ошибки. Одновременно писавший с Бахофеном Мак-Ленан, содействовавший не менее, если не более его, установлению верной точки зрения на ранние периоды в развитии семьи и брака, в то же время вовлечен был в весьма опасную фактическую ошибку. Он нашел у некоторых племен древности и в ранних свидетельствах о быте дикарей указание на то, что новорожденные девочки часто убиваются их родителями. Мак-Ленан обобщил эти факты и стал говорить о них как об обычае женского детоубийства. Этот мнимый обычай дал ему возможность построить целую теорию для объяснения им же впервые указанных брачных запретов, не допускающих сожития не только с близкой родственницей, но даже с женщиной одного рода — сперва материнского, а затем и отеческого. Эту так названную им экзогамию он производит от недостатка женщин в роде ввиду их истребления вслед за рождением; она является у него, в свою очередь, причиной того, что древнейшим способом заключения брака был будто бы насильственный увод невесты женихом. В числе фактов, всего более наведших его на мысль о господстве женского детоубийства, имеется и распространенная якобы у сванетов практика щадить новорожденных мальчиков и убивать девочек. Мне пришлось проверить это свидетельство, и из моих расспросов оказалось, что при недостатке средств к жизни сванеты убивают одинаково и мальчиков и девочек; в старые же годы больше убивали девочек, потому что при своих набегах соседние племена обыкновенно уводили их в плен; другими причинами, побуждавшими сванетов убивать преимущественно девочек, было, с одной стороны, желание избегнуть больших затрат, неизбежных при выдаче дочери замуж и приведших к убеждению, что девушка скорее уносит достаток из дому, чем приносит его; а с другой стороны, суеверное представление, будто за всякую убитую девочку небо посылает сванету мальчика. (См.мой «Закон и обычай на Кавказе», т. II.)
Таким образом, сванетская практика находит себе объяснение в случайных, местных и временных причинах, а не в каком-то общем законе. Давно замечено, что фактические ошибки более опасны, чем логические, легко исправляемые последующими работниками. Верность этого замечания подтвердилась и в данном случае. Тогда как в действительности женщина в период, предшествующий возникновению рабства и земельной апроприации, является едва ли не лучшим среД-
ством для того, чтобы обеспечить тому или другому роду перевес над соседями, в смысле увеличения его личного состава, с помощью привлекаемого в ее семью затя-работника и происходящего от их союза потомства, — Мак-Ленан установил да ее роль в первобытном обществе тот совершенно неверный взгляд, что она обуза, от которой все желают избавиться.
Даже априори кажется непонятным, как может общераспространенность обычая детоубийства иметь иное последствие, помимо прекращения человеческого рода? Непонятно также, как при его господстве могло бы установиться то предпочтение союзов, заключаемых с родственницами, — так называемая «эндогамия», которую Мак-Ленан признал наиболее старинным порядком супружества. Очевидно, что и все дальнейшие выводы, делаемые шотландским этнографом на основании гипотезы широкого распространения детоубийства девочек, неверны. Ошибочна и та точка зрения, что похищение невест было некогда общераспространенным и, вероятно, наиболее старинным способом заключения брака или что обычай, запрещающий брак с родственницами, вытекает сам собою из практики похищения невест.
Я укажу сразу, какие основания мы имеем для того, чтобы предполагать широкое распространение, на первых порах, брака отработком невесты. В глазах мужских родственников девушки, прежде всего брата, выдача ее замуж может быть средством обеспечить семье дарового работника и одновременно увеличить оборонительные ее силы. Она может также облегчить неженатому брату получение невесты в обмен на собственную сестру. Таким образом, у многих дикарей возникает обычай меняться невестами, не выходя из границы известных семей и родов. Это, в свою очередь, может повести к предпочтению браков с чужеродками бракам с родственницами по крови, т.е. положить начало так называемой экзогамии. Мы не станем долее останавливаться на этом вопросе, который подлежит еще рассмотрению в одной из следующих глав, и перейдем непосредственно к анализу тех методологических приемов, необходимость которых вытекает из самого характера материала, каким располагает генетическая социология. Этот материал, как мы видели, двоякого рода: этнографический и историко-легендарный.
По отношению к этнографическому материалу желательной является возможно большая его полнота, а для историко-Легендарного — наиболее правильное его толкование.
Опасность, с одной стороны, лежит в обобщении частного Факта, с другой — в построении неверной гипотезы о действительном источнике сказания, потерявшего ныне всякий с*яысл и значение, но способного пролить свет на наше °тдаленное прошлое. Эта трудность еще возрастает оттого, что
366
367
по
указанию тех, кто собирал легенды
дикарей, сказания об их происхождении
обыкновенно преследуют определенную
цель истолкования и оправдания
установившегося у них порядка-а это
одно уже заставляет исследователя
относиться к ним с крайней осторожностью
и не считать первобытными те верования
и учреждения, об установлении которых
толкуется в предании. Нельзя, однако,
доводить нашего скептицизма д0
того, чтобы
совершенно игнорировать этот источник.
Без него нам было бы трудно восстановить
в уме целый период греческой жизни,
период, предшествовавший сложению
гимнов Иллиады. Бахофен и Мак-Ленан
дали нам прекрасный образец такого
пользования народным эпосом, в том
числе сказаниями о Тезее, об Эдипе, о
Мелеандре и т.д.; на основании его разбора
они впервые построили гипотезу
материнской семьи как предшествующей
по времени семье отцовской.
Но, повторяю," осторожность и сопоставление добытых выводов с теми, на которые наводит знакомство с этнографическими данными, — необходимые условия успешного пользования этим методом. Все больший и больший скептицизм по отношению к нему объясняет нам причину, почему в новейших работах по генетической социологии этнографический метод берет решительный перевес над всеми прочими. При пользовании им делается в наши дни попытка внести ту определенность и точность, какую дает простой подсчет явлений.
Этим подсчетом занимается, как всем известно, статистика; вот почему Эдуардом Тэйлором и было предложено распространить на этнографию метод статистический. Тэйлор рисует себе дело в следующем виде. Исследователь собирает факты, доказывающие существование известного верования или обычая у определенного числа народностей. Если рядом с ними имеются такие, в быте которых отсутствует это верование или этот обычай, то и этим племенам следует сделать подсчет. Разность между обеими цифрами укажет, будто бы, какие порядки нужно считать господствующими, а какие исключением из общего правила.
Но для того, чтобы статистический метод, понимаемый таким образом в довольно узком смысле, способен был установить в нашем уме представление о том, что известное верование или известный обычай действительно являются господствующими, необходимо было бы иметь уверенность, что ни одна народность не обойдена исследователем и что относительно всех и каждой из них уже имеются одинаково подробные данные по занимающему его вопросу. - Очевидно, что цифры в несколько десятков и сотен народностей, практикующих тот или другой обычай, не представляют собой И десятой части всех тех, которые следовало бы принять в расчет
При установлении общего вывода и которые нельзя было Принять во внимание по недостатку достоверных свидетельств. Об уроженцах внутренней Африки мы стали приобретать определенные данные лишь за последние двадцать-тридцать дет, и насколько спорны или, по крайней мере, еще недавно были спорны наши данные об обычаях негритосов Австралии, доказывает обширная литература, положения которой более или менее опровергнуты недавней работой Спенсера и Гиллена. До и совершенно независимо от полноты этнографического материала приложение статистического метода к этнографии встречает свои трудности в том факте, что, тогда как статистика имеет дело с хорошо определенными единицами, например, с числом рождений, — единицы, которыми орудует этнография, далеко не имеют такой определенности и далеко не тождественны между собой. Можно недоумевать, считать ли за одну единицу или за несколько обычай или верование, распространившееся лучами на широкое пространство в силу подражания. Наконец, из того обстоятельства, что известный обычай более распространен, чем обратный, нельзя сделать никакого определенного вывода о том порядке преемства, какой существует между обоими. Да и как можно теперь применять статистический метод, когда многих племен, недавно многолюдных, уже не существует; так, абхазцы при генерале Евдокимове были одним из численных племен черноморского побережья Кавказа, а теперь выселились или вымерли. Много и других племен постигла та же участь. Вспомним о жителях Огненной Земли и об остяках. А между тем эти племена по своим верованиям и обычаям представляли большой интерес для сравнительной этнографии. Из всего сказанного следует, что мы не можем придерживаться в этнографии статистического метода, а должны собирать у всех и каждого из народов их архаические черты и из их сравнения строить наши выводы. Несомненно, например, что более значительно число народностей, у которых счет родства идет по отцовской линии и отец передает сыну имя и имущество, чем число племен, у которых счет родства ведется от матери, у которых ребенок принадлежит к ее роду и наследует от ее родственников. Но значит ли это, что последний порядок всегда был исключением? Отнюдь нет: достаточно указать на тот, факт, что до сих пор в обществах, придерживающихся начал материнства, Mbi в состоянии наблюдать переход к счету родства по отцу, но что обратного преемства ни разу не было отмечено. Как Не прийти на основании этого к тому выводу, что счет родства Но матери предшествует счету его по отцу?
Недавние попытки применить статистический метод к ЭтНографии оказались успешными при соблюдении условия самого детального изучения различных сторон жизни тех
368
369
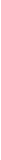
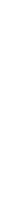
народностей,
в быте которых приходилось искать
ответа на вопрос о причинах наличности
или отсутствия известного явления.
Едва ли не самой удачной попыткой в
этом направлении надо считать ту,
которая была сделана Нибором в применении
к вопросу о распространении рабства.
Но для того, чтобы объяснить причину
наличности или отсутствия его у тех
или других народностей, автору пришлось
изучить и хозяйственный их строй и
их отношение к имуществу, и положение
у них женщин, и целый ряд других сторон
их общественного уклада.
Только под условием такого глубокого проникновения Нибора во все сферы жизни дикарей явилась возможность объяснить причину, по которой охотничьим племенам рабство более или менее неизвестно, а если и существует, то служит не одним целям производства, а, например, также удовлетворению запроса на роскошь или как средство увеличить оборонительные силы племени; и почему рост его тесно связан с развитием торгового обмена, с близостью к морю, всего же более с успехами земледелия и апроприацией недвижимых имуществ частными лицами.-
Не задерживаясь долее на этом примере, ввиду возможности вернуться к нему при изучении роста собственности, мы остановимся в настоящее время на рассмотрении причин, не позволяющих нам довольствоваться одним историческим материалом при изучении древнейших верований и древнейших учреждений. Если полагаться на некоторых сравнительных историков права, в том числе на Макса Мюллера и Рудольфа Дареста, сравнительная этнография находится еще в периоде противоречивых теорий, с которыми историку права нечего считаться, тем более что в его распоряжении имеется несравненно более достоверный материал старинных кодексов и юридических сделок, чем случайные наблюдения путешественников, которыми будто бы принуждены довольствоваться этнографы.
Сделанные за последнее время открытия старинных законов Вавилона, Египта и некоторых древнейших греческих государств, например Кортины на острове Крит, позволяют нам заглянуть в столь отдаленное прошлое, как за 2250 лет до Р.Х., — эпоха, к которой относится законодательство Гамураби, переданное нам каменной плитой-стеллой, открытой в Сузе в 1901 году. Но стоит только познакомиться с содержанием этих древнейших памятников, чтобы вынести впечатление об относительной развитости описываемых ими порядков.
Как бы баснословны ни были утверждения браманов о древности их юридических памятников, нам все же приходится отнести первоначальную редакцию свода Ману за тысячу двести лет до Р.Х. Моисеево законодательствр (близость которого к
законам, обнародованным Гамураби и нашедшим выражение себе в только что упомянутой стелле в Сузе, может быть доказано) на целых пятьсот лет должно быть признано древнее первоначальной редакции индусских сводов. Если прибавить, что первые по времени записи магических заклинаний, религиозных гимнов и обрядов у индусов восходят к эпохе, предшествующей появлению их законодательных памятников, что в Египте «Книга мертвецов», проливающая такой свет на ранние представления о загробной жизни, также восходит за тысячелетия до нашей эры и что кодекс Амазиса, нашедший, как думает Ревилью, подражателей даже в составителях законов XII таблиц в Риме, не говоря уже о греческих законодателях с Ликургом и Солоном во главе, был реформой более старинных юридических порядков, то невольно возникает в уме вопрос: почему не искать в этих ранних источниках ближайших указаний на отдаленное прошлое человеческих сообществ? Но даже беглого знакомства с только что указанными памятниками достаточно, чтобы породить сомнение в пригодности их служить вышеуказанной цели. Ведь сам факт появления письменности свидетельствует о продолжительном разрыве со всякой первобытностью, о столетиях и тысячелетиях, протекших со времени первоначального образования тех племен и народностей, записи которых нам приходится изучать. Как не признать также при простом сопоставлении быта современных дикарей с тем, какой рисуют нам вышеуказанные памятники, что народы, их создавшие, перешли уже к сравнительно высоким стадиям общественности. Возьмем для примера закон Гамураби, несомненно древнейший из всех тех, которые дошли до нас. Одно уже то обстоятельство, что в этом законе при уголовной оценке преступлений принимается в расчет различие случайного и умышленного акта, что к ответственности призываются одни только люди, а не животные, как, например, в древнем греческом праве, что кровное возмездие родственников уже уступило место карам, налагаемым властью, — очевидно устраняет возможность искать в нем указаний на процесс зарождения древнейших юридических представлений.
В свою очередь, ранние законодательные памятники Египта и Китая уже устанавливают различие между женой, занимающей в семье равное положение с мужем, и женой, занимающей второстепенное место в его семье, своего рода первенствующей любовницей — порядок, который мы встречаем У некоторых кавказских племен, например у осетин. Нужно ли доказывать, что такие юридические отношения не могут считаться первобытными. И в своде Гамураби мы встречаемся с существованием двоякого рода жен: жены равного с мужем Положения и признаваемой законом любовницы.
Возьмем, с другой стороны, религиозные книги браминов,
370
371
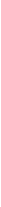

и
не только Риг-Веду, но и почитаемую
более старинной Атарва-Веду, или сборник
магических заклинаний и обрядов быть
может, возникших ранее сложения индусской
мифологии' Какой свет проливают они на
экономический, общественный религиозный
и юридический быт современных им
арийцев? Циммерт, Шрадер и в новейшее
время Виктор Анри, g
предисловии
к изданной им книге о магии в древней
Индии отвечают нам на этот вопрос
картиной порядков, которым' во всяком
случае, недостает первобытности. Народ,
создавший эти памятники, уже умел
считать до сотни и, быть может до тысячи,
тогда как многие из современных дикарей
едва насчитывают до двадцати, а то и
менее. Способность к такому счету одна
уже допускает предположение о том, что
древние арийцы владели обширными
стадами, а из самих указаний памятников
можно заключить, что им известна была
практика впрягать быков в тяжелые,
поставленные на колеса повозки. Они
умели пользоваться руном овец, — их
пищу составляло коровье молоко и мясо.
Лошадь уже встречается в числе
доместицированных ими животных, хотя
и не служит еще для верховой езды. Само
земледелие им далеко не чуждо; если
обработка поля плугом не может быть
доказана по отношению к ним, то нет
сомнения, что им была известна практика
посева злака, довольно близкого к нашему
ячменю. Если виноградная лоза была им
неведома, то опьяняющее воздействие
оказывал на них сок растения, известного
под названием «soma»
и послужившего
отправным пунктом для целого культа,
одно-характерного (как показал, между
прочим, русский санскритолог
Овсянико-Куликовский) с культом Вакха.
Из текста тех же Вед можно прийти к заключению, что их современники знали употребление глины для горшечного дела, умели производить пряжу из растительных и животных волокон и сшивать кожи, служившие им одеждой. Они перешли уже от палатки и сделанной из листвы хижины к более прочным постройкам из деревянных досок и срубленных ими стволов; они знали также способ производить огонь с помощью трения и отводили ему почетное место в самом центре своих жилищ, на домашнем очаге. Правда, они не умели еще утилизировать его для обработки металлов, и из числа последних одна медь, отнюдь не железо, была распространена в их среде. На это указывает, между прочим, то обстоятельство, что в жертвоприношениях даже римских жрецов — фламинов орудием служил не железный, а медный нож, и железо вообше было изгнано из употребления при совершении индоевропейских литургий.
Общественный строй арийцев также далеко отошел оТ дикости и варварства. Если некоторые исследователи, в тоМ числе Всеволод Миллер, сумели открыть в гимнах Атарва-Ведь
темные указания на порядки, ничего не имеющие общего со счетом родства в мужской линии и с запретом брачных уз между братьями и сестрами, то несомненно также, что эти намеки касаются фактов переживания. Большинство последних встречается, притом не в среде завоевателей-арийцев, а между покоренными им дравидийскими племенами. Позднейшим исследователям — Циммеру, Шрадеру и Виктору Анри — кажется поэтому, что матриархат, точнее, счет родства по одной женской линии или совершенно не был известен арийцам Индии, или представлялся уже пройденной ими стадией развития в момент редактирования их священных книг.
Семейному быту, построенному на началах отцовства, а не материнства, соответствует и общественное устройство, в котором рядом с немноголюдными поселками встречаются если не города, то городища или укрепленные стоянки, достаточно обширные, чтобы доставить в случае нужды приют и людям, и скоту. Эти местные союзы подчинялись общему вождю и поддерживали между собой известную связь под начальством избираемого лица, носившего наименование reg или rego, имя, от которого произошли, в равной степени, и индусский раджа, и римский rex. Хотя кровная месть еще продолжала решать, как общее правило, столкновения частных лиц и их семей, но древними арийцами признавалось также магическое действие присяги и испытаний огнем и водой (так называемых ордалий). Что касается религиозных верований и культа, то наряду с анимизмом, общим арийцам с самыми отсталыми народностями мира, наряду с этой верой в души усопших родителей (индусские pitris, иранские fravashi, римские manes, славянские домовые и т.д.), мы встречаем культ божеств — покровителей и творцов мира, прежде всего Неба, отца всех живых существ (культ его сохранился, в культе санскритского Diays pitar греческого Zeys poter, римского Juppiter). Культ огня, который на санскритском языке обозначается и передается однокоренным с нашим словом «agni», принадлежит, несомненно, к числу столь же древних, как и культ Неба-отца, что в свою очередь объясняется и трудностью добывания огня Первичным способом трения, и получаемой от него пользой: последняя побудила к поддержанию огня искусственно, как Думает Анри, в пределах каждого рода или клана, особо Приставленными к тому лицами, позднейшими представительницами которых и были римские весталки. Этой важностью °Шя и трудностью его добывания объясняется одновременное Повторение и в греческой и в индусской мифологии сказания 0 герое-короле, приносящем-с собою огонь и наделяющем им в Греции эллинов, а в Индии арийцев. В Греции этим героем Является Прометей, в Индии — король Матава.
372
373

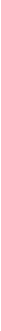
К
числу божеств, по всей вероятности,
зародившихся- у арийцев еще до момента
их расселения, надо отнести и ту пару
Ашвинов, которая индусскими мифологами,
в числе их Всеволодом Миллером,
отождествляется с Солнцем и Луной. В
греческой мифологии также встречаются
парные божества — Кастор и Поллукс.
Анри справедливо замечает, что нельзя
с точностью определить, что понимали
под этими божествами древнейшие арийцы,
— несомненно, однако, что в них видели
каких-то лучезарных покровителей,
подобие которым встречается, помимо
названных мифологий, и в германской,
и в литовской. Эта возможность отметить
существование в религиозных верованиях
арийцев не только общего им со всеми
первобытными народами культа предков,
но и веры в мировых богов — покровителей
и творцов Неба, Огня, небесных светил,
очевидно, не позволяет искать у них
одних зародышей религиозной мысли,
а наоборот, вызывает с нашей стороны
признание довольно высокого уровня
этой мысли. Это убеждение еще
усиливается при изучении характера
самого их культа: рядом с домашним мы
встречаем у арийцев и такой, органами
которого служит обособившийся класс
лиц, обозначаемых на санскритском
и латинском языках однокоренными
терминами flamen-brhameu.
Это
обстоятельство заставляет Виктора
Анри признать общим предком для римских
и индусских жрецов кудесника, которого
некоторые индоевропейские племена
обозначили словом, смысл которого —
«говорить уважительно». То обстоятельство,
что у римлян и у индусов при обозначении,
у первых — верховных жрецов, а у вторых
— великих мифических мудрецов,
впервые открывших людям богов и
изобретших жертвоприношения, —
употребительны термины, выражающие ту
же мысль — «проведения пути или моста»
(pathi-krt
и pontufeix),
дает повод
думать, что уже у древних арийцев
обособились зародыши того класса, за
которым признается посредничество
между миром земным и миром небесным.
Само жертвоприношение не имеет у арийцев
того характера, какой оно носит у народов
диких и варварских, придерживающихся
начал тотемизма. Если к этим последним
может быть приложена теория Робертсона
Смиса, объяснившего источник
жертвоприношения у семитов желанием
членов тотема войти в ближайшее общение
с избранным ими зверем-покровителем и
приобщиться к его природе однажды в
год повторяющимся пиршеством, на котором
пищей служит этот запретный в остальное
время зверь, то у древних арийцев,
насколько можно судить по содержанию
их священных книг» совершенно отсутствует
всякое представление подобного рода.
Они нимало не задаются мыслью о
возможности войти в общение с
божеством-покровителем путем пролития
его крови. В Ведах кровь вообще носит
характер «нечистого отброса»,
который вместе с плевелами и экскрементами состоит в распоряжении дьявола.
Итак, в арийском культе нет никаких следов тотемизма. «Наибольшая уступка, какая может быть сделана этой в настоящее время модной теории, — говорит. Виктор Анри, — сводится к признанию, что индоевропейцы или арийцы произошли от дикарей, придерживавшихся начал тотемизма; но мы застаем арийцев в период времени, когда эта фаза настолько осталась позади, что сама память о ней исчезла».
Принимая во внимание все сказанное, мы необходимо приходим к заключению, что ни в раннем законодательстве семитов, законах Гамураби — древнейшем из всех дошедших до нас сводов и даже отдельных законодательных норм, ни в первых по времени сборниках религиозных обрядов, магических заклинаний, гимнов и сказаний нельзя найти материалов для восстановления в уме картины первичных стадий общественности.
Древнейшие памятники не ставят нас лицом к лицу с генезисом семьи, рода, государства, религии, собственности и т.д., очевидно потому, что весь этот процесс эволюции должен был совершиться задолго до появления письменности и возникшей с нею возможности передачи потомству религиозной догмы или юридической системы. Но в древнейших памятниках письменности и права, как и в более поздних по времени, но столь же архаических по содержанию, религиозных кодексах и сборниках гимнов и заклинаний, какими являются, например, в Индии Веды и свод Ману, а в Древней Греции — народные эпопеи, связанные с именем Гомера, — можно найти ряд пережитков. Они и раскрывают перед нами если не все, то по крайней мере некоторые стороны более старинных порядков. Средневековые источники права, такие, как жития святых, хроники, эпопеи, сказки и т.д., дают не менее обильный материал. Весь он подлежит изучению. Выводы, добытые этим путем, должны быть сопоставлены с теми, какие дает нам сравнительная этнография. И из такого сопоставления У нас получится уверенность и в архаичности известных норм и верований, и в их распространенности в отдаленные периоды жизни человечества. Явится также возможность установления известного логического, а потому и исторического, преемства Различных систем верований и общественных порядков у отдельных народов. Такие восстановления целых эпох по Уцелевшим следам и по аналогии, какую эти следы представляют с порядками, доселе держащимися у тех или других отсталых народностей, требует от исследователя двух, редко Когда встречающихся в одном человеке способностей: созидательной, немыслимой без научной фантазии, и аналитической, требующей самого строгого критического отношения к фактам
374
375
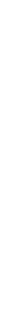
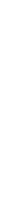
и
к делаемым из них выводам. Немудрено
поэтому, что генетической социологии,
несмотря на ее юношеский возраст
приходится уже считаться со многими
гипотезами или системами, отошедшими
или отходящими в область прошедшего.
Таковы, например, гипотеза о первобытной
гинекратии, или господстве на первых
порах женщин над мужчинами, гипотеза
об универсальном распространении
тотемизма, или обычая производить себя
и своих родственников от того или
другого зверя или растения. Оставлены
и теория о развитии культа животных и
растений из этого универсального
тотемизма, и теория, выводящая
жертвоприношение из обычая нарушать
однажды в году установившиеся запреты
вкушать на общем пиршестве от мяса или
плодов определенного зверя или растения.
Вместо того чтобы останавливать внимание читателя на разборе всех этих' теорий, я постараюсь представить в систематическом изложении те положения, которые всего более могут быть обоснованы фактическими данными и отвечают психическому уровню первобытного человечества и его материальным нуждам.
Одним из условий первобытности тех или других порядков будет для нас близость их к тем, которые существуют в общественной жизни высших пород животного царства, так как трудно допустить, чтобы в исходный период общественного развития человечество стояло на значительно низшей или высшей ступени, чем та, какую занимают, например, антропоидные обезьяны. Отсюда логически вытекает для нас необходимость познакомиться, хотя бы в самых общих чертах, с теми выводами, к которым пришли биологи и социологи, занимавшиеся вопросами об обществах животных.
Другим условием правильности выводов будет их согласованность между собой. Очевидно, что нам нельзя признать первичными такие порядки, какие стоят в прямом противоречии или с низким уровнем психической деятельности, необходимо составлявшей особенность первобытного человечества в той же мере, как и современных дикарей, или с материальными условиями его и их жизни. Нам нельзя будет, например, говорить о существовании страсти к накоплению и образованию запасов ранее изобретения способов добывать огонь, то есть способов препятствовать истреблению пищи влиянием времени; нельзя будет приписывать первобытному человечеству понятие о едином Боге, творце мира и людей, беспристрастном судье и карателе зла на земле, так как такое понятие для них слишком возвышенно. Роковой ошибкой было бы также всякое злоупотребление логикой, всякое допущение, что из одного факта наличности тех или других условии, экономических, религиозных, политических и т.д., необходимо
вытекают и все остальные. Монизм, в данном случае, сводился бы на практике к тому, что французы называют «симплизмом», т.е. к наивному упрощению задачи, к сведению ее, по верному замечанию Фридриха Энгельса, к тому уравнению с одним неизвестным, о котором, по-видимому, мечтали марксистские культур-историки. Я надеюсь показать, что даже такое явление, очевидно, экономического характера, каким надо считать апроприацию предметов природы, из чего со временем развивается собственность, стоит в самой тесной связи с психическими воздействиями, со страхом магической силы, заключающейся будто бы в предметах, бывших или доселе состоящих в тесном отношении к данному лицу. Я познакомлю читателей в одной из дальнейших глав с той ролью, какую играют «табу» или религиозные запреты в сфере чисто экономических отношений. Игнорировать влияние, какое столкновения отдельных племен между собой, сопровождаемые завоеванием и подчинением, имеет на возникновение, например, сословий и классов, было бы не менее ошибочно, чем говорить об их возникновении вне всякой зависимости от разделения труда и накопления достатка. Все стороны общественной жизни тесно связаны между собой и воздействуют друг на друга. Раскрыть это взаимодействие в прошлом и объяснить зарождение верований и учреждений и составляет ближайшую задачу всякого социолога, всего же более того, кто посвятил свой труд генетической социологии.
Кистяковский Б.А.
