
- •I. Предмет, задачи и структура социологии
- •Лидмепфельд шф.
- •Природа социологии. Отношение ее к
- •Философии истории, этике и психологии.
- •Социология и учение о социальной жизни
- •Животных. Социология и статистика1
- •Изучение общественной жизни. Основные вопросы и зддачи социологии. Ее научное построение и направление1
- •1 Сущность социологии1
- •Социология и психология1
- •Кареев н.И. О значении психологии для общественных наук2
- •Статистика и социология1 предисловие
- •Национальных движений
- •Немного статистики
- •Южаков с.Н.
- •О методе в социологии1
- •1. Наблюдение и опыт
- •2. Опыт
- •3. Анализ
- •5. Вывод
- •6. Предположение (гипотеза)
- •8. Обобщения
- •Особые социологические методы
- •1. Сравнительно-эволюционный метод
- •2. Метод пережитков
- •3. Метод тенденций
- •4. Метод диалектический
- •5. Метод аналогический
- •Законы статистические
- •«Русская социологическая школа» и категория возможности при решении социально-этических проблем1
- •При исследовании социальных явлений
- •Хвостов в.М. Метод социологии1
- •Основные положения эмоциональной теории эстетических и этических явлений. Два вида обязанностей и норм1
- •§ 241. В силу долгового отношения кредитор имеет право
- •§ 242. Должник обязан исполнить действие так, как это соответствует требованиям доброй совести и обычаев гражданского оборота.
- •Науки об общем и науки об индивидуальном1
- •Необходимое и должное в культурном творчестве1
- •1 Бухарин н.И.
- •III. Отраслевая социология
- •Размещение по квартирам представителей различных профессий в составе петербургского населения1
- •Материалы для наблюдения над общественно-экономической жизнью русского города1
- •Ленин в.И.
- •Число выборщиков
- •Число думских депутатов:
- •1. Производство и потребление косвенные
- •2. Производство и потребление прямые, непосредственные
- •Или сектантстве
- •Семейный и домашний быт сектантов
- •Тенишев в.Н.
- •Б. Местные условия жизни крестьян
- •Вопросник1
- •II. Рабочие на фабрике
- •III. Условия труда
- •V. Рабочий день
- •VI. Частная торговля
- •XI. Комсомол
- •XIV. Культшефство
- •XV. Селькоры
- •XVII. Легенды и слухи
- •II. Теория и метод в социологии
- •III. Отраслевая социология и конкретные социологические исследования. Программы. Анкеты
- •129110, Москва б. Переяславская, 46
Необходимое и должное в культурном творчестве1
Природу часто противопоставляют социальному миру. В природе все необходимо, все совершающееся в ней происходит согласно со строгой закономерностью; поэтому для нее все безразлично: она одинаково порождает добро и зло, прекрасное и уродливое как равно необходимые явления. В противоположность этому в социальном мире, благодаря человеческому сознанию и воле, господствует принцип свободы; здесь создаются оценки и устанавливаются цели, а потому здесь идет
'Из кн.: Кистяковский Б.А. Социальные науки i( право. Очерки по Методологии социальных наук и общей теории права.' М., 1916.
376
377
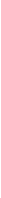
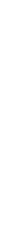



неустанная
борьба со злом и несправедливостью,
здесь планомерно творится и
осуществляется добро.
Для уяснения некоторых черт социально-научного познания нам тоже приходилось прибегать к этому противопоставлению. Но нельзя забывать, что оно имеет только относительное значение. Безусловно, противопоставлять социальный мир природе невозможно. С одинаковым правом социальный мир можно и включать в природу, рассматривая его как часть ее. Ведь основание социального мира составляют стихийные явления, которые обусловлены причинными соотношениями и происходят в силу необходимости. Поскольку, следовательно, мы имеем дело со стихийными процессами в социальном мире, никакой разницы между природой и общественной жизнью нет.
Разница между социальным миром и природой начинается там, где обусловливающим элементом является сознание человека. Оно создает оценки, устанавливает согласно с ними подлинно непреложные цели. Социальный процесс и превращается в особый мир благодаря участию в нем сознательной деятельности человека, вносящей в социальные отношения разумность, гармонию, свободу и справедливость. Сознательная и разумная цель сперва робко пробивается через бессознательную стихию общественной жизни, затем становится рядом с нею и, наконец, получает преобладание над нею. Ничего соответствующего этому процессу в природе, конечно, нет; цели окончательно изгнаны трезвой научной мыелью из области природы еще в XVII .столетии, и основное положение современного естествознания гласит: "природе чужды какие бы то ни было цели".
Но природа нам дана не только в непосредственном восприятии, рисующем нам ее неодухотворенной стихией, поприщем слепых и непреодолимых сил, айв стройной системе понятий, выработанных естественными науками. Мы представляем себе теперь природу даже по "преимуществу такой, какой ее изображает естествознание. Однако, в свою очередь, естествознание есть продукт сознательной деятельности человека, и на нем также отражается многогранность человеческого духа. Правда, основным двигателем естествознания является стремление к бескорыстному познанию научной истины, т.е. к уразумению природы как она есть. Но наряду с этим его задача — "борьба с природой" и "победа над нею", т.е. подчинение ее человеческим целям. Человек в различных направлениях стремится овладеть силами природы и использовать их в своих интересах. Эта деятельность человека возникает задолго до зарождения науки, уже на первых ступенях культуры, когда человек приучается пользоваться огнем, строить свои прими-тивные жилища, создавать первые орудия и приручать домашних животных. С появлением и развитием научного знания
это примитивное приспособление к окружающему миру и использование его для своих нужд приобретает характер вполне планомерной и целесообразной деятельности. Само развитие научного знания исторически совершается в обратном порядке тому, в каком оно располагается с точки зрения его логической последовательности. Исторически предшествует не бескорыстное стремление к знанию ради знания, а искание практических и полезных знаний. Достаточно указать на то, что астрология не только старше астрономии, но и играла громадную роль в развитии ее в течение двух тысячелетий со времен египетских жрецов до конца средних веков, что химия зародилась и разрабатывалась первоначально в виде алхимии, а ботаника развилась из учения о лечебных травах. Правда, подлинно научное естествознание могло создаться только благодаря провозглашению самоценности научного знания как такового и освобождению его от обязанности служить практическим и утилитарным целям. Но это освобождение естественных наук от посторонних им целей не означало упразднения этих целей, оно лишь приводило к выделению их в особую область, т.е. к созданию отдельной специальной отрасли знания — технологии. Таким образом, это был процесс дифференциации, обособивший технологию от науки. В настоящее время на основе знаний, добываемых естественными науками, возвышается целая система технических дисциплин, причем почти каждой развитой отрасли современного естествознания соответствует опирающаяся на нее не менее развитая область технологии.
Методологические принципы, составляющие основание технологии, обыкновенно мало привлекают к себе внимание1. При изложении логических и методологических принципов научного знания на них иногда останавливаются сторонники философского позитивизма, но и они делают это лишь мимоходом и бегло. Основная точка зрения позитивистов, определяющая их оценку технологической методологии, заключается в том,' что в технологии мы имеем дело с чисто прикладным знанием. Этой характеристикой как бы признается окончательно и безусловно установленным фактом, что ничего нового и самостоятельного в идейном отношении технология не создает. Ее задача —
'Чрезвычайно характерно, что В.Вундт в своей трехтомной "Логике", Которая в третьем издании разрослась почти до двух тысяч страниц, и два Последние тома которой посвящены методологии отдельных научных дисциплин, даже не упоминает о технических дисциплинах. Технике он посвящает только несколько замечаний в третьем томе в связи с вопросами об исторических законах и о соотношении между теоретической и практической Политической экономией. Ср. Wundt W. Logik. 2 Auft. Bd. II. Abt.II. S.388 и 533. 3 Auft. Bd. III. S. 405 и 567. Интересные, но не совсем правильные замечания относительно техники можно найти у П.Наторпа. Ср. Natorp P. *°2ialpadagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft. 6 Auft. Stuttgart, 1909. S. 38-39, 80 ff.
378
379
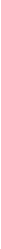
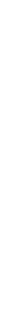

только
практически использовать и приложить
то знание которое вырабатывается
естественными науками1.
В действительности, однако, руководящий принцип технологии прямо противоположен руководящему принципу естествознания. Было бы недостаточно, если бы мы захотели свести эту противоположность лишь к тому, что естествознание стоит под знаком причины, а технология под знаком цели. Ведь то что кажется целью, не всегда является подлинно целью и не всегда отличается от причины: так, в душевных переживаниях цель представляет собою часто лишь психологическую транскрипцию причины. Наша повседневная деятельность, направленная к поддержанию нашего физического существования рисуется нам обусловленной только целями, которые мы постоянно ставим и осуществляем, хотя в действительности она определяется физиологическими и другими причинами2. Так же точно и технология, которая оперирует лишь с истинами, добытыми естественными науками, и приспособляет их к тому, чтобы служить житейским и будничным целям человека, может все-таки быть по своему методологическому существу тем же естествознанием, только преломленным в призме человеческих интересов. Таков приблизительно смысл утверждения позитивистов, что технология есть чисто прикладная часть естествознания. Но если сами по себе цели еще не свидетельствуют о том, что технология представляет собою нечто своеобразное в методологическом отношении, то более вдумчивое и внимательное рассмотрение ее задач и методов приводит к заключению, что она коренным образом отличается от естествознания. Ее задача отнюдь не в том, чтобы, подобно естествознанию, разрабатывать то, что совершается необходимо, и что, будто бы, отличаясь от естествознания лишь служением нашим интересам и намерениям, она только преломляется в нашей психике в виде целесообразного. Напротив, технология есть система знаний или теоретических построений, показывающих, как созидать нечто безусловно новое. Только в процессе своей работы она пользуется знаниями, добытыми естественными науками, но та точка зрения, с которой она подходит к ним, та переработка, которой она подвергает их и, наконец,
'В этом отношении чрезвычайно характерной является последняя глава "Логики" Дж.Ст.Милля, посвященная вопросу "о логике практики или искусства (с включением морали и политики)". Сущность взгляда Дж.Ст.Милля на искусство или технику резюмирована в словах: "всякое искусство состоит из истин науки, расположенных в порядке, требуемом той или другой практической целью". Ср. Милль Дж. Ст. "Логика", стр.764 и ел. Итак, с этой точки зрения, технология не является самостоятельным знанием, а лишь иной группировкой естественнонаучного знания; все будто бы зависит от того, каК расположить одни и те же знания.
2Ввиду этого В.Виндельбанд считает нужным проводить различие между "истинной и ложной телеологией" (echte und falsche Teleologie). Cp-Windelband W. Einleitung in die Philosophie. Tibingen, 1914. S.166.
тот результат, который она создает, совершенно чужды естествознанию. Ведь техника, оперируя с тем, что необходимо совершается, создает долженствующее быть1. Основной методологический принцип технологии и заключается в том, чтобы исследовать и открывать, как созидать долженствующее быть, пользуясь необходимо совершающимся.
Благодаря технике человек преодолевает стихии природы и овладевает ими. Недоступные для него раньше океаны и моря, необъятные пустыни и горные вершины превращаются в пути для торгового оборота и часто служат даже местом прогулки и отдыха. Пространственные расстояния, казавшиеся раньше каким-то пределом для человеческих сил и возможностей, или сокращаются при помощи современных средств сообщения во много тысяч раз, или перестают существовать благодаря телеграфу и телефону. Весь земной шар становится поприщем человеческой деятельности, не только его твердая и жидкая поверхность, но и его атмосфера. Различные технические сооружения изменяют самый лик земли, даже ее почва преображается. Суть тех превращений, которые человек вносит в природу, заключается в том, что окружающая его природа перестает быть царством слепой необходимости и начинает служить долженствованию. Этот результат достигается техникой. Подлинный смысл техники особенно ярко обнаруживается на наиболее совершенных ее произведениях — на машинах, создаваемых человеком для удовлетворения самых разнообразных своих потребностей. В машине все действует безусловно согласно с законами природы, устанавливаемыми механикой, физикой, химией и т.д., но эти действия так целесообразно комбинированы и сплетены между собою, что в результате получается не необходимый продукт природы, а нечто долженствующее быть. Техника и должна преобразить всю окружающую человека природу как бы в одну сплошную машину, направляя действие сил природы к тому, чтобы и в материальном мире осуществлялось только должное.
Но если техника преображает мир материальный в мир Долженствования, то легко можно подумать, что нет никакой Разницы между природой и обществом. Ведь самое существование в социальном мире — это победа долженствования над слепой стихией общественной жизни, которая сама по себе Подчиняется лишь необходимости. Долженствование в социальной жизни имеет своего наиболее мощного и яркого носителя в праве. Следовательно, правовой порядок с первого взгляда
'П.Наторп идет слишком далеко, .утверждая, что ходячее понятие долженствования, а также хорошего и дурного, происходит из царства техники. По *г° словам: "Aus dem Gebiete der Technik stammt selbst der gemeine Begriff ?cs Sollens, des Rechten und Verkehrten, Guten und Schlechten; und doch waltet ln dem alien nur schlichte Kausalitat". Ibid. S. 39.
380
381
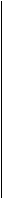
представляется
такой же машиной для переработки в
соци. альном мире необходимо совершающегося
в долженствующее быть, какие для
осуществления той же цели в материальном
мире создает техника.
Однако существует целая пропасть между долженствовани-ем, осуществляемым техникой в мире природы, и долженствованием, созидаемым этикой и правом в социальном мире1. Произведения техники только при своем возникновении тре-буют духовного напряжения и творчества, только изобретатель и отчасти конструктор духовно активны и творят. Напротив создаваемое ими есть машина, автомат и люди, приставленные к машине, должны подчиниться ей и сами действовать автоматически. Таким образом, хотя сама по себе техника продукт человеческого духа, хотя двигающий ею принцип есть принцип духовный — долженствование, все-таки своими созданиями она не одухотворяет человеческой жизни, а еще больше ее механизирует; она усиливает тот механический, элемент жизни, который уже изначально от природы в нее заложен.
Совсем в ином положении находится право. Действуя через сознание и психику человека, оно не может применяться и осуществляться автоматически. Все силы души должны участвовать в созидании, применении и осуществлении права — творческий порыв, запросы разума, напряжение чувства и усилия воли. Притом для права недостаточно духовной активности со стороны только законодателя, судьи и администратора. Напротив, каждый гражданин должен быть духовно деятельным в области права и по-своему творить его. С другой стороны, так как право проникает в жизнь благодаря неустанной психической деятельности и духовному творчеству всех членов общества, оно не механизирует жизни, хотя и упорядочивает ее.
Это громадное значение духовно-творческой деятельности для права способствовало в прошлом возникновению неправильных представлений о нем. Старая школа естественного права строила все свое учение о праве на этой одной стороне его, признавая ее единственной. Но сами по себе одни творческие порывы, запросы разума, напряжение правового чувства и усилия воли, созидая по частям много справедливого и доброго в социальных отношениях и содействуя реформе
'Стоя на монистической точке зрения, П.Наторп утверждает, что "noIJ?,TI?i, техники необходимо входит в конкретную этику" (in eine konkrete Ьш^ unerlasslich hineingehart). Ibid. S.80. Конечно, если говорить подряд о технике агрономической, железнодорожной, машиностроительной, воспитательной, пр вовой и душевно-нравственной, то можно в конце концов включить техни ^ и в этику. Но в таком случае техника перестает быть вполне определенн понятием. Напротив, для того чтобы сохранить за понятием техники присущ. ему смысл, надо противопоставлять технику в области материальной культур технике в области культуры духовной.
правового порядка, не в состоянии вполне побороть слепую стихию общественной жизни. Для этого нужно еще овладеть теми силами, которые действуют в обществе и в самом праве, причинно и телеологически обусловливая их. Каковы эти силы й как они действуют — этому учит общая теория права, как овладеть ими — это составляет один из предметов политики права. Только при полном теоретическом и практическом господстве над всеми силами, действующими как в обществе, так и в индивидуальной психике и обусловливающими правовой порядок, творчество в праве будет вполне плодотворным. Итак, правовой строй представляет сложный аппарат, в котором часть сил действует чисто механически. Однако для приведения в действие этого аппарата и правильной работы его требуется непрерывная духовная активность всех членов общества. Каждая личность должна постоянно внутренне и внешне работать над осуществлением и созданием права. Напряженная духовная деятельность личности претворяет в 1 социальной жизни необходимое в должное. Здесь совершается подлинное творчество.
« Кареев Н.И.
КАТЕГОРИИ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ
п и возможности в русской субъективной
СОЦИОЛОГИИ1 :
' (По поводу одной новой книги)
В вышедшей в свет в 1916 году книге Б.А.Кистяковского, ныне профессора Киевского университета, «Социальные науки и право", посвященной "методологии, социальных наук и общей теории права", есть одна большая глава, в которой "русская социологическая школа" обвиняется в подмене понятия Долженствования понятием возможности. В составе книги Проф.Кистяковского эта глава является перепечаткой прежней статьи автора, помещенной в сборнике "Проблемы идеализма", И я уже тогда, когда прочитал ее в этом сборнике, намеревался Подвергнуть критике высказанный автором взгляд, но мне это т°гда не удалось, теперь же, когда этот взгляд повторен в труде, За который автором получена докторская степень и который сам по себе заслуживает величайшего внимания, я просто считал своим долгом перед памятью одного из представителей
Из журнала "Русское богатство". 1918. № 4, 5, 6.
382
383
этой
школы, Н.К.Михайловского, на которого в
данном случае нападает Б.А.Кистяковский,
рассмотреть его аргументацию и снять
с писателя, понимавшего правду не только
как истину, но и как справедливость,
обвинение в том, что ему будто бы чужда
была категория должного.
Б.А.Кистяковский в вопросе о значении этического элемента в социальной философии занял позицию, довольно близкую к точке зрения "русской социологической школы", что можно сказать и о других его единомышленниках, приветствовавших возрождение естественного права; тем досаднее, что он стад в такое несправедливое, на мой взгляд, отношение к субъективной школе русских социологов.
"Более глубокое проникновение основы естественно-научного миропонимания, — говорит Б.А.Кистяковский, — заставило признать неудовлетворительность его, как всеобъемлющей системы ... Теперь и для него не подлежит сомнению то глубочайшее гносеологическое противоречие, которое возникает между признанием социальных явлений стихийно совершающимися и причинно обусловленными, т.е. необходимыми, и требованиями от человека деятельного участия в социальном процессе", — участия, которое "должно быть результатом разумного и сознательного выбора тех или иных действий во имя поставленного им себе идеала и исповедуемого им долга" (стр. 31). Правда, замечает несколько далее автор, русская социологическая школа "отказалась от крайностей научного позитивизма", т.е. от "исключительно естественно-научного миропонимания", но зато, думает он, — "лишь заменила его собственными измышлениями ненаучного характера" (стр. 32). Квалифицируя односторонний позитивизм как убогий и вредный в применении к познанию социальных явлений, Б.А.Кистяковский прибавляет, что каждый исследователь, становящийся на исключительно естествено-научную точку зрения в понимании дел человеческих "должен отрицать высшие ценности человеческой жизни — нравственный долг и идеал, так как им, наравне с другими высшими продуктами человеческого духа, нет места в области естественно-научных фактов" (стр. 33). Центральным принципом, "проникающим и объединяющим все современное естественно-научное миропонимание, является категория необходимости" (стр. 34), тогда как для той стороны социальных явлений, которая отличает их от явлений природы, изучаемых естествознанием, нужно применение категории долженствования (или справедливости)-Вот тут-то, по мнению критика, и начинается основной грех русской социологической школы.
Известно, что писатели этого направления были принципиальными противниками одностороннего естественно-научного объективизма в социологии, требуя внесения в нее еШе
384
социально-этического субъективизма, но Б.А.Кистяковский находит, что "у русских социологов лишь робко прорывалась иногда мысль, что для того, чтобы обосновать идеал, нужно доказать его принадлежность к сфере долженствующего быть" (стр.72). Категорию долженствования они, такова основная мысль автора, заменили категорией возможности. "Нормативная точка зрения, — говорит он, — была не только недостаточно известна Н.К.Михайловскому и следовавшим за ним русским социологам, но и чужда новому духу их теоретических построений" (стр.111). Для них "распределение всего совершающегося в социальном мире между двумя областями — возможного и невозможного, естественно упраздняло вопрос о долженствовании и необходимости, вместо принципа долженствования надвигалась идея возможности", вследствие чего "У русских социологов все прогрессивное, доброе, этическое, идеальное имеет своим источником возможность", и, таким образом, они "обусловливали идеал и прогресс на идее возможности" (стр.118). "Русские социологи, — говорит еще критик, — гордятся тем, что они внесли этический элемент в понимание социальных явлений и заставили признать, что социальный процесс нельзя рассматривать вне одухотворяющих его идей добра и справедливости. Но какая цена, — спрашивает он, — тому этическому элементу, критерием которого является возможноть?" (стр.119). Такому действительно странному пониманию он противополагает то, где осуществление идеала обусловливается не представлением о его возможности и, пожалуй, еще желательности (стр.118), но сознанием долга, повелительно требующего от нас содействия этому осуществлению.
Свой тезис о замене русской социологической школой категории долженствования идеей возможности Б.А.Кистя-ковский доказывает разбором целого рода отдельных мест в работах Н.К.Михайловского, в которых-де он "играет при объяснении социальных явлений доминирующую роль", признаваемую автором "характерной для всей русской социологической школы" (стр. 48), Н.К.Михайловский берется автором как представитель в данном случае всего направления (ср. стр. 53, 60, 98, ПО, 111), причем в одном месте у критика прямо сказано: "Н.К.Михайловский, а следовательно, и другие Русские социологи" (стр. ПО). Настаивая на том, что идея возможности доминирует в социологических трудах Михайловского (стр. 48, 53, 54 и др.), критик утверждает, что она Ложится в основу самого идеала русского социолога (стр. 61 11 118), между тем как по существу она является лишь "гибким ^РУДием для оправдания и объяснения чего угодно", а потому весьма удобна для тех, кто отрицает все безусловное даже й нравственном мире", тая в себе "высшую степень реляти-
13 з.ь ,ш 385
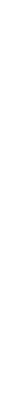 визма,
граничащую с полной нравственной
беспринципностью" (стр. 63). В
подтверждение крайнего релятивизма
Михайловского приводится его фраза:
"наука покончила с абсолютами"
(стр. 79 и 81). В общем, замена одного понятия
другим объясняется у критика "лишь
совершенным непониманием характера
нравственного долженствования,
несовместимого с другими категориями"
(стр. 92), или "совершенным непониманием
сущности этической проблемы" (стр.
94), иначе "недостаточной известностью
нормативной точки зрения" (стр. 111).
В своих,
как их автор назвал (стр. 32), "измышлениях"
Михайловский и вся русская
социологическая школа в его глазах
являются не только оригинальными, но
и единственными во всей истории
человеческой мысли (стр. 118). Никогда
еще, читаем мы далее, человеческий ум
не наталкивался на представление о
добре, как о чем-то, лишь возможном и
желательном, потому что для этого
релятивизм должен был быть доведен до
своей высшей формы развития, до
социального релятивизма, при котором
все высшие блага человеческой жизни
рассматриваются только как результаты
общественных отношений (стр. 119), т.е.
чисто стихийного процесса без
сознательного участия в нем человеческой
деятельности, руководимой идеями
добра, справедливости и долга.
визма,
граничащую с полной нравственной
беспринципностью" (стр. 63). В
подтверждение крайнего релятивизма
Михайловского приводится его фраза:
"наука покончила с абсолютами"
(стр. 79 и 81). В общем, замена одного понятия
другим объясняется у критика "лишь
совершенным непониманием характера
нравственного долженствования,
несовместимого с другими категориями"
(стр. 92), или "совершенным непониманием
сущности этической проблемы" (стр.
94), иначе "недостаточной известностью
нормативной точки зрения" (стр. 111).
В своих,
как их автор назвал (стр. 32), "измышлениях"
Михайловский и вся русская
социологическая школа в его глазах
являются не только оригинальными, но
и единственными во всей истории
человеческой мысли (стр. 118). Никогда
еще, читаем мы далее, человеческий ум
не наталкивался на представление о
добре, как о чем-то, лишь возможном и
желательном, потому что для этого
релятивизм должен был быть доведен до
своей высшей формы развития, до
социального релятивизма, при котором
все высшие блага человеческой жизни
рассматриваются только как результаты
общественных отношений (стр. 119), т.е.
чисто стихийного процесса без
сознательного участия в нем человеческой
деятельности, руководимой идеями
добра, справедливости и долга.
Конечно, русские социологи не были повинны в таком релятивизме, который "граничит с полной нравственной беспринципностью" (стр. 63), равносильной и социальному индифферентизму, да и автор этого не думает. Он сам признает, что у Михайловского были свои идеалы и что для него "критерием идеала являлось долженствование, а не возможность", но только происходило это "помимо его воли" и не так, "как он сам полагал" (стр. 89). Критику известна хорошо та связь, которая существовала между наиболее влиятельными представителями русской социологической школы и общественным практическим движением-семидесятых годов прошлого века, но ему кажется, что эти представители, "защищая свои идеалы, обращались к интеллигенции" не с призывом: "ты должна, следовательно, ты и можешь", а с призывом: "ты можешь, следовательно, ты и должна". Другими словами, будто бы никакой проповеди долга, хотя бы, например, формулированного Михайловским "долга интеллигенции перед народом" в данном идейном движении не было. "Даже не верится, — заявляет Б.А.Кистяковский, — что такое грандиозное движение практического свойства, имевшее такие героические проявления в жизни, получило столь жалкое выражение в социологических теориях" (стр. 72). Критик забывает, что между самим движением и выражавшей его социологической идеологией стояли цензура и другие "независящие обстоятельства", с одной стороны, и что не все в тргдашней русской
социологии было только выражением злобы дня. Если уже смотреть на грандиозное движение и на его героические Проявления в жизни как на нечто отражавшееся в социологической теории той эпохи, то нужно было обратиться не к #.К.Михайловскому, а к П.Л.Лаврову, действовавшему в нелегальной заграничной прессе, но и то неверно, будто вся русская субъективная социология была лишь теоретическим выражением общественного движения эпохи, как это, например, представлял себе Геккер, автор труда о русской социологии. Последняя разрешала и многие отвлеченные и, так сказать, вечные проблемы знания, отнюдь в этом отношении не отражая на себе того, что составляло злобу дня движения. Само это движение было идейным, проникнуто сознанием долга интеллигенции перед народом, а потому решительно нельзя согласиться с автором, когда он говорит об этом движении, как о стихийном (стр. 72). Он думает, что и содержание идеалов русской социологической школы, и понимание ею смысла социального процесса были даны ей целиком стихийным общественным движением 70-х годов и самой русской жизнью. Целиком! А все западные идейные влияния, философские, научные, публицистические и т.п.? Общественное движение 70-х годов было стихийным?! В каком смысле? В том ли, в каком автор вообще представляет себе социальные явления, поскольку они складываются в исключительно причинно-следственном процессе? Но ведь этого же не было, это не были "стихийные" массовые бунты, а движение, вытекавшее из интеллигентских недр, руководившееся идеей долга и известным идеалом. По мнению Б.АКистяков-ского, вся оригинальность русской социологической школы заключалась в "отстаивании всяких возможностей", причем ее представители "не были вожаками русской интеллигенции в современном им общественном движении, а только шли за ней" (стр. 72). По автору, "участие человека в социальном процессе должно быть результатом разумного и сознательного выбора тех или иных действий во имя поставленного им себе идеала и исповедуемого им долга" (стр. 31), что, разумеется, совершенно верно, а у нас будто бы выходило так, что происходило некоторое "стихийное общественное движение", в котором русские социологи отыскивали и "отстаивали всякие возможности" и вместе с тем не только не играли роли вождей, а лишь "доказывали возможность идеалов русской интеллигенции", строя, наконец, всю (sic!) свою социологическую систему "на категории возможности" (стр. 72).
Верна ли вообще эта картина, а в частности действительно ли центральную роль в русской социологии играет идея в°зможности, вытесняющая идею долженствования, и если *Фитик хоть отчасти прав по отношению к некоторым заявлениям Михайловского, то есть ли основания все взгляды его
386
U.
387

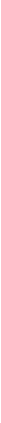 отождествлять
с учениями всей русской социологической
школы?
отождествлять
с учениями всей русской социологической
школы?
Первый замысел всей книги Б.А.Кистяковского, как сам он говорит в предисловии, "был продиктован методологическими соображениями", да и в подзаголовке она названа "очерками по методологии". Сооветственно с этим автора постоянно интересуют гносеологические проблемы. Если уже с этой стороны ему хотелось рассмотреть принципы русской социологической школы, то ему нужно было обратиться к изучению трудов не Н.К.Михайловского, а П.Л.Лаврова. Первый специально вопросами теории знания и логики науки не занимался, тогда как второй о них писал довольно много1. Б.А.Кистяковский сам находит, что сочинения Михайловского «крайне бедны точными формулами и общими определениями», тогда как Лавров, укажу я, наоборот, любил именно общие определения и точные формулы. Наконец, критику следовало бы принять в расчет и то, что Михайловский в своих писаниях далеко не был так систематичен, как Лавров. Между тем книга нашего критика не носит на себе следов знакомства с работами Лаврова, кроме «Исторических Писем», да и те цитируются в разбираемой главе только три раза (стр. 49,50 и 118) и все эти три раза с отметками, что указанные им страницы «Исторических Писем» нужно сравнить с такими-то местами в сочинениях Михайловского. Называя на стр. 61 К.Д.Кавелина «первым обоснователем теории личности в русской литературе», Б.А.Кистяковский совершенно игнорирует, что этот титул по праву должен был бы принадлежать не кому другому, как П.Л.Лаврову2, который разрабатывал эту тему с философской стороны и которому в начале шестидесятых годов вовсе не была чужда идея борьбы за права личности, что критик сам отмечает по отношению к Кавелину (стр. 623).
Кстати, по вопросу о теоретическом обосновании индивидуализма почтенный автор совершенно не прав, когда в другой главе своей книги (X: «Права человека и гражданина») утверждает, что оно нашло лишь очень скромное проявление в учении о субъективном методе. А вся «теория личности» Лаврова? А хотя бы «Борьба за индивидуальность» Михайловского и другие его работы, представляющие собою критику органической школы в социологии? Разве у обоих этих писателей нет теоретического обоснования индивидуализма по существу, а не с методологической только стороны? Автор
'В настоящее время выходит в свет Собрание сочинений П.Л.Лаврова, которое даст наконец возможность, не роясь в старых журналах, где он потом писал под разными псевдонимами или анонимно, познакомиться с тем, что им было написано по философии, по меодологии, по социологии и по этике-
2См.мою статью «Теория личности П.Л.Лаврова», изданную отдельной брошюрой в 1907 году и перепечатанную во II томе собр.соч. (1912).
оказывает мне большую честь, заявляя, что «в наиболее полном Л систематическом виде индивидуалистические идеи русской социологической школы выступают в трудах Н.И.Кареева» (стр. 499), но я по этому поводу могу только сказать, что труды 1^ои, в которых проявились означенные идеи, относятся к восьмидесятым годам прошлого столетия и что на них в этом отношении сказалось как раз влияние индивидуалистических элементов в социологии ПЛЛаврова и Н.К.Михайловского, как она сложилась еще в семидесятых годах. Во всяком случае, на русскую социологическую школу отнюдь нельзя распространить «равнодушие к правам личности, переходящее иногда во враждебность», о котором Б.АКистяковский говорит как о характерной черте интеллигенции семидесятых годов (стр. 623), хотя бы он ц был прав, что в прошлом нашей интеллигенции вообще было «притуплено правосознание» (стр. 620) и что временами наша народническая интеллигенция относилась равнодушно к гарантиям «личной свободы» (стр. 624). Пусть даже, как говорит Б.А.Кистяковский, наш индивидуализм был неполным и «частичным», поскольку в нем не выдвигался вперед «идеал правовой личности» (стр. 622), но он, индивидуализм, все-таки был присущ русской социологической школе, как в этической, так и в научно-теоретической постановке вопроса. Гоняясь, так сказать, за тем, где, когда, сколько раз Михайловский употреблял слова «возможное» и «возможность», он как бы проглядел ту защиту притязаний личности, которая проходит через ряд работ Михайловского. Притязание личности быть самоцелью, а не для осуществления целей, ей посторонних, и есть то, что лежит в основе этического отношения к личности и у Михайловского, и у Лаврова. Признание того, что личность может ставить себе цели по отношению к социальному процессу и своей деятельностью в таком направлении стремиться к их осуществлению и прямо ему содействовать, как раз было источником их «веры в роль личности в истории», за которую в середине девяностых годов так остро на них напали марксисты в лице П.В.Струве, признававшего личность «quantite negligeable».
Извиняюсь за это отступление от темы по поводу мнения нашего критика об отношении русской социологической школы к принципу личности, играющему большую роль в философии П.Л.Лаврова, которого Б.А.Кистяковский напрасно совершенно Игнорировал, взявшись характеризовать русскую социологическую школу с гносеологической и методологической точки 3Рения. «Теории познания» Михайловского он отводит «центральное место при анализе его учений», так как на эту же ^орию «опирается вся его социологическая система» (стр. J|~"50). Но верна ли или не верна гносеология этого представителя школы, критиком не доказано, что такова и гно-
388
389
сеология
всей школы вообще. Прежде всего, нужно
быд0
обратиться
к родоначальнику всего направления»
т.е. к Лаврову и не потому только, что
он был основоположником русской
субъективной социологии, но и по другим,
мною уже выше, указанным мотивам. К
сожалению, место не позволяет мне
сделать здесь эту работу1.
Вернемся теперь к категории возможности у Михайловского. Наш критик упрекает его в том, что он (и не только он) «пользуется по меньшей мере двумя различными понятиями возможности», не дав себе труда «остановиться и подумать над различными значениями, которые вкладываются в эту категорию» (стр. 58). Эти две возможности касаются или реального социального процесса, или человека, и первая в этом случае могла бы-быть названа объективной, другая — субъективной. «В латинском языке, — замечает автор, — в противоположность русскому и немецкому, существуют особые слова для этих двух значений возможности — possibilitas и potentia» (стр. 59). Итак, по самому же автору, вина, выходит, заключается не в русской социологической школе, а в русском языке, и напрасно он не хочет считаться с этим обстоятельством (стр. 95—98). Анализируя в другом месте те понятия, которые Михайловский имел в виду, говоря о невозможности (стр. 80 и след.), Б.А.Кистяковский приходит к тому выводу, что можно говорить о четырех ее видах, а именно: фактической, логической, этической и причинной (или реальной) невозможности, с подразделением последней на индивидуально-психическую, социально-экономическую и социально-психическую, причем этическую невозможность он называет понятием, специфически характеризующим научное мышление Михайловского и только доказывающим «совершенное непонимание им сущности этической проблемы», — понятием, вдобавок, так сказать, совершенно непредусмотренным современной логикой (стр. 94). На страницах, где произведен анализ словоупотребления Михайловского, много ценных замечаний со ссылками на Зигварта и Риккерта, как в другом месте по вопросу о понятии возможности сделаны ссылки на «Kategorienlehre» Гартмана (стр. 58—59), и с этой стороны у критикуемого русского социолога могут быть погрешности против требования от употребляемых им терминов совершенной определенности и точности, какую, на мой взгляд, можно было бы, наоборот, всегда найти у ПЛЛаврова. Опять повторяю, что к этому мыслителю и должен был бы обратиться наш критик для характеристики теории познания русской социологической
'Я мог бы остановиться здесь еще на обвинении меня самого в том, ч*0 я «обосновываю проповедуемый мною субъективизм, опираясь на категории возможности и невозможности» (стр.56), но не хочу придавать статье полемический характер.
лпсолы, а не к Н.К.Михайловскому, у которого, как он находит, «литературная фраза и стилистически законченный в своей внешней красоте оборот всегда перевешивают точность и определенность выражений» (стр. 67).
Н.К.Михайловский был не только социологом, но и публицистом, иногда говорившим даже не от своего имени, а от цмени Темкина, что мимоходом отмечается и критиком, в качестве же именно публициста он очень часто обсуждал вопросы, касающиеся будущего России. Сам Б.А.Кистяковский находит, что «решение вопроса о том или другом возможном будущем является наиболее типичной и оригинальной чертой текущей прессы» (стр. 36). Если наука рассматривает явления, ею изучаемые, «с точки зрения необходимых причинных соотношений между ними», публицистика к рассматриваемым явлениям применяет «точку зрения их возможного дальнейшего развития» (стр. 38). Эта последняя точка зрения, говорит автор, и проявляется главным образом по отношению к последствиям происшедших событий; здесь в прессе (публицистике) уместны лишь те или иные ожидания, те или другие гадательные предположения и та или другая степень уверенности в возможности той или другой комбинации, или того или другого стечения обстоятельств, которые повлекут за собой те или другие последствия», чем и оправдывается у БА.Кистяковского «первенствующая роль понятия возможности» для публицистики (стр. 40). Но этим текущая пресса и отличается от социологии, в которой, говорит автор, «нет места для применения той взятой из практической жизни точки зрения неуверенности в будущем, которая выражается в допущении многих возможностей» (стр. 44).
Это рассуждение совершенно верно, но его как раз нужно было применить к Михайловскому, различая в нем публициста, когда он «гадал» о возможном будущем России, и социолога, когда он высказывал общие теоретические воззрения свои об отвлеченной сущности социального процесса. Критик, к сожалению, как раз этого не делает и в счет Михайловскому-социологу ставит то, что говорил Михайловский-публицист. Рассуждая о будущем России, Михайловский решал не «социологический вопрос», как полагает критик (стр. 44), т.е. не общую теоретическую проблему, касающуюся всех народов, а частную проблему относительно одного только народа, о "Удущем которого мы не в состоянии и не вправе говорить с полной уверенностью, что оно сложится так-то и так-то, а говорим только, имея в виду те или другие возможные РРеспективы. Категория возможности была нужна здесь ^Ихайловскому не для «объяснения социальных явлений» **°обще, как полагает автор (стр. 48), а для предсказания или, еРнее говоря, для предположения о том, каково будет бу-
390
391
дущее,
притом данного общества. Во всех тех
случаях, когда
Н.К.Михайловский
занимался таким делом, он только следовал
общим приемам всякой публицистики, для
которой и критик признает вполне
нормальным пользование понятием
возможности. Между тем Б.А.Кистяковский
самым решительным образом устраняет
объяснение многих взглядов Михайловского
«публицистическим характером его
деятельности» (стр. 45) думая, что здесь
«сказалась целая философская система»,
вроде той, которую построил Аристотель,
«положив в основу ее принцип возможности»
(стр. 48). Эту свою мысль критик в другом
месте развивает, дополняя ее еще тем
соображением что по тому же пути пошел
и Лейбниц. Он прямо говорит здесь, что
«русские социологи, переступив при
решении занимавших их социально-этических
проблем границы позитивной науки и
обратившись (?) к метафизическим
построениям, возобновили именно это
самое слабое из метафизических учений»
(стр. 112). Поэтому автор счел нужным
подвергнуть критике на нескольких
страницах (112-117) теорию познания Лейбница,
дабы прийти к выводу, что «русские
социологи, не будучи последователями
Лейбница, ничего не придумали такого,
чего бы он уже не сказал» и только
«возобновили все слабые стороны системы
Лейбница» (стр. 117). «Распределяя все
совершающееся в социальном мире между
двумя областями — возможного и
невозможного», они тем самым «естественно
упраздняли вопрос о долженствовании
и необходимости: вместо принципа
долженствования (у них) выдвигалась
идея возможности» (стр. 118).
Если Михайловский иногда представлял себе необходимость как нечто такое, противоположное чему невозможно в фактическом, логическом и причинном смыслах, то это еще не значит, что у него долженствование есть только нечто обратное невозможному. Сам же критик приводит разные места из сочинений Михайловского, где говорится о практической обязательности идеала, но он делает различие только между идеалами, как чем-то таким, осуществление чего возможно, и идеалами, достижение коих невозможно (стр. 60). Для него, значит, идеал, как "нечто для человека практически обязательное", имеет смысл лишь тогда, когда он достижим, т.е. может реализоваться по общим условиям бытия. "Никак нельзя признать, — говорит автор, — что возможность осуществления составляет какой бы то ни было, хотя бы второстепенный признак идеала. Еще меньше оснований соглашаться с Н.К.Михайловским, что это есть его существенный признак. Если возможность и играет какую-нибудь роль, то лишь при выборе целей" (стр. 84-85). Дело именно в том, что Михайловский под идеалом и разумеет такую цель, которая осушеС" твима, т.е. возможна, но это еще не значит, чтобы идеал был
для него идеалом как раз в силу своей возможности и, таким образом, в возможности было для него существо дела. Он вовсе поэтому не "полагал", чтобы возможность была "критерием идеала", как думает автор (стр. 89). К идеалу нужно стремиться jje потому, что он возможен, а потому, что он ценен или, jcaK выражается в этих случаях Михайловский, желателен. Практическую обязательность идеала он выводил из того, что "человек желает и чувствует возможность его достигнуть" (стр. 60), и сам же критик отмечает, что у русских социологов желательность является "высшим критерием нравственной оценки" (стр. 118). Желательность, но с какой точки зрения? С утилитарной ли, с эмоциональной или с этической? Сам Б.А.Кистяковский находит, что для Н.К.Михайловского de facto критерием идеала было долженствование (стр. 89), что часто "под понятием невозможности у него скрывается понятие нравственного долженствования" (стр. 90) и что у него есть прямые "переходы к идее долженствования" в виде "единичных проблесков" (стр. 91). Во всяком случае, не категория возможности лежит у Михайловского в основе идеала, а признак желательности: возможность касается лишь достижимости идеала, желательность же его обусловливается его внутренней ценностью. Конечно, понятие желательности лучше бы было заменить понятием ценности, ибо желать можно, и люди, действительно, желают очень в нравственном смысле различных вещей, но ведь и понятие ценности, играющее большую роль у Б.А.Кистяковского, может толковаться различным образом — и в утилитарном, экономическом, и в эмоциональных, например патриотическом, эстетическом и т.п., и в теоретическом, т.е. научном или философском, и в этическом значениях. Желательность у Михайловского и является синонимом этической ценности. Как мы видели, наш автор обвиняет критикуемого им писателя в измышлении некоей этической невозможности (стр. 94), под понятием которой как будто, по его толкованию, в некоторых по крайней мере случаях, "скрывается понятие нравственного долженствования" (стр. 90), но это совсем не так, ибо возможность и невозможность в этической проблеме интересовали Михайловского в смысле достижимости или недостижимости ставившейся цели, ИДея же нравственного долженствования "скрывалась" у него Под понятием желательности. Я согласен с критиком, когда °н указывает, что Михайловский "очень часто говорил о чем-нибудь, как о невозможном, в тех случаях, когда по содержанию понятия ему следовало бы настаивать на том, что это Не должно быть, а должно быть", но я не согласен с объ-Яснением "этого несоответствия между известным идейным с°Держанием и той категорией, которая должна придавать ^еИу, вес и значение этому содержанию", с тем, что у Ми-
392
393
хайловского
было "излишнее пристрастие к категории
невозможности" (стр. 91). Дело здесь
было не в гносеологии ц методологии, а
в фразеологии, не в maniere
de penser, т.е.
в более
литературном и публицистическом, нежели
наукообразном способе писателя
выражаться, отмеченном, как мы видели
самим же критиком (см .выше, ссылку на
стр. 67). Б.АКистяковский напрасно не
хочет допустить, что Н.К.Михайловский
мог "употреблять слова, производимые
от одного
корня со словом возможность, наравне
со всеми остальными словами русской
речи" (стр. 95). Правда, автор находит,
что он был бы прав и в том случае, если
бы представители русской социологической
школы обнаружили только излишнее
пристрастие к "определенным словам"
(стр. 96), так как они, "сами того не
зная, (все-таки) применили категорию
возможности и невозможности" (стр.
97), или "не вполне отдавали себе в
этом отчет" (стр. 98), но сама-то категория
эта, по самому же критику, является
какой-то многосмысленной, объединяющей
под одним словом "различные
понятия" (стр. 94), а тогда какая же это
категория, раз у нее нет единства
содержания? А если, с другой стороны,
эту quasi-категорию
русские социологи постоянно пускали
в ход, сами того не зная, вдобавок "не
сознавая того, насколько метафизично
их основное теоретическое построение",
то можно ли говорить, что "понятие
метафизической возможности было ими
выработано" (стр. 111), потому что
понятия "выработки" и "основного
построения" предполагают сознательность?
Лично я нахожу, что как публицист
Михайловский не мог не пользоваться
"категорией" возможности, но что,
с другой стороны, в его лексиконе слова
"мочь", "можно", "возможность"
с соответственными отрицаниями были,
так сказать, излюбленными, причем
иногда "невозможный" значило
"немыслимый", иногда "нравственно
недопустимый", т.е. логически или
этически неприемлемый. Если, однако,
таков был язык Михайловского, то
следует ли из этого, что и все остальные
представители школы употребляли ту
же терминологию?
Кроме логической и будто бы Михайловским измышленной этической невозможности, критик называет еще невозможности фактическую и причинную (или реальную). Соответственно с этим и о возможности можно говорить или в субъективном смысле допустимости, как логической, так и этической, или в объективном смысле осуществимости, как по отношению к отдельным конкретным случаям, так и вообще по соответствию с законами природы. Вопросами о возможности и невозможности в случаях первого рода занимаются публицисты, которые нередко приходится просто-напросто угадывать, имея перед собой нередко нечто вроде одного уравнения со многими неизвестными: точные представления того, что необходимо
произойдет, здесь невозможны, как невозможно и по отношению к явлениям природы точно предсказать, какая погода необходимо будет в таком-то месте и в такой-то день через месяц или год. Наоборот, солнечные и лунные затмения с точностью предсказываются за многие годы вперед, и об явлениях этого рода астрономы решают уравнения с полным количеством данных, чем и устанавливают необходимость изучаемых явлений.
Обвиняя вообще русскую социологическую школу в том, что, распределяя все совершающееся в социальном мире между возможным и невозможным, она упраздняет вопрос не только, как мы видели, о долженствовании, но и о необходимости (стр. 118), БАКистяковский, в частности, упрекает Н.К.Ми-хайловского в том, что он отдает предпочтение категории возможности перед категорией необходимости (стр. 47) в духе старой ошибки Аристотеля и Лейбница. Цитируя одно место, где наш публицист говорил о "возможности и необходимости" отмены у нас крепостного права (стр. 47), критик отмечает, что Михайловский совсем не занялся вопросом о "соотношении между категориями возможности и необходимости" (стр. 48), самому же ему представляется, что Михайловскому "нужно было еще обоснование исторической необходимости в предшествовавшей ей возможности", что возможность у него может быть "вполне независима от необходимости"-, что он даже "допускает существование необходимости, которая не сопровождается возможностью, а, напротив, сопутствуется невозможностью" (стр. 47). Все это толкование взгляда Михайловского, который был бы поистине чудовищным, основано, однако, на недоразумении: в приведенном отрывке необходимость нужно понимать не в каузальном (причинном), а в телеологическом (целевом) смысле, как в тех случаях, когда говорят: мне необходимо идти туда-то, т.е. нужно идти и именно ввиду такой-то необходимости. Михайловский говорит об освобождении крестьян как о задаче, которую необходимо, нужно было, а вместе с тем было и возможно решить, и это не значит, что тут были какие-то несовпадения между объективной возможностью и объективной необходимостью и даже противоречия между ними, когда вся речь шла лишь о том, что в данное время сознавались и даже понимались и полная осуществимость (возможность), и безусловная надобность (необходимость) этого дела.
Н.К.Михайловский действительно имел пристрастие к словам "возможно" и "невозможно" с их дериватами, но нельзя *е из каждого случая употребления им этих слов делать выводы 0 его гносеологии. Иногда, например, он вместо: "к этому приводят" пишет: "к этому могут быть приведены" (стр. 61), Вместо: "в таких-то случаях принимает" — "может принять"
394
395
(стр.
62) и т.п., как если бы мы сказали: "зимой
может быть и теплая погода", вместо:
"зимой бывает" и т.д. А между тем
критик во всех случаях, когда в приводимых
местах из сочинений Михайловского
встречаются слова, происходящие от
корня "мог", обязательно пишет их
вразрядку1.
Если я говорю: "лебеди бывают белыми,
серыми и черными", то имею право
сказать, что они "могут быть" и
такими, и такими, и в этом смысле
"допущение различных возможностей"
(стр. 64), столь порицаемое критиком в
мышлении Михайловского, вполне допустимо,
ибо и в действительности многое бывает
и так, и этак, притом каждый раз в силу
известной необходимости, т.е. определенной,
хотя бы и сложной причины.
Да, в действительности бывает разно, т.е. может быть и одно, и другое, и в частности в одних случаях человек достигает поставленных себе целей, в других не может, но в случаях обоего рода действует одна и та же необходимость, обусловливающая или возможность, или невозможность. "Допущение различных возможностей", порицаемое в нашем социологе, нисколько не противоречит принятию того, что все совершается необходимо: и какая-нибудь открывшаяся возможность, и какая-нибудь обнаружившаяся невозможность одинаково бывают неизбежными результатами, с необходимостью вызываемыми законосообразным действием причин. Критик говорит, что "социальный процесс в представлении Н.К.Михайловского есть главным образом осуществление или неосуществление тех или других возможностей" (стр. 64). Да, в настоящем, которое является только гранью между прошедшим и будущим, публицисты, практические деятели и простые смертные обнаруживают разные созданные необходимо совершившимся прошлым возможности, которые в будущем с необходимостью же осуществятся или не осуществятся, и между прочим, задача историка заключается в познании, не только почему нечто совершилось, но и почему нечто, бывшее по человеческому разумению возможным, не осуществилось. Все ведь зависит от того, как складывалась общая комбинация один другому содействовавших или противоборствующих причинных рядов сложной социальной жизни, т.е. от того, что мы называем случайностями, входящими в состав условий, влияющих на процесс, и в этом смысле Михайловский имел право "пропитывать, как выражается критик, принцип причинности элементами относительности" (стр. 65).
Я вполне согласен с Б.А.Кистяковским, что социология должна "устанавливать такие причинные соотношения меЖДУ социальными явлениями, которым был бы присвоен предикат
'У самого Б.А.Кистяковского есть места, где он то и дело пишет: "может , "возможно", "может быть" (стр.152 и далее).
безусловно необходимых и которые обладали бы характером ряепространственности и вневременности" (стр. 150), ибо это Л мое понимание задачи наук об общественных явлениях, отвлеченно взятых, где бы то ни было и когда бы то ни было. Подобный характер имеет каждая номологическая или номо-тетическая (устанавливающая законы) наука, но каждый в отдельности взятый исторический процесс слагается из массы различным образом комбинирующихся, но безусловно необходимых причинных соотношенй, как признает это и сам Б.АКистяковский. "Если, — читаем мы у него на стр. 153, — мы будем рассматривать конкретный пример экономического развития какой-либо страны, то сам по себе необходимый процесс увеличения армии безработных в капиталистическом производстве, благодаря интенсификации труда, может (слово стоит у автора!) пересекаться и парализоваться массой столь же необходимых процессов" (стр. 153), — и далее объясняется, как это может произойти. "Не подлежит, однако, сомнению, — продолжает автор, — что возможен (опять!) и такой конкретный случай", — и указывает, какой именно и почему. "С этой точки зрения, — рассуждает еще Б.А.Кистяковский, — процесс развития капитализма сам по себе безусловно необходим, так как он может (еще раз!) состоять из ряда безусловно необходимых причинных соотношений, которые все приводят к этому развитию". (Да, может, но в таком случае он необходим не безусловно, а под условием благоприятной комбинации, а раз только может, то и не мог бы при других условиях). И еще дальше то же самое: "при конкретном развитии какой-либо страны (сказано именно самим автором) этот сам по себе необходимый процесс может быть (снова!) пересечен и прерван другим столь же необходимым процессом" (стр. 154). Может пересекаться, но мог бы и не пересекаться, а разве это не мышление самого критика по категории возможности и не вплетение им в необходимо совершающийся процесс элементов условности? В сущности, ведь и Михайловский говорил о возможностях и об их условных осуществлениях в том же смысле. Интересно, что эти свои соображения его критик высказывает в полемике не с русской социологической школой, а с русским марксизмом, представители которого как раз Нападали на П.Л.Лаврова, на Н.К.Михайловского и др. за понимание ими исторического процесса в том же смысле, в Каком теперь о нем высказывается строгий критик одного из этих социологов.
Между прочим, русские марксисты (и из них на первом Плане П.Б.Струве) напали на русскую социологическую школу За признание ею роли личности в истории, в общем разделяемое теперь и Б.А.Кистяковским, как мы уже это видели. Совьей критик этой "школы" правильно замечает, что взгляды
396
397
Михайловского,
по которому социальный процесс слагается
из осуществления различных возможностей,
приводят его к при-знанию "широкого
простора для исповедуемой им веры в
роль личности в историческом процессе"
(стр. 66). Тут, конечно можно спорить о
широком просторе или об узкой сфере,
но личность не является quantite
negligeable, как
у П.Б.Струве. Верно и то, что, "решая
вопрос об активном воздействии
человека или сознательной личности на
социальный процесс" русские социологи
"стремились прежде всего к теоретическому
примирению идеи свободы и необходимости".
К сожалению Б.А.Кистяковский не
поинтересовался или не удосужился
посмотреть, как этот вопрос решался
представителями "школы", в
особенности П.Л.Лавровым, который первый
высказался по этому вопросу.
В книге Б.А.Кистяковского много есть такого, что заслу живает и внимания и сочувствия, но есть .и такие мнения, с которыми можно и нужно спорить. Таково, между прочим, его мнение о русской социологической школе. Правда, он говорит, что он "не задавался представить полную литератур ную или научную ее характеристику", но думает он тем не менее, что разработка взятой им частной темы "дает в ре зультате вполне цельную картину ее взглядов". Дает, скажу я на это, никак не цельную, а очень одностороннюю картину, притом основанную отчасти на недоразумении, отчасти на поверхностном знакомстве с предметом. Наконец, если бы критик и был прав по отношению к Н.К.Михайловскому, то сам же он высказывает в одном месте предположение о некоторой "специфической особенности теоретических постро ений Н.К.Михайловского": если это — личное свойство нашего социолога, то почему же обвинение предъявляется всему на правлению? яЦ
Лаппо-Данилевский А. С. "™
НОМОТЕТИЧЕСКОЕ И ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ1
'■> Критическое рассмотрение номотетического построения
'■•>' исторического знания
Научно объединенное или обоснованное знание может стремиться и к обобщению данных нашего опыта, и к их индивидуализированию; смотря по познавательным целям, кото-
'Из кн.: Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. СПб., 1910.
рые мы себе ставим, или по той точке зрения, с которой мы изучаем эмпирические данные, можно в одной и той же вещи разыскивать или общее ей с другими вещами, или то, что именно ее характеризует как таковую в ее конкретной индивидуальности. Следовательно, номотетическое построение, имеющее в виду одно только обобщение, не в состоянии удовлетворить нашего интереса к действительности: при помощи общих понятий оно не может обнять ее многообразие и своеобразие: слишком "редуцируя" и "стилизируя" действительность, оно не дает нам знания ее индивидуальных особенностей; оно не может установить и достаточно обоснованных принципов или критериев выбора конкретных исторических фактов, имеющих историческое значение: с номотетичес-кой точки зрения историк легко упускает из виду или произвольно исключает из круга своих наблюдений факты (личности, события и т.п.), которыми история не может пренебречь. Сами приверженцы номотетического построения принуждены считаться с такими фактами, но не дают научного их построения: признавая, например, самостоятельное значение воздействия человеческого сознания на материю, они не обращают внимания на ценность его индивидуального характера; утверждая единичность всемирно-исторического процесса, они все же готовы довольствоваться его типизацией; полагая, что "одна только индивидуальность порождает новые силы общежития", они не определяют именно ее значение для истории и т.п.1 Впрочем, помимо теоретических соображений, номотетическое построение оказывается недостаточным и с точки зрения практической: оно не дает понятия о той совокупности реально данных условий пространства и времени, в которых протекает наша деятельность и без надлежащего знания которых человек не в состоянии ни поступать правильно, ни действовать с успехом; и в таких случаях сторонники разбираемого направления не располагают принципами, на основании которых можно было бы подойти к решению проблем, столь важных в практическом отношении. Итак, Можно сказать, что номотетическое, обобщенное знание не в состоянии дать удовлетворение нашему интересу к исторической действительности.
Приверженцы номотетического построения исторического знания отрицают, однако, возможность с идиографической точки зрения построить его научным образом: они полагают, Что можно научно познавать только общее: наука, в настоящем смысле слова, должна состоять в построении общих понятий; Индивидуальное, напротив, не может служить целью познания:
'См.: Wundt W. System der Philosophic 1 Auf., S.600; Lamprecht K. Die turhistorische Methode. S.44.
398
399
оно
не поддается научной обработке и
формулировке. Впрочем с аналогичной
точки зрения легко было бы допустить,
что в той мере, в какой индивидуальное
переживается, оно уже в известном смысле
познается; только оно познается в
совокупности с данными ощущениями,
чувствованиями и проч., также входящими
в состав переживания, и значит, познание
о нем, поскольку оно лично переживается,
не может быть научно установлено и
передано другому в том именно сложном
сочетании, в каком оно переживается.
Можно сказать, однако, что понятие об
индивидуальном есть предельное понятие:
хотя наш разум не в состоянии обнять
все многообразие и своеобразие
действительности, но мы можем стремиться
объединить наши представления о ней
путем образования возможно более
конкретных комбинаций общих понятий
или отдельных признаков, отвлекаемых
от действительности; мы можем подвергать
содержание такого понятия (в его реальном
значении) анализу и с точки зрения
генезиса его элементов (если не всей
их совокупности, то по крайней мере
некоторых из них), и с точки зрения
влияния "индивидуального" на
окружающую среду. Хотя понятие об
индивидуальном и не может быть само по
себе приведено в логическое соотношение
с каким-либо общим понятием, но научный
его характер обнаруживается и из
приемов конкретно-исторического
исследования. В самом деле, историк,
занимающийся построениями индивидуального,
приступает к его изучению со скепсиса:
он знает, что ему приходится иметь дело
со своими или с чужими суждениями о
вещах, что они могут не соответствовать
действительности и т.д.; он полагает,
что ему можно будет выйти из своего
скепсиса лишь путем критики, основанной
на строго научном анализе своих и чужих
суждений о данных фактах; в своей работе
историк также выделяет из бесконечного
многообразия действительности элементы,
нужные ему для построения своего понятия
об индивидуальном; если он и не обобщает
их, то из этого еще не следует, что он
не занимался отвлечением
нужных тему элементов своих представлений;
вместе с
тем он, в известном смысле, стремится
комбинировать эти черты, т.е. дать
научное построение действительности.
Итак, идиографическое построение
истории может иметь научный характер;
история, и не будучи наукой обобщающей,
все же могла бы претендовать на научное
значение.
Произвольно ограничивая задачу научного знания, приверженцы номотетического построения лишают себя, однако, возможности устанавливать его разновидности по различию основных познавательных целей: они различают науку лишь по их объектам, например по "процессам" или по "предметам"; с указанной точки зрения, по словам одного из защитников номотетической теории, история признается такой же
обобщающей наукой, как и естествознание, и отличается от него только "другой областью исследования" (Барт). Различать, однако, науки не по точкам зрения, а только или главным образом по объектам затруднительно: ведь разные науки могут заниматься одним и тем же объектом — последнее можно принимать во внимание при систематике наук, но лишь в качестве подчиненного признака, для деления их на более мелкие группы. Аналогичное, хотя и более тонкое смешение обнаруживается и в других рассуждениях представителей школы: едва ли строго различая гносеологическую проблему приложения психологии к истории от психологической, некоторые из них ^говорят, что область наук о духе начинается там, где существенным "фактором" данного явления оказывается человек как желающий и мыслящий субъект. Такие обобщения, однако, предпосылаются нами: чужое "я", чужие желания и мысли, как таковые, не даны в нашем чувственном восприятии. Выражения "wollendes und denkendes Subjekt" или "denkendes und handelndes Subjekt" (Вундт) не однородны, ибо "wollendes" — примышляется, a "handelndes'" — дано в опыте. Следовательно, в вышеприведенной формуле две разные точки зрения смешиваются: в основе всякого исторического построения лежит, конечно, признание чужого одушевления и притом переносимого на раньше бывших людей; но наше заключение о реальном существовании психических "факторов", порождающих известные продукты культуры, требует особого обоснования, а именно обоснования признания реальности факторов чужой психики, а также причинно-следственной связи между ними и соответствующими продуктами культуры. Смешение подобного рода легко может привести к различению наук не по познавательным точкам зрения, а по объектам, что, в свою очередь, облегчает возможность признавать в науке вообще одну только обобщающую точку зрения, различая отрасли науки (например, естествознание и историю) лишь по "объектам" изучения.
Приверженцы номотетического построения делают свои обобщения, постоянно пользуясь принципом причинно-следственности.' Стремление установить причинно-следственную связь между наблюдаемыми фактами, конечно, вполне научно, Но в нем часто смешивают два понятия: понятие о логически Необходимой и понятие о фактически необходимой связи между Двумя фактами — предшествующим и последующим. Под Логически необходимой связью между фактами мы разумеем связь, которая мыслится нами как логически необходимая и Всеобщая (принцип причинно-следственности): если дано а (т.е. дано в том смысле, что действие его не встречает в Действительности противодействующих ему условий), то за ним Должно следовать Ъ. Под фактически необходимой причинно-
400
401
следственной
связью между фактами можно разуметь
связь, которая констатируется нами,
как конкретно-данная: дано д вызванное
А, причем
А получается
благодаря "случайной"' встрече
или скрещиванию многих обстоятельств:
ар
а2,
а},
,., ап
в данное
время и в данном месте. Сторонники
разбираемого направления признают
причинно-следственность лишь в
логическом смысле: "индивидуальное,
по словам одного из них, не способно
стать причиной в научном смысле слова",
й действительно, мы с полным основанием
можем говорить о необходимости и
всеобщности причинно-следственной
связи между а
и Ь,
лишь пользуясь
принципом причинно-следствен-ности:
только на его основании мы в полной
мере можем построить логически
необходимое и всеобщее причинно-следственное
отношение между а
и Ъ.
Тем не менее
в действительности каждому из нас
приходится иметь дело с фактически
необходимой связью, которую мы не в
состоянии признать логически необходимой
и всеобщей: такие случаи бывают, когда
мы имеем дело с комбинациями причин,
"случайно" столкнувшихся или
совпавших; в сущности, лишь исходя из
уже вызванного им сложного продукта,
мы в состоянии заключить о той
совокупности обстоятельств, которая
породила столь сложный результат
(продукт): из взятых порознь причин
нельзя еще вывести данной комбинации
причин и придать ей таким образом
логически необходимый и всеобщий
характер; значит, с точки зрения логики
данность такой комбинации — простая
"случайность". Вместе с тем
исторический "фактор", разложенный
на его' элементы (если нечто подобное
осуществимо), уже не будет реально
данным фактором, именно им, а не другим;
да и из таких разложенных элементов,
порознь взятых, нельзя вывести данного
продукта, поскольку он фактически
получился в результате "случайной"
(с логической точки зрения) встречи
множества обстоятельств в данное время
и в данном месте. Далее, следует заметить-,
что из числа тех причин, которые в общей
совокупности порождают данный продукт,
лишь те из них, которые всего дальше
отстоят от результата, поддаются
научному анализу, например, физические
условия, повлиявшие на данную личность
или группу людей, а значит (косвенно),
и на их поступки или деятельность; но
такими отдаленными причинами, отвлекаемыми
от действительности, нет возможности
удовлетворительно объяснить реально
данные продукты; надо взять непосредственно
предшествующее им, а таковым придется
признать весьма сложную совокупность
условий, породивших данный результат.
Положение, например, что кислород
обусловливает жизнь животных; а значит,
и жизнь людей, человеческих обществ и
их историческое развитие, мало имеет
значения для объяснения собственно
исторического процесса: никто не станет
называть
кислород историческим фактором; причинно-следственное отношение нужно устанавливать между непосредственно предшествующим и следующим так, чтобы предшествующее непосредственно переходило в следующее; но такой непрерывной связи между предшествующим фактом и последующим в области истории установить нельзя, не исходя из заранее данного фактического отношения: ведь между элементом, отвлекаемым от действительности, и продуктом — множество посредствующих звеньев, не располагающихся в линейный ряд. Наконец, из таких соотношений нельзя еще с достоверностью предсказать, каков будет их продукт. Итак, не будучи в состоянии логически построить данную совокупность причин и вывести из нее данный продукт в его целом, нам остается только исходить из конкретно данного результата и пытаться объяснить, каким образом он возник в действительности; но рассуждать в таких случаях о "единичном законе" изучаемого процесса едва ли целесообразно.
Последовательное применение принципа причинно-след-ственности в области истории представляет и другие затруднения. Сами приверженцы номотетического направления признают, например, что здесь нельзя говорить о чисто механической связи, а приходится рассуждать о причинно-следственности в психологическом смысле (т.е. о мотивах и действиях); но в таком построении нельзя говорить о количественной эквивалентности между причиной и следствием, а лишь о качественной зависимости. Далее, если бы можно было исходить из понятия о своего рода "механике представления", то с такой атомистически-психологической точки зрения можно было бы установить причинно-следственные отношения между отдельными представлениями; но в случаях подобного рода субъект, с его единством сознания, всегда предполагается и может быть даже в ассоциации двух идей, каждая из них не находится в непосредственном отношении к другой, а только через представляющего их субъекта, что чрезвычайно осложняет их отношение. Наконец, такое психологическое построение (мотив-действие) легко ведет к превращению причинно-следственной связи в телеологическую (ср. Zweckmotiv Вундта). В тех случаях, однако, когда мы считаем цель мотивом своих поступков, а последние — действием ее, под понятие о таком соотношении мы можем подвести и совсем иное: ведь цель можно рассматривать как требование субъекта; нормативная оценка (мотивировка) лежит в основе наиболее ценных наших Действий.
Приверженцы номотетического направления стремятся Миновать это затруднение, рассматривая всякое воление с точки зрения его мотивации или ссылаясь на "законы" статистики; но такие построения вызывают новые возражения.
402
403

Если
каждое наше действие мотивируется и
мотивация приравнивается к причинению
его известными (внешними) факторами,
то нечего говорить и о свободе воли:
она — простая фикция; но в таком случае
нет различия между действием, вызванным
стремлением к удовольствию или
отвращением от страдания, и актом,
совершаемым в силу требования сознания
самого действующего лица; признавать
свободу его воли можно лишь в последнем
смысле; человек свободен не тогда, когда
он — игралище своих страстей, а тогда,
когда он свободно подчиняет себя идее
должного, которую он почерпывает из
собственного сознания; человек свободен
от внешнего давления природы, когда
он поступает не под впечатлением
мгновенного аффекта, а на основании
им самим предъявляемой себе нормы*
Приверженцы номотетического направления
легко забывают о нормативном характере
нашего сознания и смешивают закон
природы с законом в нормативном смысле;
между тем история получает совершенно
особое, самостоятельное по отношению
к природе значение, если рассматривать
ее как постоянное осуществление некоего
долженствования; в нем всего ярче и
обнаружится наиболее характерное
воздействие человеческого сознания
на материю.
Сторонники номотетической точки зрения ссылаются еще на взаимное ограничение свободной воли отдельных лиц, в итоге уничтожающее индивидуальные ее колебания, что будто бы и можно доказать статистикой. Статистические выводы ("законы"), однако, в данном случае малоубедительны: статистическое среднее — научная фикция, а не действительность; даже если под нею разуметь тип, и притом репрезентативный, за исключением одного случая (или нескольких), он все же будет идеальным по отношению ко всем остальным, т.е. фикцией; но для того чтобы последняя имела некоторое научное значение, надо чтобы исчисляемые объекты можно было признать совершенно однородными; далее, чтобы слагаемые были всех возможных значений между 0 и ± со, иначе разности при их сложении взаимно не уничтожаются, т.е. чтобы число их было бесконечно в математическом смысле, и, наконец, чтобы сравниваемые действия происходили одновременно. Ни одного из только что указанных условий мы, в сущности, не имеем в явлениях, изучаемых в моральной статистике. Следует также обратить внимание и на то, что статистический "закон" — просто эмпирическое обобщение, а выяснение причинно-следственной связи между данными последовательностями изменений приводит нас к затруднениям, уже изложенным выше: объяснение "коллективных" явлений все же сводится в конечном итоге к объяснению обнаруживающихся в них состояний индивидуальных сознаний, а без установления такой причинно-следственной связи нельзя говорить и о законе.
Во всяком случае, кроме вышеуказанных теоретических соображений, следует заметить с научно-практической точки зрения, что в действительности в сложной душевной жизни данная причина (мотив) может очень часто встречать "противодействие" со стороны другой и, значит, "закон" здесь будет гораздо более фиктивным. В области сложных явлений подобного рода оговорка, неразрывно соединяемая со всяким естественно-научным законом — "если нет препятствий", — повторяется гораздо чаще и в более сгущенном виде: поскольку в душевной жизни скрещивание разных причин бывает чаще, чем в области "мертвой" природы, постольку законосообразность психических явлений тоже обнаруживается. По мнению некоторых мыслителей, за исключением области психофизических исследований, в области собственно душевной жизни, пожалуй, и не удастся установить "точных всеобщих законов" (Зигварт). Таким образом, уже в психологии конкретного индивидуума приходится говорить о фактически необходимой связи между субъектом и его продуктами.
Впрочем, если бы даже психологические законы были вполне установлены, все же "непосредственное" перенесение их в область истории не могло бы еще дать исторических законов, ибо подобно тому как разложение комбинации причин на отдельные причины уничтожает саму комбинацию или фактор в его целостности, так и выискивание психологических законов возможно лишь при изложении исторического процесса на его элементы, а отвлечение последних от действительности упраздняет наличность самого процесса, поскольку он представляется нам индивидуально данным. Некоторые из таких психолого-исторических законов, например, "принцип творческого синтеза" или "закон гетерогонии целей" — просто принципы истолкования социальных явлений: но в таком случае из них нельзя выводить закона роста духовной энергии; или они, в лучшем случае, эмпирические обобщения, например, "закон контрастов", ибо следование одной тенденции за другой, хотя бы между ними и существовал контраст, еще не объясняет, Почему такое следование имело место: ведь одна из них сама По себе не в состоянии вызвать другую; первый момент может быть условием благоприятным для наступления второго, но Между ними нужно вставить посредствующие звенья. Наконец, Некоторые из таких исторических законов, выведенных психологическим путем, представляют из себя обобщения, с Психологической точки зрения скорее указывающие на иррациональность исторического процесса, на его непредвиденность, чем на его законосообразность; таков, например, принцип гетерогонии целей: человек ставит себе определенную Цель; но ему не всегда возможно рассчитать средства, вполне Пригодные для ее достижения, и легко натолкнуться на
404
405
неожиданный
для него результат; представление о
нем, прц положительном отношении к
нему, может в свою очередь стать целью,
что и приводит "к гетерогонии"
целей.
Перейдем- к рассмотрению тех номологических обобщений номотетической школы, которые сводятся прежде всего ^ попытке усмотреть относительноустойчивую комбинацию при-чин в племенном или культурном типе, порождающем соот-ветственные продукты.
Построения подобного рода, в сущности, слишком мало различают номологическое обобщение от типологического и приписывают "типу" значение реальной комбинации факторов, порождающих соответственные продукты культуры. Между тем всякий тип есть наше построение, а всякий продукт культуры есть результат индивидуальной деятельности; но в данной личности черты данного типа комбинируются с личными, и только пренебрегая последними и оставляя без внимания отражение их в продукте, можно говорить о нем вообще как о продукте целой группы; с такой точки зрения, однако, легко упустить из виду наиболее характерные особенности самого продукта.
Впрочем, понятие племенного типа имеет некоторое значение, но в пределах данного времени и пространства, строго установленных путем наблюдения; последнее должно выяснить, в каких именно пределах можно говорить о некоторой устойчивости данного племенного типа, а тогда уже можно пользоваться им в вышеуказанном смысле. В противном случае понятие племенного типа может ввести исследователя в заблуждение: ведь даже у ученых, склонных к обобщению в номоте-тическом смысле, оно весьма условно; один из них, например, сам указывал, что социология — история, и придерживался теории расы; но затем он пришел к заключению, что "раса" — продукт истории, а не природы. По его мнению, чем дальше мы углубляемся в древность, тем более мы замечаем сходства между народами; время устанавливает между ними различия, и свойства, которые мы видим в них, не врожденные, а приобретенные. Ни один из них сам по себе не отличается ни воинственностью, ни миролюбием: "склонность к миру или к войне одерживает в них верх, смотря по тому политическому устройству, при котором им приходится жить". Если в настоящее время существуют народы, имеющие, по-видимому, особую склонность к тому или другому образу правления, к тому или другому виду деятельности, то этим они обязаны долговременному влиянию тяготеющих над ними веков.
Таким образом, понятие о племенном типе суживается и само еще недостаточно для объяснения причинно-следственно^ связи; даже в данных пределах времени и пространства яле" менной тип не является причиной, постоянно действуют6 единообразно; он скорее типологическое построение.
Понятие о "культурном типе" как комбинации факторов, порождающих соответственные продукты культуры, по мнению историков-социологов, допустимо в качестве предварительного И приближенного обобщения в области культурной истории; но и им можно пользоваться лишь в строго ограниченных Пределах пространства и времени, которые далеко не всегда можно установить с желательной точностью, а при таких условиях легко образовать культурный тип из признаков, характеризующих различные периоды и придать ему произвольное значение.
Во всяком случае, соотношение между типом данной нации или культуры и соответственными продуктами культуры ввиду вышеуказанных соображений не отличается той логической необходимостью и всеобщностью, которая характеризует понятие закона в строгом смысле.
Номологические обобщения, опирающиеся на понятия о консенсусе и эволюции, в области истории также оказываются недостаточными и вызывают некоторые сомнения. Эти термины можно употреблять различно, придавая им или общее, или индивидуальное значение; но представители разбираемого направления упускают из виду последнее: они слишком мало останавливаются на понятии о данной системе культуры или о данной эволюции как о некоем целом; они не дают конструкции субъекта консенсуса или эволюции и не выясняют, какова логическая природа той связи, которая устанавливается между целым и его частями, т.е. элементами культуры или звеньями эволюции, хотя сами иногда готовы признать, что "всемирная история есть единичный и единственный в своем роде процесс"1. Вообще стремление к обобщению сильно затрудняет его построение: не обращая внимания на те единичные конкретные факты, влиянием которых один исторический момент отличается от другого, историк-социолог, например, часто ограничивается изучением истории со статической точки зрения: в таком случае он легко смешивает факты, случившиеся в разное время, и забывает, что, в зависимости от разного положения во времени, факт может получить и разное значение: он останавливает ход истории и не в силах представить ее в движении. Впрочем, и историк-социолог, казалось бы, может дать о нем надлежащее понятие Путем построения эволюционных серий; но и тут стремление К обобщению ведет к образованию отвлеченно взятых, типических серий, а такая конструкция может удовлетворить собственно историческое понимание лишь при смешении логи-Чески-конструируемого (с номотетической точки зрения) ряда с Действительным историческим рядом; в последнем нельзя
lLamprecht К. Die kulturhistorische Methode. S.44.
406
407
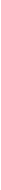
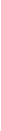
элиминировать
индивидуальное (лица, события); нельзя
без него понять, почему в данном пункте
пространства и в данный момент времени
одно состояние общества сменилось
другим-нельзя
подвергнуть такую связь дифференциальному
изучению' Наконец, при построении
понятий о прогрессе и регрессе
историк-социолог встречает не, менее,
если не более затруд. нений: он либо
отрицательно относится к научности
таких понятий, придавая им чисто
субъективный характер, либо ставит в
связь понятие о прогрессе с нравственным
постулатом соответственно изменяя и
свое понятие о регрессе, и, таким образом,
в сущности, исходит из принципов, не
находящих себе места в номотетическом
построении.
Во многих случаях приверженцы номотетического построения тем не менее считают возможным рассуждать об "исторических законах" благодаря тому, что они этим термином обозначают лишь эмпирические или даже типологические обобщения. Некоторые из них, например, или слишком мало различают закон от эмпирического обобщения, или последнему придают слишком большое обобщающее значение; но смешивать закон, устанавливающий логически необходимое и всеобщее причинно-следственное отношение между предшествующим и последующим, с установлением простой последовательности их, наблюдаемой в опыте, конечно, нет никакого основания. Попытки установить причинно-следственную связь между эмпирически необходимыми последовательностями производились, но таких случаев очень немного, даже в языкознании.
Если не все исторические обобщения, то, во всяком случае, большинство их представляется нам даже не строго эмпирическим: в действительности отступления от них встречаются, а потому такие обобщения скорее могут быть названы феноменологическими или эволюционными типами, чем настоящими эмпирическими обобщениями; таков, например, "закон" смены форм правления и т.п.
С социологическо-исторической точки зрения такие типологические построения можно признавать, главным образом, подходящими техническими средствами для систематики материала; но более широкое употребление их может вызвать целый ряд возражений.
Нельзя забывать, например, что история человечества, взятая в целом, единственная в своем роде; между тем факторы ее играют роль и в образовании типов. С такой точки зрения генезис их сам не имеет типического значения.
Далее, если, с одной стороны, тип — понятие относительно общее по отношению к тем "экземплярам", которые субсу-мируются под него, то с другой, поскольку данный тип противополагается остальным, он уже индивидуален; мь1
приписываем ему, в отличие от других типов, некоторые свойственные ему особенности, что и придает ему индивидуальный характер. Построение "социальных типов", например, ограничивает некоторые обобщения пределами данного типа: с такой точки зрения можно говорить о разных типах развития культуры и, значит, приходить к заключению, что далеко не все народы проходили одни и те же стадии эволюции; но в случаях подобного рода понятие типа уже употребляется для некоторой индивидуализации исторических данных. В своем стремлении к обобщению сторонники разбираемого направления легко забывают, однако, ограниченное значение своих выводов: они произвольно распространяют объем типа за пределы места и времени, в которых он только и имеет значение, часто не различают типического от случайного и т.п.
Наконец, приверженцы номотетического направления упускают из виду то значение, какое тип получает в зависимости от отнесения его к данной ценности и в качестве средства для индивидуализирования наших исторических знаний. Такие ученые забывают, что можно образовывать известный тип и не в естественно-историческом смысле слова: в естествознании он употребляется в качестве относительно общего понятия, обозначающего такую совокупность экземпляров, которую можно характеризовать общими им признаками; в истории тип может получить определенное значение путем отнесения его к известной ценности и может стать нормой; тогда речь идет уже не о том, что обще, а что должно быть общим; это — типы, образуемые в зависимости от понятия о должном; нравственная или правовая норма, например, не есть тип поведения, а тип должного поведения. В номотетических построениях тип иногда явно образуется путем отнесения к ценности или к какому-либо единичному факту с крупным историческим значением "маленьких фактов, имеющих значение" (petits faits significatif): в таких случаях "значение" последних, однако, уже признается, но тот критерий, в силу которого оно признается и который обусловливает построение именно данного типа, не устанавливается1.
Вместе с тем представители номотетического направления не оттеняют значения типологических обобщений в качестве средства для изучения индивидуального; тип может служить Как бы штемпелем, приложение которого к данной индиви-
'Индивидуализм, например, (в качестве типа) имел религиозное значение У средневековых мистиков, прежде чем секуляризировался в эпоху Возрождс-"ия; или, положим, образ жизни парижан во время осады столицы прусскими войсками в декабре 1870-го и в январе 1871 годов, в зависимости от такого Именно факта, можно характеризовать "маленькими фактами, имеющими значение" и т.п.
408
409
дуальности
обнаруживает, в чем именно она отличается
от типа, а такие отличия, в свою очередь,
требуют объяснения, что и ведет к
индивидуализированию данного случая.
С такой точки зрения приверженцы идеографической точки зрения готовы даже прямо отрицать самостоятельное значение типологических построений.
Критическое рассмотрение номотетического построения исторического знания уже обнаруживает законность и другой точки зрения на историю — идеографической; приступим к ее изучению.
Критическое рассмотрение идеографического строения исторического знания
В предшествующем отделе я попытался систематично изложить то построение теории исторического знания, которое получается, если придерживаться идеографической точки зрения; мне казалось желательным развить систему основных ее принципов в том' виде, в' каком я понимаю их, не стесняя себя ни изложением одного какого-либо построения, предложенного данным мыслителем, ни критикой его выводов. Теперь не мешает, однако, войти в рассмотрение некоторых отдельных положений, вызывающих разногласие даже среди самих приверженцев идеографического построения истории.
Сами основатели разбираемой теории, например, слишком мало обращают внимания на то общее, что оказывается между знанием в номотетическом смысле и знанием в идеографическом смысле. Выше мне уже пришлось заметить, что научное знание стремится к объединению разрозненных эмпирических данных и что такая задача должна быть общей для обоих видов нашего знания, хотя и достигается нами разными путями. Приверженцы идеографического направления, однако, слишком увлекшись логическим противоположением "естествознания" — истории, преимущественно настаивают на различии тех познавательных задач и точек зрения, с которых такое разъединение производится.
В теории задача, преследуемая научным знанием вообще, и общая обеим его областям, остается в тени, что уже дает не совсем правильное понимание собственно идеографического построения: увлечение тем же противоположением оттесняет на задний план и ту" объединительную функцию, которую история должна отправлять с идеографической точки зрения, а пренебрежение ею ведет и к дальнейшим последствиям.
В самом деле, если история в идеографическом смысле объединяет наше знание о действительности, то, поскольку она научно строит не только целое, нр и- реальное соотношение
между частью и целым, она должна представлять себе последнее в виде такой индивидуальности, которая вместе с тем состоит из частей; историк, значит, должен научно устанавливать их значение для индивидуального целого, принимаемого им в качестве данного. С последней точки зрения, если бы историк стал рассматривать хотя бы весь мир или весь мировой процесс как данное индивидуальное целое, он должен был бы признать своей задачей, в самом широком смысле слова, и изучение реального соотношения между частями и таким целым; само собою разумеется, что ту же точку зрения он может применять и к более узкому содержанию, например к истории человечества и т.п.
В только что указанном, чисто формальном смысле все же можно, пожалуй, сказать, что история занимается изучением "индивидуального": ведь связь между частями и целым в известном смысле также признается "индивидуальной". Не следует забывать, однако, что, упуская из виду объединительную функцию исторического знания, легко придать понятию "индивидуального" гораздо более узкое значение, отчасти уже поставленное в зависимость от его содержания: под индивидуальным в последнем смысле можно разуметь конкретно данные в действительности индивидуальности, т.е. личности и события; но уже на основании вышеприведенных соображений естественно прийти к заключению, чта, за исключением разве предельного случая, нельзя ограничивать область истории изучением таких "индивидуальностей" (т.е. личностей и событий), отдельно взятых, вне их отношения к данному целому. Вышеприведенные соображения, однако, не всегда достаточно принимаются во внимание приверженцами идеографической теории; напротив, они слишком мало настаивают на том, что само целое представляется историку такой индивидуальностью, которая мыслится в качестве состоящего из частей целого, и что с последней точки зрения задача истории как науки и состоит в объяснении того реально-индивидуального отношения, которое обнаруживается между частями и данным историческим целым.
В связи с только что приведенными рассуждениями можно рассмотреть и другое положение основателей теории: в задачу истории-науки они включают "изображение единичного" или "изображение индивидуального" и т.п.; но мне не раз приходилось уже указывать на то, что история—наука занимается прежде всего научным построением конкретной действительности, а не ее "изображением". Научное ее построение обнаруживается, например, и в установлении исторического значения фактов, и в аналитическом изучении ее с точки Зрения причинно-следственной связи, и в синтетической ее Конструкции, хотя бы, положим, в образовании понятия об
410
411
историческом
целом. Итак, лучше отличать
научно-историческое построение от
изображения действительности, легко
смешиваемого с художественным
воспроизведением ее с чисто эстетической
точки зрения.
В сущности, сводя понятия о требованиях сознания вообще и о системе абсолютных ценностей в области исторических построений к понятию об этической ценности, основатели идеографической теории полагают, что самое установление системы абсолютных ценностей не входит в специально-историческое изучение, что историк исходит из "данного ему" (и, значит, не чисто личного) "интереса" к той действительности, которую он изучает и что сам процесс ее изучения производится путем научно-исторического метода, который (в специально-научном его значении) можно применять к какому угодно объекту; следовательно, историк может выбрать его и путем отнесения его к одной только общепризнанной ценности, объективно данной ему в опыте. Такое положение, однако, нисколько не устраняет необходимости и для того, кто занимается исторической работой, сознательно различать отнесение данного объекта к обоснованной ценности от отнесения его к ценности общепризнанной, а не довольствоваться лишь простой интуицией. Ведь в случае отнесения объекта к ценности, без ее обоснования, историк будет признавать общепризнанную ценность только фактом, критерий выбора которого нельзя почерпнуть из него самого; такой факт можно подвергать лишь "психологическому анализу". Итак, вышеприведенная конструкция, в сущности, предполагает опознание со стороны историка абсолютных ценностей, с точки зрения которых он мог бы обосновать ценность общепризнанную. Слишком мало останавливаясь на выяснении этой связи, представители разбираемого направления также мало обращают внимания и на совпадение между отнесением к обоснованной ценности и отнесением к общепризнанной ценности.
Не достаточно оттеняя только что указанное положение, основатели идеографической теории также пренебрегают различием между всеобщим значением данной индивидуальности (личности, события) и ее историческим значением; последнее связано с вышеуказанным понятием о действенности индивидуального и, значит, с понятиями о численности и о длительности его последствий. История действительно должна считаться с индивидуальным; она должна научно построить его, т.е. объяснить, каким образом из общего возникло частное; но историк не может остановиться на такой стадии своей работы. Индивидуальное получает историческое значение в его глазах, поскольку оно становится "общим достоянием", следовательно, поскольку оно отпечатлевается или повторяется в других индивидуумах. И чем число таких повторений больше,
тем и "всеобщее значение" факта, уже за ним признанное, становится важнее (в положительном или отрицательном смысле) и в историческом отношении. Таким образом, с точки зрения действительности индивидуального, следует признать, что объективный признак общего значения данного конкретного факта, отнесенного к ценности, состоит в общем содержании данной общественной группы, поскольку оно характеризуется именно этим фактом.
Вообще, несколько упуская из виду понятия о численности и длительности последствий, основатели идеографической теории не могут отметить и связь между этими понятиями и понятиями о консенсусе и об эволюции; они также едва ли достаточно заботятся о том, чтобы в понятие свое об историческом развитии включить понятие об историческом значении звеньев данного необратимого эволюционного рода, мыслимых как части одного эволюционного целого, да и слишком мало останавливаются на выяснении того, каким образом понятие о человеческом развитии конструируется в зависимости от такого именного его значения.
При оценке разбираемой теории следует еще иметь в виду, что она мало интересуется свойствами объектов, изучаемых историей. В самом деле, с чисто логической точки зрения, из нашего научного знания легко выделить целую группу исторических наук, занимающихся^ изучением конкретно данной действительности; но с такой точки зрения, в противоположность "естествознанию", включающему и психологию, и социологию, к группе исторических наук придется причислить, например, и геологию, и историю культуры. Деление наук, производимое с указанной точки зрения, вовсе не считается со свойствами изучаемого объекта; принимая его во внимание, можно сказать, однако, что социология, например, все же ближе к истории, чем геология и т.п.: геолог может свободно игнорировать принцип чужого одушевления; социолог и историк, напротив, исходят из такого принципа в своих построениях, что обусловливает и сходство в некоторых методах их исследования; геолог пользуется исключительно законами Физики (в широком смысле), а социолог и историк — в значительной степени законами психики для научного построения действительности.
Такие перекрестные соотношения часто слишком мало Принимаются во внимание основателями идеографического Построения: резко различая "естествознание" от исторической Пауки, они забывают, что некоторые отрасли "естествознания" Пользуются принципами, общими с теми, которые употребля-1°тся историками, не говоря о том, что вышеуказанная терминология ("естествознание" и "история-наука") представляется во многих отношениях искусственной.
412
413
Ввиду
только что указанного перекрестного
соотнощени
между
науками, изучающими более или менее
обцще
^**
объекты,
логическое противоположение между
общим и ча^1
тным трудно
осуществить на практике в полной его
исклаГ
чительности:
ведь термины естествознание и история
давно у* ассоциировались с фактическим
содержанием сложивших наук, каждая
из которых фактически занимается частью
обок* щением, частью индивидуализированием
и, значит, по своемС содержанию не может
быть резко противопоставлена другой
а характеризуется разве только
преобладанием одной из таких точек
зрения. Следовательно, принимая во
внимание факти ческое содержание наук,
можно сказать, что история, подобно
естествознанию, в сущности, может иметь
дело с относительными обобщениями
хотя бы потому, что историк, за отсутствием
нужных ему относительно общих понятий,
сам вырабатывает их применительно
к изучаемым им обьекам и в зависимости
от тех именно познавательных целей,
которые он преследует.
Понятие о процессе образования "группы", например, представляется историку относительно общим, поскольку он изучает возникновение ее путем установления общих между ее элементами черт, хотя бы, например, в тех случаях, когда он следит за повторением в сознаниях индивидуумов данной группы одного и того же индивидуального факта, открытия, изобретения, за его постепенным распространением в данной общественной среде и т.п.
Историк может также образовывать относительно общие понятия, поскольку он рассуждает о чем-то общем между частями одного и того же целого (коэкзистенциального или эволюционного).
Следует иметь в виду, что такие же понятия с относительно общим содержанием историк может конструировать и с чисто эволюционной точки зрения. Трудно представить себе возможность построения эволюционного ряда, обыкновенно предполагающего известную степень отвлечения, без "закона" образования такого ряда: каждое из звеньев его может отличаться от остальных и, тем не менее, в процессе образования их, одного из другого, должно оказаться нечто общее, некая "общая тенденция", обнаруживающаяся в данном ряде. Далее, изучение совпадения логического построения некоторых Р*&° с объективно данной последовательностью исторических Ф^ тов (например, в истории наук) тоже может выяснить то o6^iT^ что в данном ряде заключается, хотя бы он в действительное и был известен нам лишь по одному данному случаю. ^яКО^п01 само понятие непрерывного развития данного ряда npw латает построение относительно общего понятия о повТ Jj#. емости данного культурного фонда в целом ряде поколе
Таким образом, фактически историк может сам вырабатывать и относительно общие исторические понятия. В логическом отношении сознательно различая номотетическую точку зрения от идеографической, он, конечно, не должен смешивать ЛХ, но в действительности он может соединять их в своей исторической работе.
Само собою разумеется, что практические условия такой работы над сырым материалом (например, трата времени и сцл, сопряженная с изучением его, совершенно раздельно с каждой из указанных точек зрения разными исследователями и т.п.) естественно приводят к тому, что один и тот же исследователь обрабатывает его и с номотетической, и с идеографической точек зрения.
Впрочем, теория исторического знания, построенная с идеографической точки зрения, ничего не имеет против такой фактической комбинации; но она не должна приводить к смешению двух принципиально разных точек зрения, с которых один и тот же ученый может изучать эмпирически данную ему действительность.
t
