
Askochensky_V_I_Za_Rus_Svyatuyu
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ
го нашего роста, то мы только насмешили своими штуками расшутившегося учителя. О tempora! О mores! И как не прибавить: о ресоrа! о boves! В третьем классе или, как говорили во время оно, в нижнем, мы просидели два года. Я даже до сих пор помню место, которое занимал в школе. Это было к окну, выходившему на теперешний монастырский двор; окно это последнее к Вознесенской церкви. Тут-то я поучался той премудрости, которую с течением времени непременно надо было забывать, чтобы не остаться вечно дураком. <…> Учители смотрели только за тем, чтобы перед ними шапку скидали да в классе смирно сидели. За проступки против этих двух заповедей казнили по-нероновски. Сто ударов лозами – нипочем; доходило подчас и до двухсот, а когда ментор был не в духе, то и до трехсот. Но все это сплывало с нас, как с гуся вода. Чувство грубело более и более, и в дитяти вместе со страхом
иненавистью к тирану-учителю развивались скрытность
иплутовство, доходившие наконец до такой закоснелости, что никакие тиранства не могли вымучить у мальчика искреннего признания в каком-либо проступке.
Само собою разумеется, что между нами много было порядочных плутов. Мы гуртом ходили на воровство к торговкам, продававшим яблоки, арбузы, и кто ловче всех обкрадывал бедную бабу, тому и почет, и название молодцом.
Вэту пору домашним учителем у нас был учетель словесности, Стратон Тимофеевич Гравировский. Не знаю, чем он с нами занимался, помню только, что частенько приходил он как-то не в себе. Такой, бывало, странный от него запах! Отзывает как будто немножко водкой и немножко каким-то корнем. Он обыкновенно в такие критические минуты ложился спать, чему и мы с радостью следовали, инстинктивно угадывая то премудрое изречение, что хоть все узнай от кедра до иссона, а когда придется идти спать, то непременно скажешь: «Суета суетствий и всяческая суета!»
671

ПРИЛОЖЕНИЕ
Помню я очень хорошо то время, когда после публичного экзамена стали вызывать лучших учеников к награде книгами. Между этими лучшими был и я. На катехизисе Платона написано было: «Виктору Аскоченскому за хорошие успехи и прилежание». Я схватил книгу и опрометью бросился домой. Брат Аристарх, не получивший такой же награды, бежал за мною с недовольным видом. По дороге мы за что-то поссорились, я жестоко назвал его лентяем; брат, как и следовало, притаскал меня. Но мне было не до слез и не до таски. Я вбежал во двор. Маменька (очень хорошо помню) чистила сама рыбу близ погребицы. Я прямо к маменьке и громко читаю, что написано в подаренной мне книге. Маменька с вопросом к брату: «А тебе ничего не дали?» Брат заплакал, мне стало жаль его; я и сам заплакал. Пришел батюшка, похвалил меня, похвалил и брата. Мы повеселели. «Четвертоклассные, четвертоклассные!» – кричал я, прыгая с книгою моею по двору.
Да, точно – это была радость непритворная. Добиться четвертого класса, или синтаксиса, по-тогдашнему, было не поле вспахать. И что за важные люди были тогда эти четвероклассные! Это то же, что patres conscripti в училище. Они уже с пренебрежением смотрели на инфилистов, а приходские был у них на посылках; они yжe дерзали курить трубку и подчас ходить в шинели спустя рукава и закутывая нос по-журавлиному, что удивительно как много придавало им весу. Они небрежно снимали шапку перед каким-нибудь третьеклассным учителем, а со второклассными уже вступали в спор. Осип Иваныч и Иван Савич (учители второго и первого класса) им были нипочем.
Ктакой-то категории важных людей примкнул и я
сбратом. Нашими учителями были о. Иннокентий (вышеупомянутый) и Яков Фирсович Покровский <…> На время болезни какого-либо из наших учителей к нам присылали студентов семинарии из богословского класса. Таких я помню двух: Киселевского, умершего архиман-
672
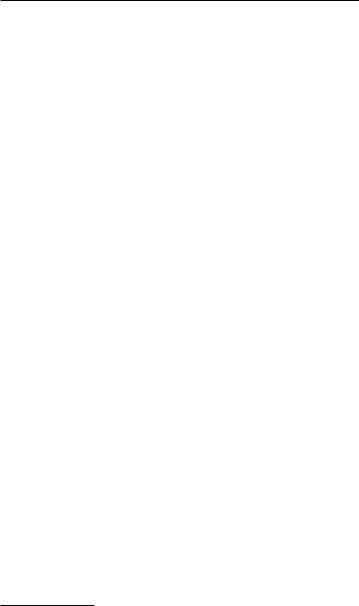
ПРИЛОЖЕНИЕ
дритом при китайском посольстве, и Палищева, нынешнего Пантелеймона, инспектора, кажется, астраханской семинарии. Предметы, преподаваемые у нас, были: греческий язык. Для упражнения в нем мы переводили вторую часть известной греческой хрестоматии (Якобса?) и, надо сказать, переводили чудесно. С русского на греческий мы перекладывали, не спрашивая слов у учителя, а выдумывали их сами и редко делали ошибки против грамматики. К чести своей скажу, что я поступил в училище, не зная по-гречески ни йоты. В два года я выучился и стал наравне с самыми лучшими учениками. Преподавателем греческого языка у нас был упомянутый Иннокентий, отличный знаток его. За Иннокентием оставались славянский язык, катехизис, устав церковный и нотное пение. Славянский язык мы изучали по какой-то старинной грамматике, впрочем очень хорошо написанной. Лучше меня никто не мог из всего класса разбирать филологически славянскую грамоту. Катехизис у нас читался по руководству Платона, а потом Филарета. Тут я не опережал других. <…> На класс нотного пения я и брат не ходили, ибо в качестве певчих мы избавлялись от необходимости драть горло по этим кавыкам.
Яков Фирсович Покровский читал нам латинский язык, арифметику, географию и... кажется только. Сам он, не в укор ему будь сказано, знал свои предметы плоховато; но зато мы помирали со смеху на его лекциях. Все так мастерски умел он представить, что любо. Громовой хохот раздавался в зале, когда он, закутавшись в свою рясу, копировал семинариста, представляющего из себя Хемницерова метафизика. Впрочем, нельзя сказать, чтобы преподавание латинского языка шло у нас безуспешно. Нет, мы отлично переводили Корнелия Непота, а некоторые из нас могли à livre ouvert1 – читать какую угодно латинскую книгу. К числу последних принадлежал и я. Как дорого
1 В подлиннике «оuνèrte livre».
673

ПРИЛОЖЕНИЕ
выплатил бы я теперь за перевод, деланный и писанный моей рукою с Квинта Курция... Переводы с русского на латинский мы делали легко и свободно. Мои occupationes еще и теперь целы, и я по ним читаю мои первые, лучшие ощущения безрасчетного самодовольства своими успехами. Арифметики я в зуб, что называется, не знал и всеми силами отвиливал от нее. Географию знал тоже плохо, да и преподавали то ее, прости Господи, дрянно. Бывало, заучишь название городов, рек и проч., отдерешь, как говорится, с зуба – и дело с концом, а где эти города, где эти реки, и чем они замечательны, словом, все, что требуется от знатока географии, – мы и знать не знали, и ведать не ведали. Учители выслушивали у нас уроки, водили пальцами по открытым картам, размежевывали чересполосным образом города и горы – и квит, а мы думали, что это так и надо, и в простоте сердца не простирали вдаль своих претензий.
Должность инспектора училищ в то время неразлучна была со званием смотрителя. То и другое держал о. Иннокентий. И грозен, суров и подчас кровожадно-жесток он был, прости ему Господи. Понедельник каждой недели был для нас сущею грозою. В этот день делалась расправа всем, кто или не был в церкви, или, бывши, не чинно стоял. Последним доставалось больше всего. Страшно было видеть Иннокентия, когда он, закусив бороду и сдвинув клобук на сторону, закричит не своим голосом домашним палачам: «пори». Кровью обливается несчастный преступник, а тирану все мало. Страшнее всего для нас был зов в библиотеку. Это – лобное место домашних преступников. «Архангелы, сюда»! – закричит, бывало, Иннокентий, и из дальних кутов или, как у нас говаривали, из «камчатки» вылазят, бывало, человека три самых дюжих для исправления должности палачей. И горе бедняку, попавшемуся в их руки! Но когда хладнокровие позволяло Иннокентию сделать предварительные приготовления к
674

ПРИЛОЖЕНИЕ
наказанию преступников, то обыкновенно являлись солдаты в качестве алгвазилов. Этим молодцам однажды попался и я. Не помню, за что, знаю только, что за самую малость, взбешенный Иннокентий приказал солдату отвести меня и одного из товарищей моих, четырнадцативершкового верзилу, в карцер. Нас повели. Дорогою я размышлял о том, чтó дальше с нами будет, и мне страх захотелось улизнуть от казни.
– Полянский, – сказал я, обращаясь к товарищу моему, – давай уйдем.
– Да как тут уйдешь – вишь, за нами солдат. – Экой дурак! Да свисни его в ухо, а там тягу.
Дурачина послушался. Бедный служитель свалился с ног; мы убежали. Но этим не спаслись нисколько от беды. Нас привели снова. Ну, плохо было моему Полянскому, и мне не хорошо, да уж все легче, потому что Иннокентий, как говорится, сорвал сердце на товарище моем.
Но,несмотрянатакоенероновскоеобращениеснами, мы были ужасные шалуны и негодяи. В самом классе у нас бывали рыцарские потехи, от которых у иного являлась лазурь под глазами и нос принимал фигуру разностороннего треугольника. Бывало, за час до прихода учителя мы соберемся и идем на кулачки стена на стену. Это жестокое побоище кончалось тем, что одна какая-нибудь сторона давала тыл и победители гнали побежденных по коридорам училища, свирепствуя над ними не хуже татар. Другая дикая забава состояла у нас вот в чем. Партия выходит на партию, имея вместо оружия или платки с завязанными на одном конце узелками, или просто край халата, – этим оружием мы щелкали друг друга, не боясь выстегнуть глаза. Часто пораженный сваливался со стола, ибо битва всегда происходила на партах, и гром падения его был призывным знаком к лютейшему сражению. Ужасная грубость, что и говорить. Но где ж взять лучше развлечение, когда наши менторы сами не понимали, чем
675

ПРИЛОЖЕНИЕ
можно занять ребят в минуты досуга. Под неумолимою ферулою домашних палачей ожесточались душа и тело, и мы становились дикарями, для которых такие побоища были самым лучшим dolce far niente.
Дома мы с братом занимались большею частью переводами с латинского языка. Педагогом нашим был некто Петр Ефремович Устиновский, с ужасными бакенбардами и с глупою головою. Не знаю, почему, но я его терпеть не мог. Как жаль, что для моей охоты к ученью не было никакой пищи, что мне никто ничего не мог указать. По нескольку раз я переписывал тексты, выбираемые учителем для ежедневного повторения, – меня и за это бранили, говоря, что я попусту трачу бумагу; перечищал мои классические задачи – и то украдкой, чтоб батюшка не заметил. Я рад был бы душою прочитать какую-нибудь книгу; но мне не давали, да, вправду сказать, и дать было нечего. Одно и единственное мое наслаждение было читать какую-то древнюю историю, у которой не было ни начала, ни конца, да еще сказки лубочной печати. Вот все, чем должна была ограничиться моя литературная деятельность. А любопытство страшно кипело в ребенке. Я читал философские лекции моего педагога и завидовал ему, что он учит вещи гораздо умнее тех, которыми тиранил я в ту пору память свою. Не помню, как и каким образом попалась мне «Пиитика» Платона. Я с радости почти выучил ее наизусть. Помещенные там при конце «Овидиевы превращения» заинтересовали меня более всего; я несколько раз обращался с просьбою объяснить мне эти рассказы; но мой педагог важно прогонял меня прочь, замечая мне, что я все пустяками занимаюсь. Тут еще успел я выучить одно старинное стихотворение о петухе и лисице, которое (до сих пор помню) начиналось так:
Дивная история и чудная весть, Как однажды лисица захотела есть.
676

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ядекламировал его мастерски, и меня по нескольку раз заставляли читать и перечитывать его, постоянно осыпая похвалами. В это время, не знаю, по какому случаю, я познакомился с стихотворениями Державина, Капниста, Николева и Жуковского и моею детскою рукою списал многие из них. «Подражание Иову» Ломоносова
язнал наизусть, и сердце во мне трепетало от восторга, когда я читал неслыханные никогда мною строфы этого отца нашей поэзии. Сам батюшка поглаживал иногда меня по голове и приговаривал: «Хорошо, сынок, только, смотри, береги у меня бумагу». Бог знает, не было ли это предвещательным предостережением, чтоб я не брался впоследствии времени за перо стиходея. Грешен, что ж делать, не исполнил завета отцовского и даже влез со стихами моимив печать.
Ябыл в училищном хоре; пел альтом. Еще до поступления моего в школу я охотно бежал в церковь и громко распевал на клиросе стихиры. Звонкий голос мой нравился всем; но я боялся попасть в архиерейский хор, ибо вовсе потерял бы в общем мнении. Там было сборище самых отчаянных шалунов и лентяев. Хором, к которому принадлежал и я, заведовал Я. Ф. Покровский, и мы – экая смелость! – дерзали даже петь концерты. Около этого времени последовала кончина Епифания, епископа Воронежского и Черкасского... С приездом нынешнего Антония [4]
япосвящен в стихарь в качестве лампадника к его пре освященству. Никогда не забуду я того впечатления, которое произведено было на меня блестящим стихарем, впервые надетым на мои плечи. Мне казалось, что все смотрят и любуются мною, и это, конечно, оттого, что я не мог налюбоваться сам собою... Принимался я и за рисование. Разумеется, учителя у меня не было никакого, а перенимал все у товарищей. Главный секрет рисования состоял у меня в следующем: взять какую-нибудь картину, пришпилить к ней бумагу булавками и приставить к стеклу,
677

ПРИЛОЖЕНИЕ
рисовать сначала карандашом, а потом размазывать красками. Картины мои вовсе не годились бы на выставку.
Брался я за музыку, но безуспешно. Умоего домашнего педагога были гусли, на которых он преудивительно игрывал. Урывками я, бывало, побренчу собственную фантазию и убегу, чтобы не увидал меня злой Петр Ефремович.
Вотоднастраницамоейжизни,–перевернитеееибуде- те читать на другой, где я уже пишусь словесником, т. е. учеником словесности, а паче «хитростей пиитических».
Отрывок из этой страницы находится в «Дневнике» под 1845 годом. Вот что читаем мы там:
«Я сказал уже, что читатели мои (если только будут у меня читатели) должны теперь не иначе воображать себе меня, как словесником. О, не шутите этим! В мою пору это было совершенно то же, что тоненький эполет для прапорщика, первый выезд на бал для институтки. Мы гордо проходили мимо училища, уже не боясь, чтобы нас отодрали за уши, если мы не скинем шапки перед какимнибудь учителем. Мы уже смело носили шинель спустя рукава, нисколько не воображая, как это было смешно, особенно для фризовой яркого цвета шинели. Прошу помнить, что носить шинель спустя рукава наше начальство строго запрещало, находя в этом что-то богопротивное. Словесники и так далее были в этом случае немножко вольнодумцы и уже позволяли себе все, что запрещалось ученикам уездным.
Я с братом подался во второе отделение словесности. Профессорами у нас были: по словесности – Алексей Петрович Лебедев, по истории – Антон Иванович Собкевич, а по прочим предметам – лекторы, назначаемые из лучших учеников богословского класса. Я помню их: одного, который читал у нас греческий язык, звали Петровым, а преподавателя французского языка – Мезецким. Немецкий язык читал А. А. Николаевский. О последних нечего говорить. Это были такие же семинаристы, как и я и все
678

ПРИЛОЖЕНИЕ
мои товарищи, не обозначаемые особенным типом. Но о профессорах можно и даже должно сказать.
А. П. Лебедев был у нас заслуженным профессором и одним из важнейших диктаторов в семинарском ареопаге. Более двадцати лет обучая ребят риторике, он, как говорится, набил руку; но, собственно говоря, он не умел приспособляться к понятиям ребятишек. Всегда важный, гордый, он говорил с нами языком не педагога, а оратора, декламирующего перед публикою заранее обдуманную лекцию. Он не любил долго вбивать в голову ребенка условные правила составления речи, – оттого теорию мы знали плохо. Лебедев обыкновенно учил нас примерами. Он возьмет, бывало, какое-нибудь сочинение, положим, Анастасия, Карамзина или Феофана, и начнет его разбирать по суставчикам, указывая нам, где тут порядочная хрия, где не совсем порядочная, где тут винословный, где разделительный период, где там торчит синекдоха, где метонимия. К концу такого анатомического анализа бедное сочинение до того бывает истрепано, что на нем лица не видно. Впрочем, нельзя не поблагодарить Лебедева за такой метод преподавания, – не все, но многие из нас, выбитые самим наставником из привычной колеи риторических правил, рано начали писать тем языком, который тогда впервые показался в «Письмах русского путешественника». Благодарен я Лебедеву и за то еще, что он не привязывался к школьным приемам условной речи, а позволял писать свободно, прямо, не растягивая речи на прокрустово ложе риторики. И – странное дело – мы учились сочинять по-русски по руководству латинской риторики Бургия, бестолковее которой я доселе еще не читывал ни одной риторики. Что за глупая была мысль убивать в ребенке всякую живую мысль этою аптечною мертвечиною... А нас заставляли учить и непременно от слова до слова. Новое варварство! Но вечная память моему доброму наставнику. Первые начатки писать я вынес
679

ПРИЛОЖЕНИЕ
из его школы. Медленно развертывались мои способности и односторонне их было направление, но я не виноват был в том. Нам читали только проповеди, строго запрещая чтение повестей, которых тогда было слишком небольшое число. А энциклопедических сведений и требовать нельзя было от нас, ибо сами учителя их не имели, простодушно довольствуя нас уроками о смирении и суете сего мира. Но вот что странно. По-русски мы не умели писать, зато по-латыни были такие мастера, каких теперь трудно поискать. Я сам в настоящую пору (в 1845 году) не сумею написать того, что выходило во время оно из-под детского моего пера... А сказать ли, что меня заставило заниматься латинскою поэзиею? Был у меня в ту пору товарищ Н. К. Смыслов. Его рано похитила смерть; но таких талантов, какие имел этот человек, я во всю жизнь мою не встречал. Он был могучим соперником моим в школе, всегда и во всем перебивая мне дорогу. Это меня бесило. Но я успел опередить его в знании русского языка и еще кое в чем. Вдруг, слышу, Лебедев читает чьи-то латинские стихи с такою похвалою, что у меня уши загорелись. Кончив чтение, он отдал тетрадь Смыслову. Я чуть не заплакал. «Постой же ты, злодей, – думал я, – не опередить тебе меня и в этом». Тот час же я взялся за просодию, начал учить Овидия, читать Вергилия и Горация, и через две недели первый опыт моего стиходейства был уже в руках нашего ментора. Но каково же было мое огорчение, когда профессор в каких-нибудь сорока стихах нашел правильным только один коротенький стишок: «1аbitur omne». Я готов был растерзать себя. Смыслов торжествовал. Не испугавшись однако ж первой неудачи, я усилил мои старания, зная очень хорошо, что «gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic bene doctus eris non vi, sed saepe studendo». Успех увенчал мои старания, и я стал наравне с моим противником. В эту же пору рука моя впервые вооружилась тростью стихописца, – и смешно и досадно
680
