
Курылев С.В. - Избранные труды по ГПП
.pdf
Значение конкретных обстоятельств дела для применения норм... |
581 |
При применении нормы с абсолютно определенной гипотезой юридическое значение может быть придано лишь тем обстоятельствам дела, которые отвечают указанной в гипотезе общей характеристике фактов. Процесс применения такой нормы, в отличие от нормы с абсолютно определенной гипотезой, проходит не две, а три стадии: 1) доказывание фактов (единичного или определенной совокупности), которые могут иметь юридическое значение (например, причины пропуска срока исковой давности); 2) фактическая оценка установленных обстоятельств (например, вывод об уважительности причин пропуска срока исковой давности); 3) юридический вывод (например, о восстановлении пропущенного срока).
При применении нормы с абсолютно определенной гипотезой второй этап отсутствует.
2. Относительно определенный характер может иметь не только гипотеза нормы, но и ее второй элемент – юридические последствия (диспозиция или санкция)1. Разновидностью таких норм будут дискреционные нормы, т.е. нормы, предоставляющие своему адресату определенную свободу выбора из возможных способов поведения, но ограничивающие эту свободу определенной целью, на достижение которой направлена норма. Так, при непосещении работы вследствие временной нетрудоспособности в течение двух месяцев согласно п. «ж» ст. 47 КЗоТ администрация имеет право (но не обязана) уволить работника. Следовательно, п. «ж» ст. 47 КЗоТ предоставляет администрации при наличии указанных в данной норме условий возможность двух вариантов поведения. Однако эта возможность ограничена интересами производства2.
1Критику традиционной трехчленной структуры юридической нормы см.: Курылев С.В. О структуре юридической нормы // Тр. Иркут. гос. ун-та. Иркутск, 1958. Т. XXVII. Вып. 4; Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1964. Вып. 2. С. 20–25.
2ПостановлениеПленумаВерховногоСудаСССРподелу№03/488//Судеб.практика. 1953.№6.С.27–28.Цель,которойдолженбытьподчиненвыборизпредставленныхнор- мой вариантов поведения, может быть или указана непосредственно в дискреционной норме (ст. 44 УПК), или вытекать из смысла законодательства (принципов отрасли) права. Например, цель, которой должно быть подчинено применение п. «ж» ст. 47 КЗоТ, не указана в самой норме, но она вытекает из основного принципа советского трудового права – сочетание интересов производства с интересами работника (этот принцип находит отражение в ст. 1, 36, 37, 104, 144, 158 КЗоТ и др.).
Понятие дискреционной нормы должно получить, по нашему мнению, право на существование в советской юридической науке, но в ином указанном ранее смысле (в буржуазном праве под дискреционной нормой понимают норму, предоставляющую юрисдикционным органам свободу усмотрения, а следовательно, надо добавить, свободу произвола). См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 127. Выделение при классификации дискреционных норм оправдано и теоретически,

582 |
Проблемы теории права |
В силу дискреционности п. «ж» ст. 47 КЗоТ юридически значимыми будут все те конкретные обстоятельства дела, которые означают наличие либо отсутствие производственной необходимости увольнения заболевшего работника, например невозможность замены заболевшего работника другим, и, наоборот, наличие такой возможности или временное сокращение работ по должности заболевшего работника.
Юридическая норма может предоставлять и большее, даже не определенное количество вариантов поведения. Например, ст. 207 ГПК предоставляет право суду исходя из обстоятельств дела изменить способ и порядок исполнения судебного решения. Однако
издесь возможность выбора из различных вариантов поведения ограничена определенной целью – защитой законных прав и интересов сторон (см. ст. 2 ГПК). В силу дискреционности ст. 207 ГПК юридическое значение будет иметь такое, например, конкретное обстоятельство дела, как уклонение должника от совершения указанных в решении суда личных действий, например недопущение работника к работе, на которую работник был восстановлен, другие факты, означающие невозможность или затруднительность исполнения решения суда указанным в нем способом.
Дискреционная норма похожа на норму с относительно определенной гипотезой своей относительной неопределенностью. Различие их в том, что неопределенность дискреционной нормы
ипрактически,т.к.дискреционнаянормасущественноотличаетсяотнедискреционной,
не предоставляющей юрисдикционному органу какой-либо свободы в выборе возможныхвариантовповедения.Одновременнодискреционнуюнормунельзя,нанашвзгляд, отождествлять с диспозитивной нормой, как это делают некоторые авторы, относя, в частности, п. «ж» ст. 47 КЗоТ к диспозитивным нормам (Советское государство и право, 1954. № 4. С. 133).
Диспозитивная норма – это норма, предоставляющая субъектам правоотношения возможность самим определять свое поведение и предусматривающая определенное поведениелишьнаслучай,еслисубъектыправоотношениятакойвозможностьюневоспользовались.Дискреционныенормытакжепредоставляютсвободувыбораповедения, но, во-первых, они подчиняют эту свободу цели, к достижению которой должно приве- стиприменениенормы;во-вторых,вотличиеотдиспозитивныхнормнепредусматрива- ют какого-либо законного варианта поведения при неиспользовании свободы. Поэтому дискреционные нормы являются разновидностью императивных, а не диспозитивных норм. В указанной связи представляет интерес Приказ НКЮ СССР от 11 декабря 1939 г., отменивший приказы НКЮ РСФСР от 1 ноября 1939 г. и от 10 ноября 1939 г. НКЮ РСФСР использовал дискреционность ст. 30 УПК РСФСР 1923 г. и примечания к ст. 22 ГПК РСФСР 1923г.вцеляхперераспределенияделмеждусудами.НКЮСССРпризналэтонеправильным, указав, что право передачи дел из одного суда в другой может быть использовано не по свободному усмотрению, а лишь в соответствии с целью такой передачи, указанной в ст. 30 УПК, т.е. для обеспечения более беспристрастного и скорого рассмотрения дела(СборникприказовиинструкцийНародногокомиссариатаюстицииСССР.М.,1940. Вып. 1. С. 136).

Значение конкретных обстоятельств дела для применения норм... |
583 |
содержится в диспозиции, а не в гипотезе. Поэтому конкретные обстоятельства дела, имеющие юридическое значение в силу дискреционности нормы, находятся полностью вне пределов гипотезы нормы: они не указываются в гипотезе прямо в виде юридических фактов, они не предусматриваются в гипотезе и косвенно – путем общей характеристики фактов. В силу этого правильное определение юридического значения конкретных обстоятельств дела при применении дискреционных норм связано с еще большими трудностями, чем при применении норм с относительно определенной гипотезой, особенно в случаях, когда дискреционность диспозиции находится в сочетании с относительной определенностью гипотезы (ст. 44 УК, ст. 207 ГПК и др.), в случаях, когда цель, которой должно быть подчинено применение нормы, не указана в самой норме, а выводится из другой нормы или из общих принципов права.
Аналогичное значение могут иметь конкретные обстоятельства дела при применении норм с относительно определенной или альтернативной санкцией, т.е. отрицательными юридическими последствиями, связываемыми законом с правонарушениями.
3. При разрешении конкретных дел могут встретиться случаи, когда обстоятельства дела, не указанные в гипотезе нормы в качестве юридических фактов, должны считаться таковыми по смыслу нормы путем ограничительного или расширительного толкования закона1. Такие особенности будут не чем иным, как юридическими фактами, не предусмотренными буквой закона, но предусмотренными его смыслом. Поэтому нет необходимости именовать их конкретными обстоятельствами дела. Одновременно следует подчеркнуть, что ограничительное или расширительное толкование закона не может быть использовано в качестве формы «гибкого» применения закона, т.е. не может противоречить принципу единообразного применения закона. Это возможно лишь в том случае, если основой толкования закона будет не правосознание2,
1Сейчас мало кто разделяет высказанный в свое время взгляд о недопустимости расширительного или ограничительного толкования закона (Голунский С.А., СтроговичМ.С. Теориягосударстваиправа.М.,1940.с.265;Уголовноеправо.Общаячасть.М., 1948. С. 241, 247 и др.).
2Изложение вопроса об ограничительном и расширительном толковании в работе М.П.КаревойиА.М.Айзенберга.ТакжеА.И.Денисовдаетоснованиедумать,чтоавторы основу такого толкования видят в здравом смысле, точнее, в правосознании (Теория государства и права. М., 1948. с. 480). Например, авторы пишут: «ясно» («совершенно очевидно» – А.И. Денисов), что ст. 49 КЗоБСО, возлагающая на детей обязанность содержать родителей, имеет в виду лишь взрослых детей и поэтому должна толковаться ограничительно. Но здравый смысл – хороший проводник по гладкой дороге. Авторам
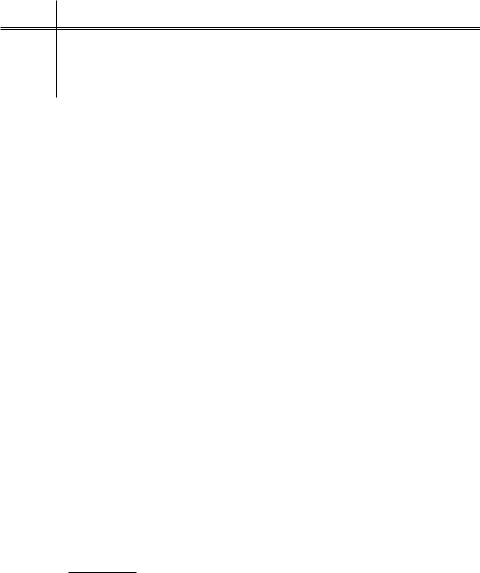
584 |
Проблемы теории права |
не соображения хозяйственной или политической целесообразности (экономики и политики, не нашедших отражения в законе), а только закон. Если нельзя согласиться с мнением о недопустимости расширительного или ограничительного толкования, то столь же нельзя признать правильным и противоположный взгляд о правомерности изменения содержания закона применительно к индивидуальным особенностям дела, к условиям места и времени применения закона путем его толкования. Закон – это объективированная воля законодателя, и содержание этой воли, как справедливо отмечают М.П. Карева и А.М. Айзенберг, вправе менять, корректировать «применительно к новым условиям и потребностям нашего общества» только сам законодатель или согласно ст. 49 Конституции СССР – Президиум Верховного Совета
СССР1. Юрисдикционные органы должны путем толкования выяснить мысль законодателя, а не вкладывать в закон различные мысли в зависимости от условий места и времени, от индивидуальных особенностей дела. Последнее явилось бы не применением права, а законодательством. Толкование закона должно быть единообразным и неизменным, если не изменяется сам толкуемый закон или другие законы, влияющие на его содержание. Всякие иные изменения в толковании закона возможны лишь путем замены ошибочного толкования правильным.
4. Индивидуальные особенности дела могут иметь юридическое значение в случае применения закона по аналогии. Нельзя согласиться с высказанным в литературе мнением, что нужно вовсе исключить возможность применения аналогии. Этого нельзя полностью сделать лишь потому, что в любой отрасли права не исключены пробелы.
Правда, аналогию преступления или иного правонарушения можно устранить путем соответствующего ограничения понятия преступления, как это ныне сделано в ст. 7 УК. Однако этого нельзя сделать в отношении других вопросов. Например,
ясно, что ст. 49 КЗоБСО имеет в виду лишь взрослых детей, между тем в судебной практике бывает совсем не ясно, если приходится сталкиваться со случаями взыскания али- ментовнуждающимсяродителямс16–17-летнегохорошообеспеченногосына.Основой ограничительного толкования ст. 49 КЗоБСО должен быть не здравый смысл, а закон – КЗоБСО, безусловно, обязывающий родителей содержать несовершеннолетних детей и исключающий, следовательно, встречное право родителей в отношении несовершеннолетних детей. Толкование закона по правосознанию «с учетом новых обязательств, требующих расширения или ограничения словесного смысла юридической нормы» допускаютА.И.Денисов(Теориягосударстваиправа.М.,1948.С.477),Н.Н.Полянский(Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 161–162).
1 Карева А.П., Айзенберг А.М. Указ. соч. С. 40.

Значение конкретных обстоятельств дела для применения норм... |
585 |
на основании указов Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. и от 9 мая 1943 г. преступные действия работников железнодорожного и водного транспорта рассматривались как воинские преступления. Однако в указах ничего не было сказано о роде и размере наказания для данных лиц при совершении ими таких преступлений, за которые закон определял наказание, применимое только в отношении военнослужащих, – лишение воинского звания, направление в дисциплинарный батальон. По этому Пленуму Верховного Суда СССР по делу Затыки пришлось прибегнуть к аналогии Общей части УК и вместо направления Затыки в дисциплинарный батальон определить ему наказание
ввиде исправительно-трудовых работ1, хотя такая аналогия ст. 16 УК 1926 г. и не предусматривалась. Однако, для того чтобы применение закона по аналогии не противоречило принципу законности, необходимо правильно понимать пробел, отграничивать действительный пробел от мнимого. Такое отграничение нелегко провести при понимании пробела как отсутствия закона, предусматривающего данный случай2. Ведь отсутствие закона, преду сматривающего тот или иной случай, можно расценить и как недосмотр законодателя, и с еще большим основанием как сознательное оставление данного случая (отношения) вне правового регулирования. Поэтому применение закона по аналогии к подобным случаям будет не восполнением воли законодателя, а прямым ее нарушением. Вследствие этого, нам кажется, под пробелом
взаконе следует понимать отсутствие в законе указания о юридических последствиях случая, который согласно закону имеет юридическое значение. При применении аналогии юрисдикционный орган исходит не из того, что законодатель не предусмотрел данного случая, а, наоборот, из того, что законодатель предусмотрел данный случай, но недосмотрел необходимость определения его юридических последствий. Например, законодатель предусмотрел, что взыскание за нарушение трудовой дисциплины не может налагаться спустя значительное время после совершения проступка. Но законодатель указал время, в течение которого может быть наложено взыскание за нарушение трудовой дисциплины, только в отношении некоторых взысканий (замечание,
1Шаргородский М. Вопросы Общей части уголовного права. М., 1955. С. 14–15.
2Денисов А.И. Социалистическое право. М., 1955. С. 62–63. У А.И. Денисова широкое понимание пробела связано с его теорией активной творческой роли юрисдикционных органов, призванных регулировать «не только те общественные отношения, которые получили разрешение в законодательстве, но и те, которые вовсе не разрешены им или разрешены в самом общем виде» (там же. С. 62).

586 |
Проблемы теории права |
выговор и другие, указанные в п. 22 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений от 12 января 1957 г.), относительно же срока, в течение которого может, например, последовать увольнение за прогул, ничего не указал. Но очевидно, что увольнение за прогул, как и наложение перечисленных в п. 22 Типовых правил взысканий за нарушение трудовой дисциплины, также должно быть ограничено определенным сроком. Приходится применять по аналогии п. 25 Типовых правил.
Типичным случаем пробела, восполненного Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 13 сентября 1957 г., является отсутствие в Положении о порядке рассмотрения трудовых споров от 31 января 1957 г. указания о порядке рассмотрения трудовых споров в тех предприятиях или учреждениях, где нет профсоюзной организации или профсоюзного организатора.
Пробел в законе – это результат формального несовершенства закона1, что отчетливо можно было видеть из ст. 6 ГПК УССР 1929 г., в которой было сказано: «Суд не может отказать в решении дела под предлогом неполноты, неясности или противоречия закона и решает дело, руководствуясь общими началами советского законодательства и общей политикой Рабоче-крестьянского правительства». Применение права по аналогии необходимо и неизбежно тогда, когда воля законодателя о придании юридического значения какому-либо конкретному случаю очевидна из прямого указания закона, однако содержание этой воли невозможно уяснить путем толкования закона из-за его неполноты, неясности или противоречивости. В подобных случаях конкретизация юридического значения соответствующего обстоятельства дела производится юрисдикционным органом на основе наиболее сходной нормы
1 Если под материальным несовершенством закона можно понимать его несоответствие общественным потребностям, то под формальным несовершенством – несоответствие смысла закона его букве.
А.И. Денисов, последовательно развивая теорию «гибкого» применения закона, закона с «динамическим» содержанием, допускает использование аналогии для устранения и материального несовершенства закона, если он устарел, т.к. законодательство «неможетугнатьсязавсемипроявлениямибурноразвивающейсяжизни»(ДенисовА.И. Социалистическое право. М., 1955. С. 62–63). Одновременно А.И. Денисов не проводит отчетливойгранимеждуаналогиейитолкованием,ибодопускает«корректив»устаревших законов не только в форме аналогии, но и путем толкования (Денисов А.И. Теория государства и права. М., 1948. С. 482). Такая трактовка пробела в законе, смешение аналогии с толкованием не соответствуют режиму социалистической законности.

Значение конкретных обстоятельств дела для применения норм... |
587 |
закона (аналогия закона) или при отсутствии таковой на основе принципа, выводимого из нескольких норм права1.
Применение аналогии на основе объективного критерия, содержащегося в законе, не будет находиться в противоречии
спринципом единообразного понимания и применения закона,
спринципом независимости судей и подчинения их только закону. Отсутствие же ясности в понимании пробела, а отсюда и в правилах заполнения его по аналогии ведет к тому, что в юрисдикционной практике иногда придается юридическое значение и таким индивидуальным особенностям дела, которые по закону юридического значения не имеют, или, наоборот, юрисдикционные органы отказываются принимать во внимание те обстоятельства дела, юридическая значимость которых должна быть определена при помощи аналогии2. Указанные обстоятельства дела, как и в случае толкования закона, имеют значение юридических фактов, а поэтому их не следует, учитывая данное ранее определение, именовать конкретными обстоятельствами дела. Взгляд сторонников «гибкого» применения закона, полагающих, что «аналогия должна применяться судами только по отдельным конкретным делам, не создавая прецедента…»3, нельзя признать обоснованным. Такой взгляд фактически означает, что одно и то же обстоятельство, которое должно быть признано юридическим фактом путем применения аналогии, при разрешении одного дела может получить такое значение, при разрешении другого – нет, что ведет к неединообразному применению закона. Не случайно, что практика Верховного Суда СССР идет по другому пути – имеющиеся в законодательстве пробелы до принятия необходимого закона заполняются путем издания постановлений, имеющих обязательное значение
1Например, основанием использования аналогии права для разрешения исков о возмещении вреда, возникшего при спасании социалистической собственности, являлось до введения в действие ГК 1964 г. не голое правосознание, а принцип охраны социалистической собственности (см., например: Советское гражданское право : пособие для студентов ВЮЗИ. М., 1955. Ч. 1. С. 12), выводимый из ст. 131 Конституции СССР и других норм гражданского права.
2Так, в судебной практике до Постановления Пленума Верховного Суда СССР от
13сентября 1957 г. нередки были случаи, когда народные суды отказывали в приеме заявлений по трудовым спорам, которые не были предметом предварительного рассмотрения в профсоюзных органах ввиду отсутствия таковых на отдельных предприятиях ивучреждениях,т.е.непридавалипоследнемуобстоятельствуюридическогозначения, хотя данный случай на основании п. «б» ст. 2 Закона о судоустройстве 1938 г. и должен был бы разрешаться при помощи аналогии (об отмеченных фактах см.: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1957. № 5. С. 13).
3Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 206. См. также: Теория государства и права. М., 1949. С. 385.

588 |
Проблемы теории права |
для судебных органов и обеспечивающих вследствие этого единообразие в заполнении законодательных пробелов.
Таким образом, юрисдикционные органы при применении права могут и должны учитывать лишь те конкретные обстоятельства дела, которые по закону имеют юридическое значение. Только такое применение права соответствует принципу социалистической законности и гарантирует от использования «конкретных обстоятельств дела» в качестве формы отступления от содержания закона.
Право юрисдикционных органов учитывать конкретные обстоятельства дела при применении закона является необходимым следствием гуманности и справедливости советского законодательства. По мере роста квалификации и политической зрелости юридических кадров закон расширяет допустимые пределы учета конкретных обстоятельств дела при применении норм права, происходит, по справедливому замечанию С.С. Алексеева, дифференциация содержания правовых норм1, советское право все более и более теряет присущую всякому праву «жесткость» (применение равного масштаба к неравным лицам), становится на путь постепенного перерастания в будущие правила коммунистического общежития.
1 Алексеев С.С. О нормативном регулировании в коммунистическом обществе // XXII съезд КПСС и вопр. государства и права. Свердловск, 1962. С. 290.

Ометодологии постановки
ирешения общетеоретических научно-правовых проблем
(Статья)
1. Широкое дискуссионное обсуждение спорных научно-право вых проблем является одним из эффективных способов их правильной постановки и решения. Немало правовых проблем было предметом дискуссий, однако в ряде случаев было признано, что эти дискуссии носили схоластический характер, и они прекращались, не принеся ощутимых результатов.
2. К разряду схоластических была отнесена состоявшаяся в конце 1940-х и начале 1950-х гг. дискуссия о понятии и содержании объективной (материальной) истины в правосудии – о том, охватывает ли она наряду с фактами и их общественно-политическую и юридическую оценку, является ли она абсолютной или относительной истиной. Одной из причин оценки данной дискуссии как схоластической, на наш взгляд, послужило то, что ее участники почти не касались тех «выходов в практику», которые могли вытекать из предлагавшихся решений вопросов.
3. Решение этой и подобных ей проблем в силу их общетеоретического характера часто не дает непосредственно осязаемых практических результатов, однако последние могут появиться через ряд промежуточных звеньев. Например, если считать, что устанавливаемая судом истина является относительной, то и под обоснованностью судебных приговоров и решений (частная проблема) следует понимать не их соответствие объективной действительности, а их истинность относительно добытых в судебном следствии материалов. Такое понятие обоснованности дает в свою очередь теоретическую базу для разрешения дел по принципу
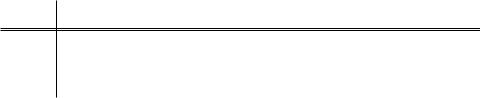
590 |
Проблемы теории права |
вероятности, для вынесения решений об отказе в иске по мотивам недоказанности и т.п. (практический результат). Аналогичным путем можно показать «выход в практику» мнения об абсолютном характере истины, устанавливаемой судом, и даже взгляда, отрицающего саму правомерность применения данных философских категорий к истине в правосудии.
4. Общественно-политическая, в том числе моральная оценка устанавливаемых судом фактов, поступков людей, не может считаться самостоятельным, наряду с применением права, этапом осуществления правосудия и его самостоятельной задачей. Такая оценка предвосхищена законом, отражающим и закрепляющим
втипизированном виде научное познание социальной значимости того или иного поведения людей. Общественно-политическая оценка поведения служит лишь одним из средств понимания смысла закона, правильного его истолкования и применения.
5. Выделение общественно-политической оценки поведения
вкачестве самостоятельной задачи правосудия является следствием ошибочного взгляда на роль социалистического правосознания в осуществлении правосудия, взгляда, высказанного А.Я. Вышинским, допускавшим корректировку закона социалистическим правосознанием при применении закона, что теоретически оправдывало нарушения законности. Критикуемая концепция ведет к необоснованному расширению предмета доказывания, может породить на практике отступление от содержания закона во имя «правильной общественно-политической (моральной) оценки».
6. Осуществление правосудия слагается: 1) из установления фактов, существенных для дела с точки зрения закона; 2) применения к ним юридических последствий, связываемых законом с данными фактами.
Установление фактов – это познавательная деятельность судей. Она протекает согласно общим объективно существующим законам познания, человеческого мышления. Юридические законы не
всостоянии оказывать непосредственное влияние ни на протекание этого процесса, ни на его результаты (сложившееся в сознании судей убеждение о существовании или несуществовании фактов).
Применение права – акт воли уполномоченного государством органа. Изъявление воли подчинено иным, чем при познавательном процессе, психологическим закономерностям; кроме того, оно подчинено юридическим законам, объектом воздействия которых является не что иное, как воля участников общественных отношений.
