
Курылев С.В. - Избранные труды по ГПП
.pdf
Установление истины в советском правосудии |
491 |
совместного проживания как основание выселения, невозможность сохранения семьи как основание развода и т.п.).
Процесс применения такой нормы, в отличие от нормы с абсолютно определенной гипотезой, проходит не две, а три стадии: 1) установление фактов (единичного или совокупности), которые могут иметь юридическое значение (например, причины пропуска срока исковой давности); 2) фактическая оценка установленных обстоятельств (например, вывод об уважительности причин); 3) юридический вывод (о восстановлении пропущенного срока). При применении нормы с абсолютно определенной гипотезой второй этап отсутствует.
Относительно определенный характер может иметь и второй элемент юридической нормы – юридические последствия (диспозиция или санкция). Такие нормы предоставляют правоприменяющему органу возможность выбора нескольких вариантов поведения, но с тем, чтобы применение нормы отвечало той цели, для которой она предназначена. В силу этого имеют юридическое значение и являются предметом доказывания все те конкретные обстоятельства дела, которые свидетельствуют в пользу или против целесообразности выбора того или другого варианта поведения из нескольких возможных. Например, в силу относительно определенного характера диспозиции п. «ж» ст. 47 КЗоТ РСФСР юридически значимыми будут те конкретные обстоятельства дела, которые означают наличие или отсутствие производственной необходимости в увольнении заболевшего работника, в частности невозможность замены его другим работником, и, наоборот, наличие такой возможности или временное сокращение работ по должности заболевшего работника.
При разрешении конкретных дел могут встретиться случаи, когда те или иные обстоятельства дела, не указанные в гипотезе нормы в качестве юридических фактов, должны считаться таковыми по смыслу нормы путем ограничительного или расширительного толкования закона или в силу допускаемой законом возможности применения аналогии закона или права. Подобные факты также относятся к предмету доказывания.
Не подлежат доказыванию факты общеизвестные и преюдициально установленные. Это справедливо как для гражданского, так и для уголовного процесса. Нельзя согласиться с мнением, что «нельзя указать каких-либо фактических обстоятельств данного конкретного дела (выделено автором), которые в силу общеизвестности не надо было бы доказывать» (М.С. Строгович). Таковыми, например, могут быть некоторые квалифицирующие признаки состава

492 |
Проблемы гражданского процессуального права |
преступления: время совершения деяния (ст. 233 УК РСФСР), место совершения деяния (ст. 198 УК РСФСР и др.).
Общеизвестность факта может констатироваться при наличии двух условий: 1) объективного – известность факта широкому кругу лиц; 2) субъективного – известность факта всем членам суда. Признание факта общеизвестным при наличии одного объективного признака противоречило бы принципу оценки доказательств по внутреннему убеждению судей; при наличии одного субъективного признака – знания факта судьями исключало бы процесс познания данного факта из-под контроля участников дела.
Факты, известные широкому кругу лиц, в том числе, например, членам вышестоящего суда, могут быть признаны общеизвестными не только судом первой инстанции, но и судами, рассматрива ющими дело в кассационном порядке либо в порядке надзора.
Преюдициальность означает обязательность установленных вступившим в законную силу постановлением суда выводов о фактах для всех других судебных и внесудебных органов и общественных организаций при познании данных фактов.
Нельзя, на наш взгляд, согласиться с мнением, что в области уголовного судопроизводства вместо преюдициальности действует презумпция истинности судебного приговора, которая может быть оспорена в особом порядке. Закон каких-либо оснований для такого различного решения одного и того же вопроса для области уголовного и гражданского процесса не дает. Не оправдано оно
ипо теоретическим соображениям.
Воснове любой презумпции лежит вероятность, поэтому советское процессуальное право не знает неопровержимых презумпций. Говорить же о презумпции истинности судебного приговора, т.е. о вероятности содержащихся там выводов о фактах, – значит вступать в противоречие с принципом объективной истины и с задачами советского правосудия, требующими, чтобы судебные постановления в принципе покоились на достоверности, а не на вероятности.
Вотличие от всех известных советскому процессуальному праву презумпций презумпция истинности судебного приговора не регулирует распределения обязанностей по доказыванию между участниками дела, не допускает, а запрещает суду производить проверку преюдициально установленных фактов.
Воснове преюдициальности лежат принципы объективной истины и процессуальной экономии в их взаимодействии. В силу одинаковых, в сущности, процессуальных условий установления истины по уголовным и по гражданским делам преюдициальная

Установление истины в советском правосудии |
493 |
зависимость существует не только между двумя приговорами или двумя решениями, но и между приговором и решением или, точнее, между любыми постановлениями суда, вступившими в законную силу.
Поскольку предметом доказывания служат только факты, но не правоотношения, то с объективной стороны преюдициальность распространяется только на факты. Преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового значения, но не доказательственные факты и не факты процессуального значения.
Как было отмечено, все факты не в пользу подсудимого должны быть установлены только достоверно. По гражданским же делам существенные для дела факты при определенных условиях могут устанавливаться на основе вероятности. Ввиду этого такие факты, если они идут во вред интересам подсудимого, в уголовном процессе преюдициального значения не имеют.
Предметом преюдиции не могут являться факты-состояния, существовавшие в момент познания их судом; такие факты после их установления могут существенно измениться.
Действие преюдиции ограничено и субъективными пределами. Если юридически заинтересованное лицо не было привлечено к участию в деле, при разрешении которого суд установил факты, значимые с точки зрения интересов такого не участвовавшего в деле лица, то эти факты не могут иметь для него преюдициального значения. Указанное правило в виде исключения не распространяется на лица, которые являются потерпевшими от преступления или несущими материальную ответственность за действия подсудимого. Преюдициальность приговора распространяется на эти лица независимо от их участия в уголовном процессе в качестве гражданского истца либо гражданского ответчика (ч. 3 ст. 55 ГПК РСФСР).
В литературе недостаточно выяснен вопрос о преюдициальном значении для суда постановлений несудебных органов. Представляется, что такие постановления преюдициального значения для суда иметь не могут. Советское процессуальное право не предусматривает случаев предсудимости, т.е. когда бы задача суда была бы ограничена только определением правовых последствий фактов, само же установление фактов относилось бы к компетенции какихлибо других несудебных органов. И если бы такие случаи были, это означало бы, что акт органа, на основе которого суд определял бы юридические последствия установленных в таком акте фактов, играл бы роль предустановленного доказательства, которое суд
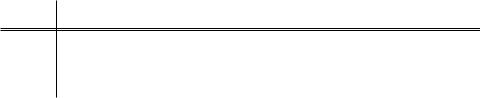
494 |
Проблемы гражданского процессуального права |
не вправе был бы проверять. Между тем процессуальное законодательство устанавливает противоположное правило: «Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы».
Неизбежным следствием появления такого «предустановленного» доказательства явилась бы возможность нарушения принципа оценки доказательств по внутреннему убеждению судей, ибо суд обязан был бы считать за истину суждение административного или иного органа о фактах, хотя бы, по мнению суда, это суждение истиной не являлось. Другим последствием явилось бы нарушение принципа независимости судей и подчинения их только закону, ибо суд стал бы обязанным подчиняться административным или иным органам.
Закон относит к компетенции административных органов установление определенных фактов и определение их юридических последствий. Однако если с такими фактами могут быть связаны и юридические последствия, определяемые судом, и в силу этого такие дела попадают в орбиту судебного исследования, то установленные административным или иным органом факты для суда преюдициального значения иметь не могут.
Как быть, если преюдициально установленный факт, ставший предметом другого судебного разбирательства, по внутреннему убеждению судей, возникшему на основе материалов, попавших
ворбиту вторичного судебного исследования, установлен был ранее ошибочно?
Одни юристы решают этот вопрос в пользу внутреннего убеждения и против преюдициальности (М.С. Строгович), другие, наоборот, жертвуют внутренним убеждением в пользу преюдициальности. Первое решение не согласуется с законом и аннулирует практическое значение преюдиции; второе решение ведет к нарушению правила оценки доказательств по внутреннему убеждению судей.
Врамках действующего законодательства возможно лишь одно решение, свободное от недостатков первого и второго предложения и одновременно отвечающее принципу процессуальной экономии, – это вынесение представления в адрес уполномоченных органов об опротестовании в порядке надзора постановления суда, обладающего преюдициальной силой, и приостановление на это время производства по другому делу, разрешение которого зависит от судьбы первого дела. Это особенно важно в случаях, когда
всилу преюдициальной зависимости второго дела от первого постановление суда по первому делу фактически предрешает вынесение обвинительного приговора по второму. Осуждение человека,

Установление истины в советском правосудии |
495 |
являющегося, по внутреннему убеждению судей, невиновным, противоречит основам советского правосудия.
В конце данной главы обосновывается положение, что так называемые бесспорные факты и презюмируемые факты не исключаются из предмета доказывания. Положения настоящей главы отражены в работах, помещенных в списке под № 10, 15.
Глава 6
Обязанности по доказыванию
Вначале главы обосновывается положение, что под санкцией как элементом юридической нормы следует понимать юридически неблагоприятные последствия правонарушения; здесь же подвергается критическому рассмотрению определение санкции как меры государственного принуждения.
Защищаемое понятие санкции позволяет рассматривать так называемое бремя доказывания в качестве юридической обязанности, т.к. ее неосуществление может повлечь для участника дела наступление неблагоприятных юридических последствий, выражающихся в утрате спорного права при невозможности вторичного обращения к суду. Обязанность доказывания носит условно обязательный характер, т.к. неблагоприятные юридические последствия неосуществления этой обязанности наступают лишь при условии отсутствия у суда процессуальной возможности получить недостающие доказательства по собственной инициативе.
Вданной главе подвергаются подробному разбору различные возражения против трактовки бремени доказывания в качестве юридической обязанности.
Но обязанность доказывания не только обязанность. Нельзя согласиться с мнением, что какое-либо поведение в одном и том же правоотношении не может одновременно составлять содержание и права, и обязанности.
Распространенное в литературе определение субъективного права как «возможности» и «обязанности», как «необходимости» (долженствования) нуждается в уточнении, в указании на их юридический характер. «Возможность» и «долженствование» определенного поведения как содержание права и обязанности не зависят ни от психического отношения субъекта правоотношения

496 |
Проблемы гражданского процессуального права |
к своему поведению, ни от фактической возможности осуществления права или исполнения обязанности.
Поскольку процессуальное законодательство предоставляет участникам дела право на представление и исследование доказательств, то обязанность доказывания одновременно служит и правом доказывания.
Субъективное право устанавливается законом для удовлетворения собственного интереса, поэтому субъективному праву присуще свойство распоряжаемости, а отсюда его независимость от воли контрагента в правоотношении. Напротив, обязанность устанавливается ради интереса другого, поэтому для обязанности характерна связанность волей контрагента правоотношения (управомоченного).
Но не исключены случаи, когда в выполнении обязанности может оказаться заинтересованным и само обязанное лицо; для защиты интересов последнего закон может обязанности придать и качество права. В подобных случаях юридическая характеристика поведения зависит от того, по чьему требованию совершается действие или бездействие.
Такой именно характер и носит бремя доказывания. Если представление доказательства совершается по требованию суда под угрозой невыгодных юридических последствий, то действие по представлению доказательства будет осуществлением обязанности доказывания. Если приобщение к делу доказательства происходит по требованию участника дела, то представление им доказательства выступает уже в роли осуществления права доказывания.
Хотя в бремени доказывания право и обязанность сливаются, они не совпадают полностью ни по основаниям возникновения, ни по содержанию.
Бремя доказывания как право возникает в момент возбуждения процесса и принадлежит любому участнику дела. Это право не зависит от того, соответствует ли действительности утверждение субъекта о спорном факте.
Бремя доказывания как обязанность существует не у любого участника дела, а лишь у того, утверждения которого об искомом факте отвечают действительности. Говорить об обязанности доказывания фактов, которых в действительности не существовало, – это все равно что утверждать об обязанности введения суда в заблуждение.
Если осуществление права на доказывание ограничено лишь условием, чтобы доказательства были относящимися к делу и допустимыми по закону, то для осуществления обязанности доказыва-

Установление истины в советском правосудии |
497 |
ния требуется дополнительно, чтобы предъявленные доказательства были достаточными для установления бытия или небытия искомого факта.
На основе трактовки бремени доказывания как процессуальной обязанности в данной главе решается и вопрос о распределении обязанностей по доказыванию между сторонами.
Не могут служить достаточным основанием для решения этой проблемы имеющиеся в литературе общие критерии.
Принцип «доказывает тот, кто утверждает» ставит распределение доказывания в зависимость от субъективного фактора. Важно не то, что утверждает участник дела, а то, что он обязан утверждать.
Недостаток принципа «истец доказывает факты правообразующие, ответчик – правопрепятствующие и правопогашающие» в его неуниверсальности.
Деление основания иска в гражданском процессе на материальное и процессуальное не дает четких границ между этими основаниями.
Нельзя во многих случаях для решения вопроса о распределении обязанностей доказывания воспользоваться и доказательственными презумпциями, т.к. советское процессуальное право не знает замкнутой системы презумпций, а устанавливает лишь единичные презумпции.
«Теория интереса» не дает возможности решать случаи, когда одна сторона в гражданском процессе заинтересована в установлении наличия факта, другая – его отсутствия. В диссертации подвергаются критике и некоторые другие выдвинутые в литературе общие критерии распределения обязанностей по доказыванию, а также те или иные их комбинации.
Исходя из принципа объективной истины и задач правосудия по уголовным делам обязанности доказывания в уголовном процессе распределяются при помощи презумпции невиновности, в силу которой обязанность доказывания всех фактов, обосновывающих обвинение, лежит на государственном обвинителе. Доказывание обвинения должно осуществляться как с положительной стороны (наличие всех элементов состава преступления), так и с отрицательной (отсутствие состояния необходимой обороны, крайней необходимости и др.). В силу этого, по справедливому утверждению М.С. Строговича, недопустим какой-либо переход обязанности доказывания от обвинителя к подсудимому.
В силу принципа объективной истины и задач правосудия по гражданским делам обязанности доказывания в гражданском

498 |
Проблемы гражданского процессуального права |
процессе распределяются иначе, так, чтобы вывод суда при невозможности достоверного установления факта был как можно ближе к истине, основан на большой вероятности. Поэтому здесь
воснове всех презумпций, при помощи которых в ряде случаев распределяется доказывание, лежит максимальная или большая вероятность.
Всоответствии с принципом объективной истины проблема распределения обязанностей доказывания в советском гражданском процессе, в отличие от буржуазного гражданского процесса, должна быть расчленена на два вопроса: 1) с кого суд вправе потребовать доказательства; 2) на кого возлагаются неблагоприятные юридические последствия отсутствия достаточных доказательств?
Винтересах установления истины суд вправе потребовать представления доказательств не только от стороны, обязанной к доказыванию, но и от противоположной стороны, которой по обстоятельствам дела может оказаться легче представить те или иные доказательства, например потребовать от истца ведомость с отметкой о возврате долга, хотя обязанность доказывания возврата долга и несет ответчик.
Неблагоприятные юридические последствия недоказанности
всоответствии с присущим советскому праву принципом вины как основанием ответственности за невыполнение обязанности возлагаются на ту сторону, которая могла и должна была обеспечить себя доказательствами на случай судебного спора или согласно указанию закона (расписка должника по договору займа и т.п.), либо, при отсутствии такого указания, в соответствии со своими до- и внепроцессуальными интересами.
Назначение любой санкции – побудить лицо к угодному государству поведению. Назначение санкции, которой снабжена обязанность по доказыванию, – побудить стороны гражданских правоотношений обеспечивать себя на случай спора необходимыми доказательствами, хранить их, представлять в суд и тем самым облегчать суду выполнение задач по установлению истины.
Под интересом стороны как основанием распределения обязанностей по доказыванию следует понимать не интерес стороны
вуже возникшем процессе (в этом случае стороны обладают противоположными интересами), а до- и внепроцессуальный интерес; тот интерес, который был у сторон при возникновении гражданских правоотношений, их изменении, прекращении, совершении отдельных действий.
Поскольку условием возложения неблагоприятных юридических последствий недоказанности служит вина стороны, следует

Установление истины в советском правосудии |
499 |
прийти к выводу, что при доказанном отсутствии вины стороны в непредставлении предусмотренных законом доказательств (например, расписка должника по независящим от истца причинам была утрачена) искомый факт может доказываться всеми иными доказательствами, в частности свидетельскими показаниями.
В конце главы рассматривается применение предложенного принципа распределения доказывания к наиболее спорным на практике случаям. Основные положения данной главы опубликованы в работах, помещенных в списке под № 8, 12.
Глава 7
Средства доказывания
Центральным вопросом в данной главе является вопрос о сущности судебного доказательства. Этот вопрос решается на основе закона диалектики о всеобщей связи и зависимости явлений природы и общества, рассматриваются различные формы связей, используемые в судебной практике при познании искомых фактов: причинно-следственная, условия с обусловленным, временная
ипространственная.
Всвязи с этим подвергаются критике взгляды процессуалистов, отрицающих за признаком связи значение главного существенного признака судебного доказательства, а также процессуалистов, сводящих эту связь к причинно-следственной.
Впоследнее время в литературе предпринята попытка решить проблему сущности судебного доказательства на основе категорий теории информации. Эту попытку пока нельзя признать удачной.
Для установления истины путем оценки, например, достоверных свидетельских показаний теория информации попросту так же излишня, как логарифмическая линейка для подсчета десятка яблок. Оказать же помощь в оценке показаний лиц, достоверность которых неизвестна, теория информации пока бессильна, поскольку в ней не учитывается смысл и ценность информации. При дальнейшем развитии биологии и теории информации, когда осмысленная информация может быть описана математическими методами и в связи с этим теория информации сможет учитывать смысл и ценность информации, получаемой из различных источников, возможно применение теории информации и к оценке

500 |
Проблемы гражданского процессуального права |
свидетельских показаний, их достоверности; и такая оценка в этом случае может быть поручена машине.
Веще меньшей мере теория информации может быть использована в судебном познании при помощи вещественных доказательств, которые, во-первых, также могут оказаться недостоверными; во-вторых, признаки вещей, следы на вещах, сам факт их нахождения в определенное время в определенном месте – все это нельзя рассматривать в качестве тех закодированных сигналов, которыми оперирует сейчас теория информации. В силу этого попытка поставить учение о судебных доказательствах, о сущности судебного доказательства на рельсы теории информации по крайней мере преждевременна и фактически является лишь применением терминологического аппарата этой теории без каких-либо выводов по существу.
Если с точки зрения теории информации к доказательствам можно относить лишь закодированные сообщения (явления-следствия), то рассмотрение доказательства с точки зрения связей явлений
ипредметов свободно от такого сужения сферы судебных доказательств; в качестве таковых могут выступать не только явления- следствия, но и явления-причины, явления-условия, явления, состоящие во временной либо пространственной связи между собой. Рассмотрение доказательства с точки зрения связей явлений
ипредметов позволяет по этому признаку провести разграничение между доказательствами прямыми и косвенными. Первые характеризуются однозначной связью, вторые – многозначной.
Вглаве рассматриваются особенности судебного доказательства – его предусмотренный законом источник и установленная законом процессуальная форма; анализируются требования, предъявляемые законом к источнику и процессуальной форме, рассматривается вопрос о процессуальных последствиях нарушений этих требований, исследуется понятие процесса формирования судебного доказательства.
По признаку источника судебные доказательства можно подразделить на личные, вещественные и имеющие смешанный источник (заключение эксперта, результаты опознания, следственного либо судебного эксперимента). Процесс формирования доказательства позволяет иначе, чем было обычно принято в литературе, провести разграничение между первоначальными и производными доказательствами, определить природу производных вещественных доказательств, подвергнуть критике распространенный в литературе взгляд о недопустимости участия суда в процессе формирования судебного доказательства.
