
Курылев С.В. - Избранные труды по ГПП
.pdf
Основы теории доказывания в советском правосудии |
411 |
|
|
|
|
«неформальное» применение правил о допустимости доказа- |
|
тельств. |
|
Неверно было бы опасаться, что наличие такой нормы будет |
|
угрожать принципу объективной истины. Основа правил допусти- |
|
|
|
мости доказательств в советском гражданском процессе является |
|
принципиально иной, чем в буржуазном процессе. |
|
«Буржуазия... не оставила между людьми никакой другой свя- |
|
зи, кроме голого интереса, бессердечного “чистогана“... Она пре- |
|
вратила личное достоинство человека в меновую стоимость...»1 |
|
В буржуазном обществе все, что может иметь какую-либо меновую |
|
стоимость, выступает в качестве товара. Поэтому даже при установ- |
|
лении правил допустимости доказательств в гражданском процессе |
|
буржуазный законодатель подходит к свидетельским показаниям |
|
фактически как к товару. Например, во французской юридической |
|
литературе отмечается, что при издании гражданского кодекса |
|
обоснованно руководствовались соображениями о том, что по де- |
|
лам с небольшой суммой иска подкупы свидетелей будут редкими, |
|
ибо расходы на это будут превышать размер суммы иска2. |
|
В основе правил допустимости советского гражданского про- |
|
цессуального права лежат не соображения о возможном подкупе |
|
свидетелей, не опасения вследствие этого за истинность судебных |
|
постановлений, а необходимость дисциплинирования сторон |
|
гражданских правоотношений. Поэтому и применение существу- |
|
ющих запретов использования свидетельских показаний оправда- |
|
но лишь в той мере, в которой можно поставить в вину стороне |
|
в гражданском процессе невыполнение ею требований закона. |
|
Доказывание отсутствия вины в непредставлении необходи- |
|
мых доказательств должно подчиняться установленной в совет- |
|
ском гражданском праве презумпции виновности. |
|
*** |
|
В задачу данной работы не входит рассмотрение предложенно- |
|
го критерия распределения обязанностей по доказыванию отно- |
|
сительно всех категорий дел, рассматриваемых в порядке граждан- |
|
ского судопроизводства3. Поэтому мы ограничимся применением |
|
предложенного принципа к наиболее спорным случаям. |
|
Воспроизведем один из таких случаев, приведенных К.С. Юдель- |
|
соном. Обосновывая иск к Крохиной об изъятии козы, Мяндин |
|
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 426.
2Кейлин А.Д. Указ. соч. С. 345.
3Вопрос о распределении обязанностей по доказыванию по отдельным категориям дел рассматривает Т.А. Лилуашвили (указ. соч.), Л.П. Смышляев (указ. соч.).

412 |
Проблемы гражданского процессуального права |
заявил, что в 1941 году, уезжая в связи с эвакуацией из Петрозаводска, он передал козу на хранение мужу ответчицы. Ответчица утверждала, что коза была не оставлена истцом на хранение, а продана. Иск был удовлетворен по тем мотивам, что ответчица не доказала наличия договора купли-продажи.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
СССР, куда в конечном итоге поступило дело на рассмотрение, выдвинула тезис: в соответствии со ст. 118 ГПК РСФСР 1923 г. истец должен доказать основание своего иска, т.е. в данном случае передачу козы по договору хранения. Пока истец этого не сделал, ответчица не обязана доказывать приобретение козы в собственность. А поскольку никаких иных доказательств по делу, за исключением объяснений сторон, суду не удалось получить, то очевидно, иск Мяндина подлежал отклонению.
Но сразу же возникает вопрос: а как должно решаться дело, если бы Мяндин изменил основание своего иска и предъявил требование о виндикации козы? Основанием такого иска было бы право собственности на спорное имущество, что не отрицалось ответчицей. Следовательно, в этом случае уже ответчица была бы обязана доказать, что право собственности истца прекратилось вследствие продажи козы. А поскольку такими доказательствами ответчица не располагала, то иск Мяндина подлежал бы удовлетворению.
Таким образом, то или иное разрешение дела зависело бы не от каких-либо объективных обстоятельств, а от поведения истца, от того, каким образом он обосновал бы свой иск, с чем, конечно, согласиться нельзя.
Нетрудно также проследить, что ни один из ранее рассмотренных критериев распределения обязанностей по доказыванию также не мог бы дать убедительного разрешения вопроса.
Применение защищаемого критерия вины к данному случаю не вызывает особых затруднений и не ставит решение вопроса в зависимость от субъективного фактора – поведения истца.
Покупатель при купле-продаже имущества за наличный расчет по закону, как правило, не обязан обеспечивать себя доказательствами заключенного договора. Установление подобной обязанности поставило бы под сомнение права подавляющего большинства собственников. Поэтому если спорная коза была в действительности продана мужу Крохиной, то он не обязан был иметь и сохранять доказательства договора купли-продажи, отсюда и ответчица Крохина не обязана была представлять таковые суду, совершенно независимо от того, был бы иск Мяндина основан на договоре хранения или, как виндикационный, на праве собственности.

Основы теории доказывания в советском правосудии |
413 |
С другой стороны, если коза оставлялась истцом на хранение (а не продавалась), то договор хранения был в интересах Мяндина, а не хранителя. Поэтому Мяндин обязан был обеспечить себя доказательствами договора хранения, а поскольку таких доказательств у него не оказалось, иск его подлежал отклонению. Следовательно, по существу дело было решено правильно, лишь неудачно мотивировано.
Судебная практика испытывает затруднения в решении вопроса о доказывании факта внесения квартирной платы по жилищным делам. Кто должен доказывать этот факт: квартиросъемщик (уплату) или наймодатель (неуплату)?
По иску Сорокина к Пономаревой о выселении (одним из оснований иска была ссылка на неплатеж квартирной платы) судебные инстанции, рассматривавшие дело, пришли к выводу, что ответчица обязана была доказать факт платежа квартирной платы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР,
ссылаясь на то, что истец обязан доказать основание своих требований, признала, что, наоборот, Сорокин обязан был доказать неплатеж квартирной платы1.
Но спрашивается, как должен был бы решиться вопрос о доказывании данного факта, если бы Сорокин предъявил иск не о выселении по мотивам неплатежа квартирной платы, а лишь о ее взыскании? Основанием такого иска будет договор жилищного найма. Следовательно, при таком иске факт неплатежа истец уже не обязан был бы доказывать. И если ответчица не представит доказательств в подтверждение уплаты, иск такой будет подлежать удовлетворению; факт невнесения квартирной платы станет преюдициально установленным, и Сорокин сможет после этого уже обращаться
ис иском о выселении Пономаревой из занимаемой ею квартиры?!
Исовершенно оказался бы неразрешимым вопрос об обязанности доказывания факта внесения (неуплаты) квартирной платы, если был бы предъявлен иск одновременно по двум основаниям: с требованием о взыскании квартирной платы и о выселении. При отсутствии доказательств уплаты (неуплаты) суд обязан был бы вынести взаимоисключающие решения: по иску о взыскании квартирной платы констатировать ее неплатеж; по иску о выселении, наоборот, уплату?!
Далее. В конце Великой Отечественной войны и некоторое время после ее окончания судам приходилось разрешать иски реэвакуированных о вселении на прежнюю площадь. Такие иски
1 |
Судебная практика, 1950. № 4. С. 31–32. |

414 |
Проблемы гражданского процессуального права |
обосновывались ссылкой на исправное выполнение обязанностей квартиросъемщика, в том числе на квартирную плату во время отсутствия. В этом случае, очевидно, обязанность доказывания уплаты (основание иска) уже лежала на квартиросъемщике. Наоборот, если бы домоуправление предъявило иск о расторжении договора жилищного найма по мотивам неплатежа квартирной платы (основание иска), то истец должен был бы доказать неуплату?!
Таким образом, получается, что установление факта внесения квартирной платы зависит не от объективных признаков, а от содержания требования истца и основания иска или от того, будет ли квартиросъемщик выступать в роли истца или ответчика. Такое решение вопроса невозможно признать соответствующим принципу объективной истины. Обязанность доказывания, как и любая другая обязанность, должна покоиться на объективных основаниях, а не на обстоятельствах, носящих субъективный или случайный характер1.
Иначе должен решаться вопрос на основе защищаемого нами принципа. И это решение опять-таки не будет зависеть от формулировки основания иска или от того, какая из сторон станет выступать в роли истца, а какая – в роли ответчика. Оно будет зависеть от сложившегося порядка взаимоотношений сторон по расчетам за квартирную плату и от вытекающих отсюда обязанностей по доказыванию.
Если платежи оформлялись получением расписок квартиро съемщиком, то последний будет обязан доказывать факт платежа. Если же расчеты сторон происходили без письменного оформления, обязанность доказывания неуплаты лежит на наймодателе.
Большие трудности иногда возникают при решении вопроса
ораспределении обязанностей по доказыванию в имущественных спорах супругов. В соответствии со ст. 10 КЗоБСО (ст. 21 КЗоБСО БССР) имущество, принадлежавшее супругам до брака, считается их раздельным имуществом, приобретенное в браке – общим. Но на ком лежит обязанность доказывания времени приобретения имущества?
Гр-н Д., вернувшись с курорта в Минск, обнаружил, что его жена уехала к матери в Иркутск и туда же отправила контейнером все их совместно нажитое имущество. Д. обратился в суд с иском
оразделе имущества, утверждая, что оно было нажито в браке. Ответчица, возражая против иска, заявила, что спорное имущество
1 Т.М.Яблочков(указ.соч.С. 79)справедливозамечает,что«спороднойстороныкак таковой никогда не может сам родить opus probandi другой стороны, который сам по себе на этой стороне не лежал».

Основы теории доказывания в советском правосудии |
415 |
было приобретено ею до брака. Кто обязан доказать время приобретения имущества: истец, поскольку указанный факт служит основанием его иска, или ответчица, обосновывающая противоположным по значению фактом свои возражения?
В приводившемся ранее примере иска Б. к Н. об изъятии спального гарнитура каждая из сторон утверждала, что спорное имущество является раздельным, т.к. было приобретено в день свадьбы исключительно на личные средства. Но истцом пришлось выступать жене Б., т.к. при ее отъезде из Минска в Тбилиси ответчик не дал ей взять с собой гарнитур.
Если решать вопрос об обязанности доказывания согласно традиционному правилу «первым начинает доказывание истец», то судьба дела (при недостаточности доказательств) будет зависеть от того, кому из супругов удалось удержать в своем владении имущество, а поэтому стать в положение ответчика. Такое решение вопроса нельзя признать правильным, ибо оно будет лишь толкать на самоуправство и фактически брать под защиту лицо, самоуправно завладевшее имуществом.
Защищаемый нами принцип распределения обязанностей по доказыванию в спорах супругов об имуществе, нам кажется, помогает правильно решить вопрос, притом опять независимо от того, которой из сторон придется выступать истцом, а которой ответчиком. Если одна из сторон утверждает, что спорное имущество принадлежало ей до брака, то, очевидно, эта сторона и обязана иметь
ихранить доказательства принадлежности ей имущества. В противном случае имущество должно быть признано общим. Поэтому
ив деле по иску Б. к Н. каждая из сторон обязана была представить доказательства факта, что спорное имущество приобретено исключительно на личные средства. Но поскольку ни одна из сторон достаточных доказательств в подтверждение своих утверждений не представила (обе стороны виноваты в отсутствии доказательств), то спорное имущество следовало бы признать общим, если бы в данном случае дело не закончилось заключением мирового соглашения.
***
Возможен ли при рассмотрении дела переход обязанности доказывания от одной стороны к другой? Ошибочность мнения А.Я. Вышинского о переходе обязанности доказывания от обвинителя к подсудимому сейчас можно считать общепризнанной1.
1 |
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 188. |

416 |
Проблемы гражданского процессуального права |
На наш взгляд, нет никаких оснований выделять вопрос о переходе обязанности доказывания наряду с вопросом о распределении обязанностей по доказыванию и для советского гражданского процесса1.
Как уже отмечалось, обязанности сторон, как истца, так и ответчика, по доказыванию порождаются возникновением процесса и в момент его возникновения, а поэтому и не могут переходить от одной стороны к другой во время процесса. Порядок же осуществления обязанностей по доказыванию в соответствии со ст. 167 ГПК (ст. 160 ГПК БССР) определяет суд на основе принципа объективной истины и процессуальной экономии. В силу этого и правило «истец начинает доказывание первым» для советского гражданского процесса не может означать ничего иного, как «первым дает объяснения истец» (ст. 166 ГПК, ст. 159 ГПК БССР). Вопрос же о том, которая из сторон не смогла осуществить своей обязанности по доказыванию, решается в результате всего судебного разбирательства по совокупности исследованных доказательств, а не по принципу «кто обязан был доказывать первым».
Глава IV
Средства доказывания
§ 1. Понятие доказательства
1. Всеобщая связь явлений – основа познания при помощи доказательств. Как было отмечено ранее, суд в большинстве случаев познает необходимые для разрешения дела факты при помощи доказательств. Поэтому вопрос о доказательстве, о его сущности составляет одну из центральных проблем доказательственного права – его решение является необходимой предпосылкой для исследования многих других вопросов доказательственного права.
Нередко в литературе, в том числе в учебной, при определении доказательств пользуются так или иначе понимаемым признаком цели, которому придается главное содержание определения. Одни процессуалисты определяют доказательства как «средства, при помощи которых суд убеждается в существовании или
1 А. Никиш, рассматривая вопрос о переходе бремени доказывания, указывает, что такой переход осуществляется при помощи законных презумпций, а также исходя из сущности дела или правосознания (указ. соч. С. 323–324).

Основы теории доказывания в советском правосудии |
417 |
несуществовании фактов, имеющих значение для дела»1. Другая группа авторов под доказательствами понимает не средства убеждения суда, а средства «установления объективной истинности юридических фактов...»2 (выделено мной. – С. К.).
Однако определение доказательства лишь путем указания на цель, которой оно служит, и при помощи многозначного слова «средство»3 не раскрывает его сущности. Сущность доказательства не в том, что оно служит установлению истины, как говорят одни, или убеждению суда, как считают другие, а в том, почему оно способно служить средством установления истины, в силу каких свойств оно способно убеждать суд.
Теоретической основой для формулируемой таким образом проблемы сущности доказательства должен служить закон всеобщей связи и взаимозависимости явлений природы и общества. Раз все связано, значит, и субъективные явления нашего мышления связаны определенным образом с явлениями объективной действительности. Уже здесь заложена первая самая общая основа возможности познания человеком объективной действительности. Марксистско-ленинская теория познания устанавливает, что наше мышление не только само связано с объективной действительностью, но и способно правильно отражать существующие в объективной действительности связи и взаимодействия, познавать эту действительность.
Но чтобы познавать действительность, надо иметь в своем распоряжении объект познания – явления, предметы окружающей нас действительности. А как быть, если эти объекты по каким-то причинам недоступны непосредственному исследованию и познанию, например были в прошлом и к моменту исследования исчезли? Здесь вновь приходит на помощь диалектический закон всеобщей связи явлений.
Раз мир – единое целое, и все предметы, явления в мире связаны друг с другом, то и наш объект познания связан определенным образом с другими предметами, явлениями, которые в свою очередь связаны с иными предметами, явлениями и т.д. В силу универсальной зависимости и обусловленности всякое изменение в нашем предмете, явлении будет, с одной стороны, являться
1Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. С. 99.
2Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М., 1952. С. 183; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 159.
3Из существующих значений средства по крайней мере два могут быть отнесены к доказательству – как способ действия и как орудие деятельности (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1952).

418 |
Проблемы гражданского процессуального права |
результатом определенных причин (изменения обусловливающих явлений, развития самого предмета, явления); во-вторых, оно определенным образом отразится на всех связанных с ним, зависимых от него и обусловливаемых им явлениях, произведя в них также определенные изменения; изменения последних вызовут в свою очередь изменения в иных связанных с ними явлениях и т.д. до бесконечности.
Поэтому если мы знаем существующие в природе связи, то, пользуясь этим знанием, можем познавать неизвестные нам явления природы при помощи известных. Знание связей означает знание того, какие изменения должны происходить в одних явлениях при определенных изменениях в связанных с первыми других явлениях.
Известные явления, при помощи которых суд, основываясь на знании объективных связей явлений, познает неизвестные, и служат средствами установления объективной истинности наличия или отсутствия искомых фактов, т.е. доказательствами.
Эти известные явления, а также искомые неизвестные могут выступать как в положительной форме (их наличие), так и в отрицательной (их отсутствие). В процессуальной теории все явления, служащие либо доказательствами, либо предметом доказывания, выступающие в положительной или отрицательной форме, называются фактами. Следовательно, доказательство – это известный суду факт, находящийся в определенной связи с неизвестным. Связывая известные факты с неизвестными в сознании, мы тем самым отражаем определенную связь этих фактов в реальной действительности.
Взаимосвязь, взаимообусловленность предметов и явлений как один из наиболее общих законов объективной действительности и является той основой, которая дает возможность осуществлять опосредствованное познание неизвестных и недоступных для восприятия фактов при помощи связанных с ними известных фактовдоказательств.
Наличие связи факта-доказательства с искомым фактом и является первым и главным существенным признаком доказательства, признаком, благодаря которому доказательство и может служить средством установления неизвестных фактов. Исследование тех форм связей, которые известны науке и применяются в судебной практике, анализ судебной практики по применению наших знаний о связях явлений – это и является тем путем, по которому должна идти разработка многих проблем доказательственного права: сущности косвенного доказательства, принципа относимости доказательств, их оценки и др. Однако вопрос о характере
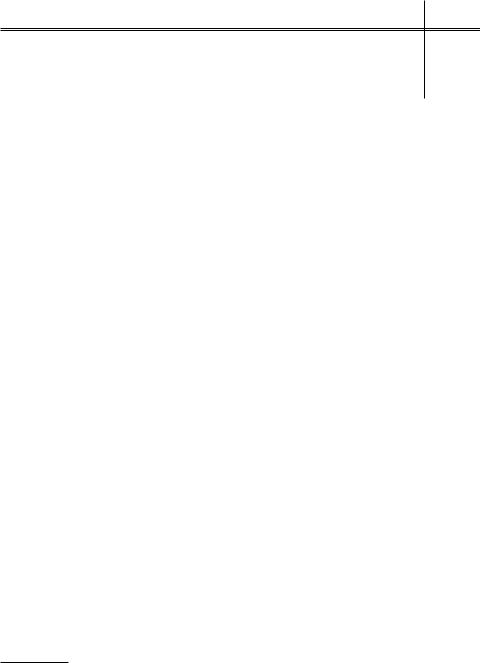
Основы теории доказывания в советском правосудии |
419 |
иформах связей доказательства с искомым фактом еще не достаточно изучен, он лишь в последние годы стал подвергаться исследованию в процессуальной литературе.
Одни процессуалисты долгое время (а некоторые и сейчас) данный вопрос вообще оставляли без рассмотрения, ограничиваясь определением доказательства по признаку цели и описанием отдельных видов доказательств, известных процессуальному праву. Особенно это распространено в гражданско-процессуальной литературе.
Другая группа авторов упоминает о связи между доказательством и искомым фактом, однако сводит эту связь к причинной
ирассматривает ее, как правило, применительно лишь к косвенным доказательствам1.
Наконец, третья группа процессуалистов не считает признак связи существенным и обязательным признаком доказательства2. В качестве таких доказательств, якобы не обладающих признаком связи, указывают алиби, невозможность для обвиняемого в изнасиловании жить половой жизнью и др.
Действительно, алиби не является ни причиной, ни следствием искомого факта – совершения обвиняемым преступления, больше того, алиби нельзя рассматривать и как причину несовершения обвиняемым преступления. Но можно ли на этом основании приходить к выводу, что между алиби и искомым фактом вообще нет никакой связи, что связь с искомым фактом не является поэтому существенным признаком доказательства? Правильно ли на этом основании рассматривать, например, относимость доказательств как способность определенных фактов «освещать» искомые факты? Слово «освещение» не больше разъясняет вопрос, чем и слово «относящиеся». Почему, спрашивается, одни факты способны «освещать», а другие не способны?
При разрешении этих вопросов надо учитывать следующее. 1. Причинная связь не является единственной формой связи,
существующей в природе, она не является и единственной формой связи, существующей между доказательством и искомым фактом.
2. Предметом судебного познания служит факт неизвестный, который ввиду этого должен быть рассматриваем одновременно с двух сторон – со стороны наличия и со стороны отсутствия искомого явления. Доказательства, следовательно, могут быть связаны
1Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 10; Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 136.
2ЧечотД.М.Осущностисудебныхдоказательствиформахихиспользования//Вестн. ЛГУ, 1964. Вып. 2. № 11. С. 95.

420 |
Проблемы гражданского процессуального права |
либо с фактом наличия искомого явления, либо с фактом его отсутствия.
3. Формы связей. Если обратиться к марксистско-ленинской философии, можно увидеть, что классики марксизма-ленинизма не рассматривают причинную связь как единственно существующую форму связей в природе и обществе. В.И. Ленин, например, указывает, что причинность есть «лишь малая частичка всемирной связи»1. В соответствии с этим рассматривают вопрос о связях
исоветские философы, различающие различные формы связей2.
Вцелях анализа форм связей, существующих между судебным доказательством и искомым фактом, из всех существующих в природе многочисленных форм связей прежде всего следует выделить: 1) временную связь явлений; 2) пространственную связь; 3) связь явления с условиями, необходимыми для его возникновения и существования; 4) причинную связь явлений. При этом необходимо отличать связи условия с обусловленным от причинных связей. Связь явления с условиями представляет иной тип связи, чем связь явления с причинами, его породившими.
Условия создают возможность, причина превращает возможность в действительность. Причина порождает следствие, при наличии одних условий – одно, при наличии других – другое. Условия же без причины ничего не порождают. Плохая охрана социалистической собственности на каком-либо предприятии – условие, способствующее хищению, но плохая охрана не причина хищения. Связь между хищением и плохой охраной – не причинная связь, а связь явления-следствия с явлением-условием.
Разграничение связей условия с обусловленным и причины со следствием дает возможность правильно решить ряд сложных правовых вопросов, например вопрос о так называемой каузальности бездействия. Дискуссионность данного вопроса является результатом отождествления условия и причины.
Бездействие ничего не может породить. Поэтому с философской точки зрения оно не может быть причиной какого-то бы ни было явления. Это справедливо как для явлений природы, так
идля общественных явлений. Попытка доказать иное под флагом борьбы с «механическим перенесением положений, правильных для понимания закономерностей природы, на изучение общественных явлений»3 ведет, по существу, к противопоставлению
1Ленин В.И. Философские тетради, 1947. С. 136.
2Марксистско-ленинская философия. М., 1965. С. 141.
3Пионтковский А.А. Проблема причинной связи в праве // Учен. зап. ВИЮН и ВЮА, 1949. С. 88.
