
Курылев С.В. - Избранные труды по ГПП
.pdf
Основы теории доказывания в советском правосудии |
311 |
к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей»1. «Мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка к сущности второго порядка и т.д. без конца»2.
Однако в определенной области практической деятельности
инепосредственное познание может иметь определенные преимущества перед познанием опосредствованным. «Так, как нам бывает дано нечто в непосредственном переживании, оно никаким иным способом дано нам быть не может», – пишет С.Л. Рубинштейн. И далее: «Ни из какого яркого описания слепой не познает красочности мира, глухой – музыкальности его звучаний так, как если бы он их непосредственно воспринял»3. Эта специфическая субъективная окраска непосредственно познаваемого имеет свои плюсы и минусы, уничтожая сомнения в правильности познания, укрепляя уверенность в его достоверности, но тем самым укрепляя
изаблуждения, если допущена ошибка в познании.
Предметом непосредственного познания служат явления в их конкретно-чувственной индивидуальности. А явление богаче закона4. «Закон есть существенное явление»5. Явление же, кроме существенного, содержит и массу индивидуального, более доступного непосредственному познанию, чем опосредствованному.
Разграничение двух форм познания имеет большое значение для проверки правильности познания, для выявления ошибок. Если при непосредственном познании возможные ошибки могут содержаться лишь в акте восприятия, то при опосредствованном – не только в акте восприятия, но и в умозаключении от посредствующего звена в познании, в самом этом звене.
***
Таким образом, признавая принципиальную допустимость разграничения двух форм познания, необходимо разрешить вопросы: исключает ли характер предмета судебного познания его непосредственное чувственное восприятие, и если нет, то допускается ли с точки зрения процессуального права, его принципов непосредственное судебное познание определенных фактов, или же закон обязывает суд во всех случаях прибегать к опосредствованному познанию?
1
2
3
4
5
Ленин В.И. Философские тетради. М., 1947. С. 193. Там же. С. 37.
Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 5.
Ленин В.И. Философские тетради. М., 1947. С. 127. Там же. С. 133.

312 |
Проблемы гражданского процессуального права |
На первый вопрос ответ последует отрицательный. Рассмотрим сначала факты, устанавливаемые судом в порядке гражданского судопроизводства. Обозревая круг этих фактов, нетрудно убедиться, что не все они находятся в прошлом с точки зрения времени рассмотрения дела в суде. Существует группа фактов, которые, возникнув до процесса и вне процесса, продолжают существовать и во время процесса; более того, именно с их наличием во время разбирательства дела, а не только в прошлом закон в ряде случаев и связывает юридические последствия1. Особенность, характеризующая эти факты, заключается в их длящемся характере, в связи с чем их можно назвать фактами-состояниями.
Разумеется, что и другие, не длящиеся, факты не мгновенные явления. Всякое явление имеет определенную протяженность во времени. Но та или иная степень быстроты протекания явлений не безразлична с точки зрения возможности их наблюдения, исследования и познания. И если распространенное утверждение, будто познаваемые судом юридические факты всегда относятся к прошлому, справедливо для многих фактов, то оно несправедливо для фактов-состояний (те или иные свойства предметов, их расположение и т.п.). Поэтому при классификации юридических фактов необходимо выделять факты-состояния. С точки зрения доказательственного права и процессуальной теории это заслуживает внимания2.
Для суда не безразлично, приходится ли ему устанавливать факты, имевшие место в прошлом и недоступные поэтому для непосредственного восприятия или требуется установить факты настоящего, доступные непосредственному восприятию. В первом случае у суда единственная возможность для установления фактов – опосредствованное познание; во втором – может стоять вопрос о допустимости непосредственного познания со всеми
1Строго говоря, человек воспринимает всегда только факты прошлого ввиду отдаленности во времени между воспринимаемым явлением и явлением его восприятия, т.к. восприятие – следствие, а воспринимаемое – причина, а причина и следствие не могут протекать одновременно. Но сказанное не может служить возражением против выделения фактов-состояний, длящийся характер которых означает, что вся совокупность непрерывно сменяющих друг друга явлений сохраняет в течение определенного длительного времени качественную однородность, в силу чего эти явления теоретическинаходятсяв пределаходногокачества,а практическимогут считатьсяидентичными друг другу.
2Безусловно, если за основу брать признак воли, все факты можно подразделить на события и действия. Но в данном случае основанием деления фактов на явления и состояния служит характер протекания явления во времени. Эта позиция постепенно начинает находить поддержку в литературе (См. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1964. Вып. 2. С. 160).
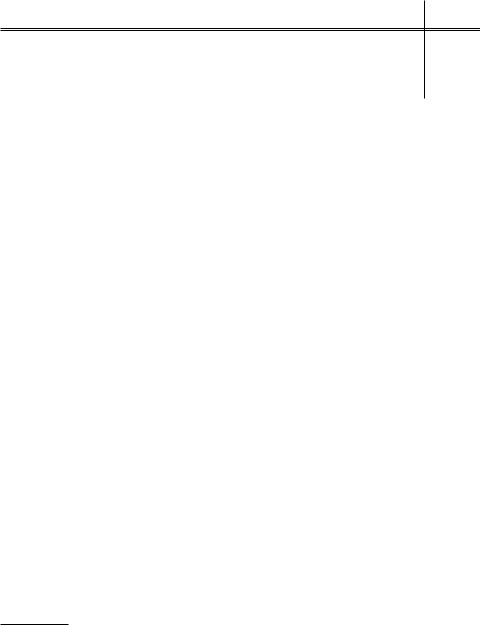
Основы теории доказывания в советском правосудии |
313 |
рассмотренными выше особенностями по сравнению с познанием опосредствованным.
Возникает вопрос: поскольку непосредственное познание не способно само по себе проникнуть в сущность вещей и ограничивается явлениями, лежащими на поверхности, то не будет ли это препятствием для использования его в судебной работе?
На этот вопрос также следует ответить отрицательно. Вопервых, надо иметь в виду, что всякое познание, как уже указывалось, опосредствовано мышлением и практикой; говоря о непосредственном познании, мы имеем в виду только то, что при этом виде познания отсутствует передающее, промежуточное звено между субъектом и объектом познания. Во-вторых, суду для достижения своих практических целей при познании (установлении наличия или отсутствия определенных фактов) нет никакой необходимости углублять познание по формуле В.И. Ленина «от явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т.д.». Здесь проявляет свою силу специфика и задачи судебной работы.
Факты-состояния могут иметь не только гражданско-правовое, но и уголовно-правовое значение. Это – материальные последствия совершенного преступления, предмет посягательства и др.1 Такие факты могут быть предметом непосредственного познания и в уголовном процессе.
Кроме фактов-состояний, в гражданском процессе иногда предметом непосредственного познания могут оказаться и фактыявления, например, возврат ответчиком в судебном заседании (или даже посторонним лицом) долга истцу2, процессуальные действия сторон, являющиеся актами распоряжения объектом процесса и процессуальными средствами его защиты – отказ от иска, мировое соглашение, признание иска и другие юридические факты материально-правового значения (отказ ответчика по иску о выселении из ведомственного жилого фонда возвратиться к месту прежней работы или отказ истца принять на работу ответчика по такому иску). Все эти факты могут быть предметом непосредственного познания в суде, в силу того что предмет гражданского
1Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе. М., 1949. С. 18–19.
2Крайнеинтересныйслучайтакогоразвитияправоотношения,притомдажевстадии исполнительного производства, приведен в журнале: Судебная практика Верховного Суда СССР 1949. № 4. С. 47–48 (далее – Судебная практика). Взысканная с Музафарова решением суда денежная сумма была выплачена истцу посторонним для дела лицом – Шариповой.

314 |
Проблемы гражданского процессуального права |
процесса – спорное гражданское правоотношение – может продолжать свое развитие (изменение, прекращение) и во время судебного разбирательства.
Положительное решение вопроса о возможности в определенных случаях непосредственного познания фактов, имеющих юридическое значение, предрешает решение такого же вопроса и в отношении фактов, являющихся доказательствами (результаты опознания, следственного или судебного эксперимента, факты, относящиеся к поведению в суде участников дела и др.).
***
Однако, несмотря на теоретическую возможность и практическую применяемость непосредственного познания в судебной работе, необходимо рассмотреть вопрос, не могут ли встретиться какие-либо препятствия в использовании судом непосредственного познания юридических фактов с точки зрения требований процессуального права и теории.
Рассмотрим прежде всего высказанные возражения против использования непосредственного познания в судебной работе; они сводятся к следующему: 1) при непосредственном познании нельзя проверить правильность познания; 2) доказывание как опосредствованное познание обеспечивает убедительность судебных постановлений, делая гласным сам процесс познания. Отсутствие же доказывания снижает убедительность судебных постано влений.
Эти возражения нельзя признать справедливыми. Как уже отмечалось, в любом познании необходимо содержится момент непосредственности. Звено непосредственности содержится и в опосредствованном познании, в познании при помощи доказательства (например, свидетельского показания). Но т.к. свидетель сообщает о фактах, воспринятых им непосредственно, то, соглашаясь с приведенными выше возражениями, следует признать, что проверка правильности показаний свидетеля невозможна. Невозможна ввиду этого и проверка правильности опосредствованного (при помощи свидетеля) познания фактов судом. Следовательно, единственное, что остается доступным для проверки, – это правильность умозаключений суда. Но это, конечно, не так. Правильность опосредствованных или непосредственных знаний других лиц можно проверить при помощи сопоставления их с известными знаниями, добытыми из иных источников, при помощи анализа самого проверяемого знания, при помощи мышления и живой человеческой практики, которая «врывается в самое теорию

Основы теории доказывания в советском правосудии |
315 |
познания, давая объективный критерий истины»1. Не будь этого, невозможно было бы и само познание.
Как непосредственное познание свидетелей воплощается в их показаниях, которые и являются объектом проверки, так и непосредственное познание суда находит свое объективное выражение в протоколе судебного заседания, местного осмотра, в мотивировочной части судебного постановления. Указанные процессуальные документы и являются теми объективными данными, по которым можно проверить правильность непосредственного познания суда.
С точки зрения возможности проверки между непосредственным познанием состава суда и, например, таким же познанием свидетеля никакой принципиальной разницы нет. Речь может идти лишь о методах проверки, о пределах, в которых такая проверка доступна. А поэтому первое возражение должно иметь в виду не недоступность непосредственного познания суда для проверки, а лишь недопустимость такой проверки по каким-либо процессуальным соображениям. Рассмотрим и эту сторону проблемы опятьтаки хотя бы на примере сравнения непосредственного знания суда с таким же знанием свидетеля.
Могут сказать, что процессуальное положение суда не допускает проверки правильности его познания способами, предназначен ными для свидетелей, экспертов, как то: допросом, очными ставками и т.п. Тем самым как будто возможность проверки правильности непосредственного познания суда существенно ограничивается. Но и такое соображение нельзя признать основательным. Оно, во-первых, относится не только к познанию непосредственному, но в равной мере и к познанию опосредствованному. Однако ведь никто не приходит к выводу, будто недопустимость допроса суда, как, положим, эксперта о том, почему он пришел именно к такому, а не к другому выводу, существенно ограничивает возможность проверки правильности опосредствованного познания суда. Вовторых, и это главное, нет существенной необходимости в подобной проверке. Для вышестоящей судебной инстанции необходимость проверки отпадает потому, что в силу предписания закона суд в мотивировочной части постановления указывает результаты познания, причины, по которым он отвергает одни данные и принимает другие, т.е. заранее показывает, чем обусловлены результаты его познания. В протоколах судебного заседания, осмотра на месте, а также в мотивировочной части постановления суда
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 198.

316 |
Проблемы гражданского процессуального права |
содержатся как результаты непосредственного познания суда, так и объяснение, почему они являются такими, а не иными. А этого вполне достаточно для проверки правильности как опосредствованного, так и непосредственного познания суда со стороны вышестоящей судебной инстанции.
Для участников дела также нет необходимости в проверке правильностинепосредственногопознаниясудаспособами,предназначенными для свидетелей. Как уже отмечалось, непосредственное познание ограничивается явлениями, лежащими на поверхности: состояние предмета, его размер, действия людей и т.д. А поэтому все то, что непосредственно познается судом, одновременно познается или во всяком случае воспринимается (если было известно ранее) и всеми присутствующими в зале суда или при местном осмотре, в том числе участниками дела. Так как результаты чувственного познания фиксируются в протоколах, то правильность непосредственного познания и правильность записей в протоколах легко проверить путем их обозрения, не прибегая к допросу суда.
Серьезной гарантией правильности непосредственного познания являются демократические принципы советского граждан ского процесса, в частности гласность, состязательность и др.
Ко всему этому надо добавить, что сам характер непосредственного познания – его чувственная предметность – в подавляющем большинстве случаев исключает возможность ошибок в его результатах. Поэтому предусматриваемое законом право участников дела представлять замечания на протокол является больше гарантией против технических неправильностей протокольных записей, чем против ошибок в непосредственном познании.
Из сказанного вытекает ответ и на второе возражение против допустимости непосредственного познания. Убедительность судебного постановления в отношении правильности познания судом фактов для лиц, не присутствующих при судебном разбирательстве, определяется в первую очередь тем, как суд мотивировал свое постановление и, во-вторых (что имеет значение главным образом для лиц, изучающих и проверяющих разрешенное судом дело), соответствием выводов суда имеющимся в деле материалам, в том числе записям в протоколах о результатах непосредственного познания.
Убедительность судебного постановления для лиц, присутствующих в зале судебного заседания, определяется главным образом тем, что происходило при разбирательстве дела: что сказали участники дела, свидетели, эксперты и т.д. Если выраженные в судебном постановлении результаты опосредствованного

Основы теории доказывания в советском правосудии |
317 |
инепосредственного познания соответствуют тому, что было на глазах присутствовавших, – постановление убедительно, если не соответствуют – постановление неубедительно. И если, по мнению противников непосредственного познания в суде, познание при помощи доказательств делает эффективной гласность, т.к. гласным становится сам процесс познания, то это же, но с еще большим правом следует сказать и в отношении непосредственного познания. При непосредственном познании процесс познания является гласным во всех своих элементах. Если присутствующие при осмотре дома видят, что этот дом находится в разрушенном состоянии, и суд также это констатирует как результат своего непосредственного познания, то вряд ли кто решится утверждать, что познание этого же факта, почерпнутое из показаний свидетелей (а не непосредственно), повысило бы убедительность вывода суда о наличии этого факта. Очевидно, дело обстоит как раз наоборот.
Убедительность результатов непосредственного познания больше, чем опосредствованного. Здесь проявляется указанное ранее свойство самого непосредственного познания. И если суды иногда не прибегают к непосредственному познанию, когда оно является доступным, как, например, для обмера площади земельного участка, то это объясняется не тем, что такое познание снижает убедительность решения, исключает возможность проверки правильности познания, а только практической затруднительностью непосредственного познания в подобных случаях, которая к тому же косвенно ведет к ущербу для гласности1. И наоборот, нередко бывают случаи, когда только непосредственное познание судом определенных фактов способно раскрыть истину.
Так, в народном суде Загорского района Московской области Осиповым был заявлен иск к Кратировой о взыскании расходов по отоплению общей печи, которое в течение трех лет якобы производил один истец. Кратирова объяснила, что истец отопления за свой счет не производил. Более того, в последнюю зиму он с целью вынудить ее к выселению не отапливал общую печь совсем, оборудовав в своей комнате железную печь для отопления только своего помещения. Доказывать этот факт (как отопления, так
инеотопления) путем свидетельских показаний было довольно
1 Вопределенииподелу№124поискуколхозаим.КарлаМарксакколхозу«Красный партизан» ГСК Верховного Суда СССР, отменяя состоявшиеся по делу постановления (не был установлен действительный размер участка, об урожае с которого шел спор), дала указание о том, что при невозможности документального установления размера участка необходимо это выяснить путем фактического обмера специально созданной комиссией (Судебная практика, 1949. № 4. С. 40–41).

318 |
Проблемы гражданского процессуального права |
затруднительно. Свидетели, на которых сослалась Кратирова, могли лишь подтвердить некоторые обстоятельства: во время их посещения в комнате у Кратировой было холодно, ответчица продолжительное время болела. Осипов объяснил, что печь не была топлена 2–3 дня в связи с теплой погодой. Суд при осмотре на месте установил следующие факты: наличие в комнате Кратировой специфического запаха сырости, наличие в комнате Осипова железной печи1.
Вданном случае суд непосредственно воспринял различные факты-состояния, в том числе такой важный факт, как специфический запах сырости. В передаче свидетеля указанный факт в значительной мере утратил бы свое доказательственное значение как
вотношении его убедительности, так и с точки зрения проверки достоверности. Другой важный для установления истины факт, обнаруженный при осмотре на месте, – наличие в комнате Осипова железной печи – мог не только потерять доказательственное значение, но и вообще мог исчезнуть для дела, если бы суд решил проверить данный факт не осмотром на месте, а иным путем, например истребованием справки от органов пожарного надзора, дав таким образом истцу возможность убрать печь. И дело могло быть разрешено неверно.
Взаключение необходимо отметить, что проанализированные возражения против возможности и допустимости непосредственного судебного познания, будучи несостоятельными по отношению к процессуальному непосредственному познанию, вполне справедливы, если их отнести к внепроцессуальному знанию судей о существенных для дела фактах, юридических или доказательственных. Такое знание (не только непосредственное, но и опосредствованное) не может быть положено в основу постановления суда именно и только потому, что оно является внепроцессуальным,
всилу чего не подвергается исследованию в процессе, не отражается в процессуальных документах; правильность его недоступна для проверки, оно не только снижает, но и лишает постановление суда убедительности.
Подводя итог сказанному, можно констатировать: 1. Положение о невозможности для суда познавать непосред-
ственно существенные для дела факты ошибочно, т.к. противоречит действительности.
2. Положение о недопустимости непосредственного познания судом существенных для дела фактов неправильно. Оно исключает
1 Дело разрешено народным судом 14 июня 1950 г.

Основы теории доказывания в советском правосудии |
319 |
из числа судебных доказательств ряд фактов, которые могут быть использованы в качестве средств установления истины, произвольно ограничивая принцип непосредственности, толкает практику на путь отказа от преимуществ непосредственного познания, когда таковое возможно.
3. При судебном разбирательстве возможны и допустимы две формы познания фактов: познание опосредствованное (при помощи доказательств) и познание непосредственное (при помощи чувственного восприятия этих фактов).
4. Непосредственное познание применимо в отношении фактов, не требующих для их познания специальных знаний и доступных для непосредственного чувственного восприятия. Такими фактами являются большинство фактов-состояний, ими могут быть действия и события.
5. Непосредственное познание, осуществляемое в процессуальных формах, не противоречит принципам процессуального права. Оно допускает возможность проверки его правильности, а также содействует убедительности судебных постановлений. В случаях, когда заинтересованное лицо может помешать суду раскрыть истину, непосредственное познание при помощи осмотра на месте в силу оперативности данного процессуального действия может служить действенной гарантией установления истины.
В силу этого, нам кажется, не случайно, что взгляд о возможности и допустимости непосредственного судебного познания некоторых существенных для дела фактов начинает постепенно завоевывать сторонников.
§ 2. Сущность доказывания
Когда ранее речь шла о непосредственном и опосредствованном познании, то вовсе не отождествлялось опосредствованное познание с доказыванием в его процессуальном значении и не противопоставлялось поэтому доказывание непосредственному познанию. Между тем господствующая точка зрения советских процессуалистов – как тех, которые считают доказывание единственно возможной формой судебного познания, так и противников этого взгляда – отождествляет опосредствованное познание с доказыванием, противопоставляя его непосредственному познанию, при котором якобы доказывание не нужно1. Такой взгляд
1 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 134, 147; Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946. С. 148.

320 |
Проблемы гражданского процессуального права |
нам представляется неправильным, являющимся результатом смешения понятий процессуального доказывания и логического доказательства.
Попытаемся раскрыть содержание процессуального доказывания и установить его соотношение с логическим доказательством. На первый взгляд эти понятия кажутся очень близкими, если не тождественными. А поэтому многие не видят между ними существенной разницы и определяют доказывание как умственный процесс или вовсе не дают никакого определения1.
Другие же отнюдь не считают процессуальное доказывание умственным процессом, а, наоборот, под доказыванием понимают определенную совокупность процессуальных действий (по убеждению суда)2. Умственный же процесс – чей бы то ни был, в том числе судей, – не является процессуальным действием, т.е. тем юридическим фактом, на основе которого возникают или прекращаются определенные процессуальные правоотношения. Следовательно, согласно последней точке зрения мыслительный процесс судей, заключающийся в оценке доказательств, следует исключить из доказывания, а не считать доказыванием, как фактически поступают представители первого взгляда. Таким образом, первые авторы исходят из отождествления логического доказательства с процессуальным доказыванием, вторые – из их разделения.
Самая обширная третья группа авторов в процессуальном понятии доказывания объединяет оба указанных выше момента – и совокупность процессуальных действий, и мыслительную деятельность судей (и следователя в уголовном процессе) по оценке доказательств3.
Наконец, отдельные процессуалисты не придерживаются последовательно ни одного из изложенных взглядов. Так, определяя доказывание как деятельность по установлению истины, К.С. Юдельсон, естественно, включает оценку доказательств в доказывание. Подобные выводы вытекают из других рассуждений
1Чельцов М.А., Чельцова Н.В. Проведение экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1954. С. 9; Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958.
С. 20.
2Люблинский П.И. О доказательствах в уголовном суде. М., 1924. С. 3; Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М., 1950. С. 41; Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. С. 99.
3Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946. С. 121–122.
Кэтому же взгляду в последнее время примкнул и М.А. Чельцов (Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 120).
