
Курылев С.В. - Избранные труды по ГПП
.pdf
Санкция как элемент правовой нормы |
551 |
судебного исполнителя – и право на неприкосновенность личности.
Какой характер должна иметь юридическая связь между правонарушением (гипотезой) и его последствиями (санкцией)? Нередко считают, что последствия должны быть безусловно обязательным результатом несоблюдения нормы, иначе они не могут считаться санкцией, т.к. «применение санкции – требование законности»1.
На наш взгляд, такое мнение является следствием несколько упрощенного понимания законности. Принцип законности вовсе не требует, чтобы санкции всех норм носили безусловно обязательный характер. В зависимости от объекта охраны и других обстоятельств закон устанавливает и безусловно обязательные, и, так сказать, условно обязательные санкции. Условно обязательный характер имеют многие санкции граждан ско-правовых норм, ибо неисполнение гражданско-правовой обязанности влечет применение государственного принуждения лишь при условии заявления соответствующего требования уполномоченным лицом либо прокурором.
Условно обязательный характер имеют санкции и целого ряда других норм, даже норм уголовного права. Привлечение к уголовной ответственности, как правило, ограничено условием – сроком давности. Уголовное право знает специальный институт условного осуждения, а в настоящее время лицо, совершившее преступление, может быть передано на поруки без обвинительного приговора и вообще не понести никакой уголовной ответственности. Следовательно, юридические неблагоприятные последствия могут иметь и условно обязательный характер.
Юридическое и общественное воздействие. Сказанное выше о характере последствий как санкции нормы позволяет, на наш взгляд, выяснить соотношение санкции как меры юридического воздействия со смежными понятиями – убеждением, мерами общественного воздействия.
При рассмотрении поставленного вопроса в аспекте соотношения принуждения и убеждения в правовой литературе на основе высказывания В.И. Ленина «прежде всего мы должны
1 Гурвич М.А. К вопросу о предмете науки советского гражданского процесса // Учен. зап.ВИЮН.Вып.4.М.,1955.С.45;СтроговичМ.С.Основныевопросысоветскойсоциалистической законности. М. : Госюриздат, 1959. С. 25, 32; Теория государства и права. М., 1955. С. 300–301.

552 |
Проблемы теории права |
убедить, а потом принудить» была высказана точка зрения, что водоразделом сфер убеждения и принуждения служит правонарушение. Убеждение – это или деятельность, проистекающая вне применения права (пропаганда права, обоснование нормативного акта в его мотивировочной части), или деятельность по применению поощрительных норм. Принуждение же – это деятельность по применению санкций норм. Убеждение – это общественное воздействие, принуждение – правовое воздействие1. Грань между убеждением и принуждением получается предельно отчетливой, но, на наш взгляд, неточной.
Во-первых, принудительный момент в праве действует ранее правонарушения: с момента вступления в действие правовой нормы. Содержащаяся в юридической норме угроза наступления неблагоприятных последствий при правонарушении является не чем иным, как принуждением психического порядка для лиц, не желающих добровольно подчиниться правовой норме.
Во-вторых, и меры убеждения применяются не только до нарушения нормы, но и после как определенная мера морального и идеологического воздействия и, как сейчас показывает практика борьбы общественности с правонарушениями, нередко не менее эффективная, чем мера юридического воздействия. Само юридическое воздействие является одновременно
иморальным воздействием, убеждением, ибо оно оказывает влияние не только на волю, но и на сознание правонарушителя
идругих граждан. Это особенно заметно на применении таких санкций, как общественное порицание, поставить на вид и т.п. Суд, по В.И. Ленину, это не что иное, как орган государства, обеспечивающий принудительное воспитание трудящихся к дисциплине и самодисциплине2.
Следовательно, правонарушение не служит критерием разграничения сфер принуждения и убеждения, мер юридического и общественного воздействия. Области принуждения
иубеждения – это не рядом расположенные, а взаимно проникающие сферы. Такое соотношение юридического воздействия с убеждением, с мерами общественного воздействия дает теоретическую базу для: 1) конструирования санкций норм на основе сочетания мер юридического и общественного воздействия; 2) для замены юридического воздействия обществен-
1
2
Ямпольская Ц.А. Указ. соч. С. 160–163, 166–168, 181. Ленин В.И. Соч. Т. 27. С. 191–192.

Санкция как элемент правовой нормы |
553 |
ным1; 3) для использования юридического воздействия в качестве санкции моральных норм.
Возникает вопрос, можно ли относить к санкциям правовых норм меры воздействия, применяемые товарищескими судами, например общественное порицание, выговор и т.д. Бесспорно, что общественное порицание государственного суда или замечание директора – это меры, влекущие юридически неблагоприятные последствия. Общественное порицание, например, создает судимость, что может неблагоприятно повлиять на определение меры наказания при повторном привлечении к уголовной ответственности; замечание директора как дисциплинарное взыскание может, при повторении нарушения трудовой дисциплины, образовать систематичность и послужить основанием для увольнения. Однако аналогичное значение имеет и применение мер общественного воздействия при некоторых правонарушениях. Например, применение мер общественного воздействия на незаконную порубку леса (ст. 169 УК РСФСР 1960 г.) служит условием привлечения к уголовной ответственностизаэтиправонарушения.Посколькувперечисленных случаях применение мер общественного воздействия создает юридическую предпосылку для правовой ответственности в будущем, указание на такие меры также должно считаться санкцией нормы.
Санкция и правонарушение. Если санкция есть указание на юридически неблагоприятные последствия, то надо отметить, что не любые неблагоприятные последствия образуют санкцию. Санкция – это указание лишь на разновидность юридически неблагоприятных последствий.
Назначение санкции – побудить человека соблюдать правовые предписания, поэтому она может быть адресована лишь к волевой, сознательной деятельности людей. Ввиду этого и основанием для применения санкций может служить не любое несоблюдение нормы, а лишь виновное несоблюдение нормы – правонарушение.
Против данного тезиса может быть выдвинуто возражение со ссылкой на так называемую ответственность без вины, например владельца источника повышенной опасности, деятельностью которого случайно причинен вред. «Случайного никому
1 Такая замена прямо предусмотрена Типовыми правилами внутреннего трудового распорядкаот12января1957г.;ч.3ст.10ОсновуголовногозаконодательстваСоюзаССР и союзных республик 1958 г. и другими актами.

554 |
Проблемы теории права |
не дано знать наперед»1. Случайное причинение вреда – это не виновное поведение, а поэтому его и нельзя считать правонарушением, хотя здесь и имеет место поражение субъективного права потерпевшего. Но не всякое поражение субъективного права есть правонарушение. Как нет правонарушения при поражении субъективного права стихийными силами природы, так нет его и в случае невиновной деятельности человека. Право одинаково не в состоянии запретить камню падать на землю, так и случайно падать человеку. Право этого и не делает. Нет такой нормы объективного права, требования которой можно было бы считать нарушенными действиями случайного причинителя вреда. Основанием возникновения обязанности по возмещению вреда служит не правонарушение, а событие, и поэтому данную обязанность нельзя считать и ответственностью, как и, например, обязанность добросовестного приобретателя чужой вещи вернуть ее собственнику.
Далее. Против вывода, что основанием применения санкций служит лишь правонарушение, могут возразить ссылкой на так называемую возможность судебного истребования долга без предварительного обращения к должнику, т.е. на то, что, мол, советское право знает случаи приведения в действие санкций лишь при наличии одного факта несоблюдения нормы. Например, если должник не выполняет свою обязанность, добросовестно не зная о ее существовании (вины нет), допустимо судебное истребование долга.
Однако это не так. Можно ли считать правомерным использование судебного процесса в качестве формы истребования долга? Думается, в принципе нет. Гражданский процесс существует для охраны нарушенных или оспариваемых прав (ст. 2, 4 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик), т.е. прав, нуждающихся в защите. Поэтому использование судебного процесса в качестве формы принудительного осуществления права, которого никто не нарушал и не оспаривал, противоречит цели процесса, является злоупотреблением процессуальным правом и влечет применение определенных санкций (примечание 2 к ст. 46 ГПК РСФСР).
Интересный пример в этой связи можно привести из практики народного суда 3-го участка Кировского района г. Иркутска.
1 Ленин В.И. Соч. Т. 6. С. 288.

Санкция как элемент правовой нормы |
555 |
В суд обратилась Д. с иском к своему мужу о взыскании алиментов на содержание детей. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что он проживает с ответчицей одной семьей и отдает ей всю свою заработную плату, которая служит единственным источником существования семьи. Ответчица подтвердила эти объяснения, но все же просила суд вынести решение о взыскании алиментов на будущее, заявив, что она предпочитает получать алименты по исполнительному листу, а не добровольно. Суд вынес решение об отказе в иске, сославшись на ст. 50 КЗоБСО РСФСР, согласно которой алименты взыскиваются судом лишь в случае, если ответчик не предоставляет содержания добровольно.
Санкция как разновидность юридически неблагоприятных последствий. Основанием применения санкции является правонарушение. Поэтому, если юридически неблагоприятные последствия наступают не в силу правонарушения, а по иным причинам, такие последствия относить к санкции нельзя. Вопервых, отрицательные юридические последствия закон может связывать с событиями (случайное причинение вреда, длительное непосещение работы по болезни и т.д.). Во-вторых, иногда наступление таких последствий связывается законом даже с осуществлением права. Например, осуществление права на увольнение по собственному желанию влекло раньше потерю непрерывности стажа со всеми вытекающими отрицательными последствиями, осуществление права на развод влечет потерю прав, связанных с состоянием в браке, например право на наследование по закону.
Чем обусловлено наличие юридически отрицательных последствий, которые закон связывает с юридически безупречным поведением людей? Это объясняется наличием такой области человеческих отношений, которую средствами права или невозможно непосредственно регулировать, или нецелесообразно. Закон не в состоянии прямо воздействовать на поведение людей, не охватываемое их сознанием и поэтому не подвластное их воле, например запретить случайно причинять вред. Однако регулирование такого поведения косвенным путем возможно. Лица, деятельность которых таит опасность случайного причинения вреда, не в состоянии, конечно, предусмотреть и предотвратить любой конкретный факт причинения случайного вреда, но они, предпринимая соответствующие меры предосторожности, могут уменьшить или свести на нет
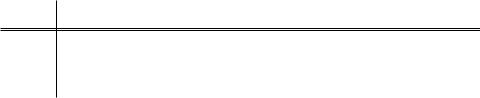
556 |
Проблемы теории права |
такие случаи. Для того чтобы защитить права не только от виновного, но и от невиновного нарушения, чтобы оказать общее воздействие на поведение, которое может причинить вред, закон, не возлагая каких-либо юридических обязанностей на лиц, действия которых могут случайно причинить вред, в то же время при определенных условиях возлагает на них отрицательные юридические последствия за невиновное причинение вреда. Такие последствия здесь – не санкция за правонарушение, а стимул к поведению, направленному на уменьшение вероятности невиновного причинения вреда. Регулируемое поведение в таких случаях находится за пределами гипотезы юридической нормы.
Далее. Есть область общественных отношений, которые право в состоянии непосредственно регулировать путем установления соответствующих обязанностей, например область прекращения трудовых отношений по волеизъявлению работника, семейно-брачные отношения и т.п. Однако такое прямое регулирование этих отношений может быть признано при определенных исторических условиях нецелесообразным.
Государство заинтересовано в стабильности трудовых, семейных отношений, но, считаясь с тем, что отдельным гражданам в силу самых разнообразных, трудно поддающихся учету причин в определенных случаях может потребоваться расторжение трудовых или супружеских отношений, оно предоставляет соответствующее право, но его использование снабжает отрицательными юридическими последствиями, регулируя таким образом косвенно поведение людей. Государство борется не против каждого конкретного случая увольнения по собственному желанию или развода, а за уменьшение общего числа увольнений, разводов.
В подобных случаях отрицательные юридические последствия событий, так и осуществления права косвенным образом регулируют поведение людей в направлении, выгодном государству. Но существует и третья группа случаев, когда наступление юридически отрицательных последствий не служит даже средством косвенного регулирования поведения людей, предшествовавшего наступлению этих последствий. Возьмем, например, так называемые меры административного воздействия (иначе – административно-правовые меры социальной защиты): принудительное освидетельствование, принудительное лечение, реквизиция, личное задержание и др. Основанием

Санкция как элемент правовой нормы |
557 |
возникновения обязанностей освидетельствования, лечения и т.д. служит не правонарушение. Указанные последствия не регулируют ни прямо, ни косвенно предшествующее их возникновению поведение, они служат средством регулирования будущего поведения лиц для охраны общественных интересов, интересов третьих лиц ввиду их значимости и невозможности их обеспечения иными способами и т.д.
Во всех перечисленных случаях отрицательные юридические последствия, связываемые законом с обстоятельствами, не являющимися правонарушениями, не составляют содержания санкций юридических норм.
***
Как уже было сказано, назначение санкции – предотвратить правонарушение. Поэтому рассмотрение сущности санкции как неблагоприятных юридических последствий дает, на наш взгляд, правильную теоретическую основу для индивидуализации санкций, т.е. для правильного определения (как в законе, так и при его применении) вида и размера санкций, помогает решать вопросы о том, когда достаточно применения мер общественного воздействия или иных неблагоприятных последствий и когда необходимо применение государственного принуждения, каковы должны быть его вид и мера.
Санкция должна быть такова, чтобы создать достаточный контрмотив против неправомерного поведения, чтобы было «выгоднее» не совершать правонарушения, чем совершать. Концепция же «санкция – принуждение» такой теоретической основы, на наш взгляд, не дает. Допустим, за нарушение правил рыболовства установлен штраф. С точки зрения критикуемой трактовки санкции норма охраняется государственным принуждением (штрафом). Однако жизнь показала, что злостные браконьеры нарушают эти нормы: браконьерство дает им доход, значительно превышающий убытки от уплаты штрафов. Практика показала, что наложение штрафов за загрязнение рек и водоемов промышленными отходами оказалось малоэффективным. Почему? Да потому что руководителям предприятий было выгоднее платить штрафы из государственных средств, чем строить водоочистительные сооружения. Хотя государственное принуждение действовало в полную меру – штрафы регулярно взыскивались, но поставленная цель достигалась слабо.

558 |
Проблемы теории права |
С другой стороны, защищаемая концепция помогает избегать установления и необоснованно суровых санкций, которые не только излишни, но и вредны, особенно сейчас, в период развернутого строительства коммунистического общества.
Наконец, защищаемая трактовка сущности санкции дает, на наш взгляд, правильную основу для наблюдающегося в настоящее время постепенного перехода от безусловно обязательных санкций к условно обязательным (выселение тунеядцев, если они в установленный срок не устроились на работу; выселение лица из помещения по мотивам невозможности совместного проживания, если это лицо не прекратило нарушать правила социалистического общежития после сделанного ему предупреждения, и т.д.). В Программе КПСС сказано: «Товарищеское осуждение антиобщественных поступков постепенно станет главным средством искоренения проявлений буржуазных взглядов, нравов и обычаев».

О применении советского закона
(Статья)
В советской юридической литературе, как правило, утверждается, что применение закона должно быть не формальнодогматическим, а творческим, диалектическим. Однако до сих пор нет достаточной ясности в том, каковы допустимые с точки зрения принципа социалистической законности пределы творческого элемента в применении закона. Более того, отдельные авторы, по сути, даже отрицают саму допустимость какого-либо творчества в применении закона, считают это нарушением законности. Так, А.И. Трусов, обосновывая тезис, что применение права – это составная часть процесса судебного познания, проводит полную аналогию между законом и любым другим принятым в человеческом обществе масштабом измерения (метр, килограмм и т.п.) и на этом основании приходит к выводу, что результаты применения закона должны быть столь же точными, как дважды два – четыре1.
Закон рассчитан на типичную ситуацию: при таких-то данных следует поступить так-то. Но правоприменительный орган может столкнуться при применении закона с атипичной ситуацией, с наличием дополнительных данных. И в этом случае уже невозможно механически применить закон, как метр при измерении; необходимо выяснить сущность закона, решить вопрос, можно или нельзя рассматриваемые обстоятельства дела подвести под предусмотренную законом типичную ситуацию.
При измерении метром не требуется понимания ни сущности измеряемого объекта, ни сущности применяемого масштаба.
1 Трусов Л.И. Основы теории судебных доказательств. М. : Госюриздат, 1960, с. 24–
26.

560 |
Проблемы теории права |
В силу этого самого измерителя нетрудно заменить машиной. Деятельность же по применению закона, носящая творческий характер, не может быть, на наш взгляд, поручена машине1. Невозможно создать программу, рассчитанную на правильное решение всех ситуаций многообразной и вечно развивающейся жизни. Поэтому машина всегда может столкнуться со случаем, не предусмотренным данной ей программой, с необходимостью уяснения смысла закона, его общественно-политической сущности. Творческое применение закона относится к тем свойствам живой материи, которые не поддаются моделированию. Применение закона немыслимо без правосознания, без субъективного отношения судей как к закону (масштабу), так и к обстоятельствам дела (предмету измерения). Отказ от творческого применения советского закона может привести к нарушению социалистической законности, которое маскируется формулой «формально – правильно».
Пределы творческого применения закона
Возникает вопрос: в чем может выражаться творческое применение закона и каковы пределы творческого элемента, с тем чтобы творческий подход к закону не перерос в нарушение закона?
Прежде всего творческий подход к закону необходим для уяснения смысла таких понятий, употребляемых в законе, существенные признаки которых в самом законе не раскрываются или даже вообще не указываются (хищение, цинизм и т.п.), а также для решения вопроса о применении данных понятий к тому или иному конкретному действию или бездействию.
Творческий подход к закону нужен и для уяснения смысла самой нормы, подлежащей применению к конкретному случаю. Так, ст. 154 УК РСФСР предусматривает уголовную ответственность за спекуляцию. Для применения этого закона в соответствующих случаях необходимо ответить на вопросы: нужно ли, чтобы цель наживы была приурочена к моменту скупки товаров, или достаточно, чтобы она возникла при перепродаже; понимать ли скупку в буквальном смысле, или к скупке можно приравнять и иные встречающиеся в жизни формы приобретения товаров (мену, посылки, получаемые в виде подарка, и др.).
1 «...При всех условиях машина не может заменить человека (судью), который принимает решение» (Кнапп В. О возможности использования кибернетических методов в праве. М. : Изд-во «Прогресс», 1965. С. 152).
