
Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции
.pdf
70 |
ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
дают узловым строением осевой части, но имеют только по одному узлу. Протерокормус — побег, состоящий из семядольного узла, семядолей,
зародышевой и пазушно-семядольных почек (он только однажды развива-
ется в онтогенезе растения).
А 10 |
Б |
В |
|
31 |
|||
|
|
||
01к |
1кс |
|
|
|
|
||
|
|
пп |
у
 73
73
42
72
Г
32
Д
2,15,21,26(27)
б)
а)
54 б 
54 г
78
74
Рис. 22. Биографический портрет Thalic rum mi us L. [сем. Ranunculaceae
(Липецкая область, заповедник «Галичья гора», опушка разреженного ле-
са, 15 VIII)].
Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли яйцевидные, на верхушке закруг-
лённые, 4–6 мм дл., 2,5–4 мм шир., резко суженные в черешки 2–5 мм дл.) виргинильно- розеточные, матурно-полурозеточные и безрозеточные семидетерминантно-репродуцирую-
щие (полузакрытые) однодомные гемисимподиальные (первые 3–4 года нарастают моноподиально) и эусимподиальные короткокорневищные (в более затенённых местах, биоморфотип — а), компактнокорневищные (в более открытых местах, биоморфотип — б) синорганизменные травянистые многолетники (синорганизмы живут не более 50 лет).
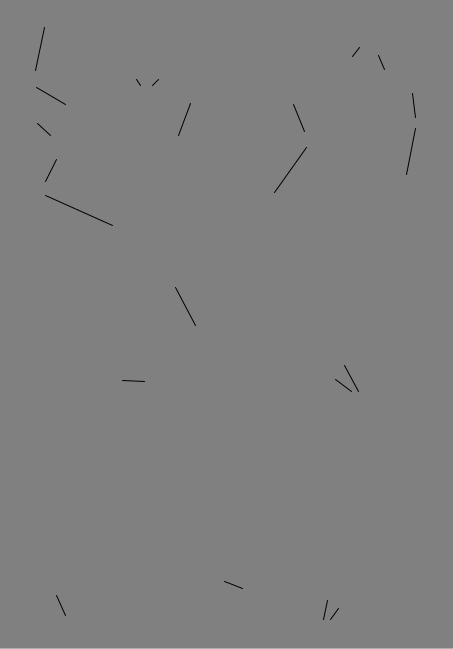
Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |
71 |
||||
А |
Б |
|
В |
Г |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
31,34 |
|
01кс |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1кс |
|
|
||
|
|
|
|
||
43 |
|
|
|
4к |
|
|
|
|
|
|
|
1к
р
Д
 5,15,19,21,27
5,15,19,21,27
мк
в
54 б,г
кв,71 |
74 |
|
ск
Рис. 23. Биографический портрет Crepis poludosa (L.) Moench [сем. Asteraceae (Московская область, Подольский район, сырые лесные поляны в берёзово-еловом лесу, 3 VII)].
Биоморфотип: надземно-двусемядольные (семядоли узкояйцевидные 8–13 мм дл., 2–4
мм шир., клиновидно суженные в черешки 5–10 мм дл.) полурозеточные простолистные семидетерминантно-репродуцирующие (полузакрытые) гемисимподиальные компактно-
корневищные (резиды живут 5–7 лет) синорганизменные травянистые многолетники (продолжительность жизни синорганизмов 30–40 лет).

72 |
ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
Б
БАА
А
 10
10
у
пп
В
36
Рис. 24. Процесс усложнения листовой системы на начальных стадиях биоморфогенеза Jacaranda mimosifolia D. Don [сем. Bignoniaceae (Израиль,
парки и скверы Тель-Авива, сентябрь)].
Жакаранда мимозолистная родом из Южной Америки. Появление каждого нового зубчика в структуре отдельных листочков в процессе развития перистосложных листьев обычно предвещает усиление рассечения и, следовательно, усложнение структуры новых листьев при дальнейшем развитии соответствующих растительных биоморф. На рисунке показано только начало усложнения структуры листьев. У взрослых растений образуются многократно рассечённые крупные перистосложные листья до 45 см дл.
Монокормус (специальный простой побег) — побег, стеблевая часть которого без перевершиниваний и разветвлений отрастает из родительской почки (верхушечной, пазушной, придаточной) за одну фазу видимого рос-
та. Дикормус (специальный сложный побег) — побег, состоящий из моно-
кормуса и отрастающих из него за ту же фазу видимого роста без перевершинивания или с перевершиниванием силлептических побегов соцветия или подобных им побегов, но лишённых по какой-либо причине репродук-
Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |
73 |
тивной функции (отсутствие физиологической зрелости у особи, неблагоприятные погодные условия и т.п.). В структуре любого сложного побега всегда более одного порядка побегов, поэтому всегда можно выделять исходный побег этой системы и производные побеги, т.е. имеющие порядки
2, 3-й и последующие. Трикормус (комбинированно-специальный побег) —
побег, состоящий из нескольких монокормусов и (или) дикормусов, отрастающий за несколько фаз видимого роста там, где выражена сезонность климата, из одной родительской почки за один вегетационный сезон. Тет-
ракормус (универсальный простой побег) — побег, стеблевая часть кото-
рого отрастает без перевершиниваний и разветвлений из родительской почки за несколько фаз видимого роста и за два и более вегетационных сезона до прекращения жизнедеятельности или дихотомического раздвоения её верхушечной меристемы; иными словами, это простой (одноосный) побег, отрастающий за два и более вегетационных сезона. Пентакормус (универсальный сложный побег) — побег, состоящий из тетракормуса и образующихся из него в текущем году вегетации силлептических побегов соцветия или каких-либо иных побегов, обеспечивающих всей системе та-
кого побега его собственную структуру.
При дальнейшем усложнении организации все остальные побеги будут, естественно, сложнее, чем специальные, комбинированно-специаль-
ные и универсальные побеги (т.е., начиная от монокормусов до пентакормусов, включительно), поэтому оставшиеся побеги можно обозначить одним общим термином «ультрауниверсальные»» (следующие выше по сложности организации за универсальными) побеги. Любая побеговая ветвь, не образующая или образующая репродуктивные элементы, любой ствол с побеговыми ветвями, если они организованы сложнее, чем какой-
либо пентакормус (универсальный сложный побег) и т.п. — это всё ультрауниверсальные побеги. Следующий в шестой субординатной классификации побег (менее сложный среди ультрауниверсальных побегов) — гек-
сакормус (комбинированно-универсальный побег). Этот побег отрастает
сначала как монокормус или иначе, но не сложнее пентакормуса, а на следующий год образует уже свою структуру за счёт развёртывания новых побегов от монокормусов до трикормусов. Часто гексакормус формируется из монокормуса или тетракормуса, развивая в одном вегетационном периоде почки, а на следующий год реализуя их (все или часть) в новые по-
беги с репродуктивной функцией (Salix caprea L., Amygdalus communis L.,).
Прошлогодний пентакормус (точнее, всё то, что от него остаётся к началу следующего вегетационного сезона) может принимать участие в образовании гексакормуса. Гептакормус (протоголокормус) — побег, проходящий в своём развитии стадию предветви и непосредственно из неё развивающий любые побеги от монокормусов до гексакормусов, оставаясь не тождественным этим и другим типам побегов. Предветвь (прокладий)
—это ось (простая или сложная) нулевого порядка в системе ветвления, т.е. ось, из которой образуются первые ветви. Октокормус (кладокормус)
—побег, проходящий в своём развитии стадию ветви, далее разветвлённой
или неразветвленной и не тождественной другим типам побегов. Энатокормус (голокормус) — побег, прошедший в своём развитии стадию гептакормуса и образовавший в своей структуре ещё и октокормусы (один или

74 |
ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
несколько). Остальные возможные широкие субординатные классификации побегов рассматриваем как вспомогательные.
в |
77 |
|
пп |
||
|
14,20,26
54
32,33а,34
64,74
Рис. 25. Некоторые особенности регенеративной активности якона — Po-
lymnia sonchifolia Poeppig et Endlicher.
В естественных условиях якон встречается в Колумбии, Эквадоре и в Перу. Развитие биоморф этого вида в культуре и интродукция его в России подробно описаны Г.Б. Тюкавиным (2001). Фактический материал о выращивании якона в Подмосковье передал мне интродуктор В.И. Подобедов, за что я ему признателен. Интродукция якона показала, что возможна, при подходящих условиях, быстрая регенерация его особей даже из небольших кусочков корневищ с одной почкой: быстро восстанавливается организменная вегетативная система, в которой наибольшее лекарственное и пищевое значение имеют мясистые корневища и придаточные мясистые, даже клубневидные, корни.
Все побеги растения — системы, из них менее сложные системы — протерокормус и монокормусы. Инициальный протерокормус — это побеговая часть семени, а инициальное состояние в жизни всех остальных побегов растения: медиального, латеральных (пазушных и придаточных) и терминальных — почка.
Иерархическая (широкая субординатная классификация) корней была построена (т. 1, с. 251) с учётом диапазона сложности этих органов (он
определяется признаками нарастания и ветвления).
Корень 1-ой субординаты, или монориза, — это простая корневая
ось. Монориза по особенностям возникновения бывает субмедиалью, если она первого порядка, т.е. образуется из семени и связана непосредственно через гипокотиль с простой стеблевой осью 1-го порядка (медиалью), или сублатералью, если она 2-го, 3-го и последующих порядков или прида-
точная (Нухимовский, 1970, 1971, 1980). Корень 2-ой субординаты — ди-
риза — это корень, состоящий из предветви (простой или сложной) и моноризных ветвей, непосредственно из неё образующихся. Корень 3-ей су-
Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |
75 |
бординаты — тририза — это корень, развивающийся как ветвь, далее разветвлённая или неразветвлённая и не тождественная другим типам корней. Корень 4-ой субординаты — тетрариза — корень, состоящий из
диризы и тририз, взаимосвязанных друг с другом. Кроме четырёх типов корней у растений нередко формируются особые системы корней — синторизы. Одна синториза — это не корень, а система, состоящая из корней, взаимосвязанных друг с другом или через части одного побега (ɑ-синто- риза), или через побеговые части всей особи (ß-синториза), например,
Populus tremula L., Linaria vulgaris Mill.
Современный биоморфолог обязан быть заряжён на открытия (малые и большие), а для этого придётся серьёзно трудиться, чтобы, в конце концов, научиться, начиная с «мелочей», даже «полузвуков», например, учитывать и то, как шелестят листья, как свисают ветви кроны, как развёртываются почки и цветки, когда и как засыхают стебли или только их части, как разлетаются семена из плодов и многое другое, понимать особый язык, где молчания, а где и звучания фитобиоморф. При этом никогда не надо забывать ставить себе вопрос: почему всё это происходит именно так, а не иначе. Однако, и этого мало, надо развивать в себе способность абстрактно мыслить — научиться мысленно (а ещё лучше, конструируя конкретные модели) рисовать образы-символы того, что тебя реально ок-
ружает, что неизбежно приводит к необходимости идти на обобщения, некоторые из которых смогут претендовать на открытия. А почему нет, вполне. Только надо, в первую очередь, верить в себя, в свои познавательные возможности и очень настороженно относиться к мнению «доброжелателей» и всякого рода рецензентов, некоторые из которых бывают «доброхотами» (от них далеко не всегда исходит добро, в них нередко немало затаённого яда), лучше таких обойти, сохранив в себе счастливую возможность везде и всегда проявлять в науке свободомыслие. Без широкого использования приёмов абстрактного мышления вряд ли удастся добиться чего-то путного в познании разных явлений, особенно таких как эволю-
ция. Это тема нашей книги. Об этом здесь всё, и то, что Вы, уважаемый читатель, уже читаете, это пока ещё, в разной форме, разминка, подготовка к раскрытию основного содержания авторского эволюционного теоретизирования. Пока только пару слов о явлении эволюция. Допустим, мы подошли к болоту и обнаружили в нём присутствие мутантов. О, скажет традиционный эволюционист, здесь «кипит» эволюция. Посетили другое болото и не обнаружили там мутантов. По мнению прежнего эволюциониста, сейчас здесь эволюции нет. На мой взгляд, такой подход неверен по существу, поскольку процесс эволюции в известной нам Вселенной всюден, а, следовательно, идёт и в том, но и в другом болоте… Мутации — это своеобразные прорывы в постепенности (скачкообразные наследственые изменения), которые когда-либо «сотрясают» непрерывное течение эволюции в каких-либо уголках живой природы.
Иногда открытия касаются только терминологии. Работа над терминологией весьма ответственная часть исследований. Немало в ботанической науке явлений, которые в целом уже известны, но они ещё не получили чёткого и единообразного определения и (или) ещё не нашли для себя наиболее приемлемого обозначения словом-этикеткой, как составной и
атрибутивной части термина. Так, базовый (многолетний побеговый, или
76 |
ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
персистентный) орган, «структура которого то возникает, то исчезает, то вновь возникает, затем вновь исчезает и т.д., например, в образе одиночной однократно зимующей почки, впервые была названа викарирующим (замещающимся) базовым органом (т. 1, с. 316). Явление, при котором возникают такие персистентные органы, впервые названо автором викароперсистентностью: «оно свойственно только некоторым биоморфам, вся, или почти вся структура которых сменяется (причём нередко неоднократно), а в целом такие биоморфы обладают сверхгодичной продолжительностью жизни. Викароперсистентность свойственна как организмам некото-
рых видов (Dactylorhiza maculata (L.) o ), так и синорганизмам (Aconitum altaicum Steinb.)» (т.1, с. 316).
Изучая, нередко впервые, т.е. совершая пусть и небольшие открытия не только для себя, но и для всех, жизненные циклы — онтогенезы или синонтогенезы фитобиоморф разных видов, иногда сталкиваешься с такими сторонами их организации, которые или никто в мире ещё не наблюдал,
или пока в науке не описывались. В качестве примера таких явлений есть смысл упомянуть подробно описанный мною эффект полной (!) продольной главно-корневой партикуляции (т. 2, гл. 1.5.2). Этот эффект обнаружен всего у нескольких видов (Dracocephalum imberbe Bunge, Dracocephalum
bungeanum Schischk. et Serg., Smelowskia calycina (Steph.) C.A. Mey.), про-
израстающих на мелкозернистых каменистых россыпях в горах Алтая
(т. 2).
Некоторые закономерности геммомиграционного эффекта в поведении семенных фитобиоморф анализируются в главе 9 этой книги.
Весьма существенные открытия могут быть сделаны при крупномасштабном теоретизировании. Нередко в таких случаях удаётся выйти на определение законов, правил и следствий из них, которые обобщают информацию об уже известных или впервые открытых фактах (т. 1, 2). В методическом плане также важно стремиться делать открытия. К числу весьма важных таких своих открытий я отношу метод суперординатного классифицирования, «смысл которого в том, что классифицируются по иерархическому принципу субординатные и (или) мультисубординатные классификации, а в итоге получается широкоформатная объёмная научная картина, характеризующая объект исследования при разном обобщении» (т. 2, с. 13). Возможно, при иерархическом классифицировании не стоит останавливаться на построении даже суперординатных классификационных пирамид, а при необходимости можно создавать ещё и панпирамидальные классификации, например, ресурсов чего-либо, которые способны объеди-
нять в себе на каждом своём классификационном уровне одну, а, если есть, то несколько, при необходимости много и очень много суперординатных классификаций, общим для которых является одинаковое число суперординат в этих классификациях, т.е. классов-уровней их составляющих. Пан-
пирамидальные классификации могут включать все или потенциально все из возможных классификаций суперординатного уровня по какому-либо
одному объекту классифицирования.
Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |
77 |
2.5.2.Универсальная многояйность признаковых пространств телесных систем с эффектами «погремушек» или «побрякушек»
«Признак — всё то, в чём предметы сходны друг с другом или в чём они отличаются друг от друга; показатель, сторона предмета или явления, по которому можно узнать, определить или описать предмет или явление» (Кондаков, 1975, с. 477). В такое определение заложен общенаучный смысл, поэтому оно в полной мере применимо в биоморфологии. Ранее (т. 2) было подробно рассмотрено разнообразие признаковых пространств биоморф и даже шире (тел и нетел, т.е. всех явлений материального мира); в частности, подчёркнуто существование двух типов таких ресурсов как двух сторон одного и того же явления — вещи. Можно говорить о «довостребованном (невостребованном) признаковом пространстве, которое существует в явлении-вещи независимо от сознания, непосредственно как
система признаков «вещи в себе» и ждёт своего познания (востребования), и востребованном признаковом пространстве, которое создаётся познавательной деятельностью субъекта и востребует признаки «вещи в себе» в признаковую систему «вещи для нас»… На самом деле происходит наслоение на конкретную вещь идеального продукта — образа этой вещи в нашем сознании и проявление её, в таком случае, в дополнительном качестве — ещё и как востребованного признакового (или информационного) пространства этого явления-вещи» (т. 2, с. 361–362).
В текущем небольшом экскурсе в признаковые пространства телесных систем обратим внимание на довольно важный, по моему мнению, нюанс. Признаки тел под определённым углом зрения отмечают и особым образом подчёркивают (выделяют) состояния соответствующих телесных систем, в нашем случае биоморф, проявляющиеся в данном месте-времени
как «многояйность». Этот термин пришёл в науку из психологии, где в отношении людей обозначает «многоликость», «множественность я», что пытались выразить по-разному и поярче неоднократно, например, «не без
иронии и шарма» были предложены термины: «В.С. Библер — «многояйность», М. Пруст — «роистое Я», В.А. Петровский — «единомножие Я» (Зинченко, 2009, 2010). «Многояйность», на мой взгляд, универсальна в
отношении телесных систем, поэтому я предлагаю воспользоваться этим элегантным термином, расширив его смысл в научных исследованиях для обозначения явлений множественного «я» (лет. еgo — эго) тел при рас-
смотрении их под разными углами обзора и (или) с разных высот абстракции. Многояйность — результат разнообразия признаков тел, биоморф в том числе, что позволяет разным признакам быть маркерами не только человека — особи, но и образного «я» любого тела.
Во всех телах (шире — любых объектах Природы) — много «я», поэтому такую универсальную множественность «я», в нашем случае телесных систем, на мой взгляд, вполне уместно, помимо прочих терминов, обозначить ещё и как «многояйность». Признаки, определяющие какое-либо
«я» (эго) из многояйного арсенала тел — это, по большому счёту и образно говоря, ни что иное как «погремушки» («признаки-погремушки»), которые
78 |
ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
по отдельности или в группах зримо (визуально) или незримо (как-либо
иначе, например, в форме шумового проявления), обозначают присутствие
вданном месте-времени именно этого тела, а не других.
Внорме эффект признаковых «погремушек» точно маркирует тела, их принадлежность и обеспечивает им прохождение своего бытия в определённых качественных и количественных параметрах в окружении беспокойного мира других разнообразных тел; это главный результат рассматриваемого эффекта. Однако, возможны искажения в проявлении «призна- ков-погремушек», вплоть до превращения их в «признаки-побрякушки».
Представим себе врача или учёного, у которого «признаки-погремушки» трансформировались в «признаки-побрякушки». Побрякушечный эффект, оповещающий миру как-либо, что среди его объектов соприсутствует особенный объект, превративший некоторые свои «признаки-погремушки» в «признаки-побрякушки» — признаковый «оборотень» — «побрякушеч-
ник». Вспомним, кто и как начинал войны, как свершались техногенные катастрофы, как ломались судьбы отдельных людей и т.п., когда появлялись в мире отдельные врачи, учёные, инженеры, правители государств и т.п., у которых некоторые «признаки-погремушки» превращались в «при- знаки-побрякушки».
Из нормальных «погремушечников» — обычных носителей «при- знаков-погремушек» некоторые тела иногда способны превращаться в «побрякушечников» — носителей «признаков-побрякушек». «Побряку-
шечников» немало; они разные. Например, среди людей есть обладатели должностей, званий, наград, учёных степеней и т.п., полученных не по заслугам (неправедно), что исказило признаки-«погремушки» и превратило их в признаки-«побрякушки».
Процессы трансформации признаков-«погремушек» в свои антиподы, т.е. признаки-«побрякушки», мне хорошо известны в мире людей.
Только люди способны обладать особым свойством своей натуры, хотя и в разной мере, — совестью. Только люди способны обладать свойством совести, по-разному проявлять её в своём поведении. «Совесть, понятие мо-
рального сознания, внутренняя убеждённость в том, что является добром и злом, сознание нравственной ответственности за своё поведение»… (Бол.
энцикл. сл., 1997).
Можно, конечно же, наряжать растения игрушками, осуществлять обрезку их ветвей и т.п. или одевать каких-либо животных в одежды, снабжая, тем самым, их признаками-«побрякушками», что будет, более
всего, проявлением признаков поведения людей, поскольку другие живые существа на поведение людей могут реагировать в соответствии с жизненными свойствами их натур и часто просто-напросто стремятся как-либо
обороняться, например, травмированные человеком растения могут проявлять стремление восстановить свою организацию, образуя регенеративные побеги, т.е. их натура осуществляет нередко трансформации призна- ков-«побрякушек» в признаки-«погремушки». В мире людей многое
сложнее, поскольку их поведение зависит от свойственной им совести: есть честные (совестливые) и нечестные (бессовестные) люди. Только у людей может происходить трансформация совести, когда признаки-
«погремушки» преобразуются под влиянием соответствующих обстоя-
Глава 2. Методология и методика на пути к эволюционному теоретизированию |
79 |
тельств в признаки-«побрякушки» и реже наоборот. Обладатели призна- ков-«побрякушек», образно говоря «побрякушечники», обычно соверша-
ют нечестные поступки; у них происходит трансформация совести, в которой признаки-«погремушки» преобразуются как-либо в признаки-
«побрякушки».
Я два раза защищал докторские диссертации (1985, в Главном ботаническом саду и 2003, в Московском государственном университете), оппонентами которых были выдающиеся учёные Т.И. Серебрякова, Т.А. Работнов, С.В. Мейен, Л.А. Жукова. О.В. Смирнова, М.Вит. Марков (за рассмотрение слабой работы действительно сильный учёный никогда не согласится стать оппонентом), которые единогласно все дали положительные отзывы на мои работы. Кстати, оппонентами моей кандидатской диссертации (1970) были Т.И. Серебрякова и Т.А. Работнов. На такие защиты могут приходить и случайные люди — «зрители», которые иногда способны действовать организованно, проводя соответствующую «подковёрную» подготовку, чтобы любой ценой не дать соискателю возможность защититься. В мире людей всегда найдутся «доброхоты», готовые в любой момент покривить своей совестью и превратиться, если им это будет угодно, в «побрякушечников», чтобы, например, «перекрыть» кислород конкуренту, т.е. всегда готовых совершить любую подлость, преследуя свои корыстные интересы. Здесь не место много рассуждать на сей счёт, однако, чего, например, стоит вопль (душераздирающий крик на всю аудиторию, вряд ли это можно назвать иначе) некоего учёного (в среде биоморфологов таковой не числится) с кафедры высших растений МГУ В.Р. Филина, прогремевший непосредственно перед голосованием на защите моей диссертации: «если Вы проголосуете за Нухимовского, то мы будем протестовать и писать в ЦК’а». (Разве это можно когда-то забыть). Эта истериче-
ская выходка Филина, как ни странно, сыграла решающую роль при голосовании. Председатель Учёного Совета Главного Ботанического Сада (Москва) академик Л.Н. Андреев, вместо того, чтобы осадить наглеца, сделать замечание, повернулся ко мне и тихо сказал: «а ведь они (кафедра высших растений МГУ) действительно будут писать в ЦК’а» и проголосовал так, как «они» хотели. Мелковато, не правда ли…, но иногда срабаты-
вает и такое.
Затаённое кредо «побрякушечников», позволяющее им как-либо,
иногда даже весьма вольготно, удерживаться в науке: всегда прикрывать изощрённой болтовнёй идейную и практическую пустоту своей, внешне, может быть, даже кипучей, деятельности. За примерами, отражающими истинное лицо «побрякушечника», мне далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на отзыв по моей докторской диссертации (1985), подписанный кандидатами биологических наук, сотрудниками МГУ В.Р. Филиным, Г.Б. Кедровым, Ю.К. Дундиным (среди биоморфологов таковых нет), суть которого любыми средствами очернить вероятностного конкурента в науке, прикрываясь фразеологией высокопартийных борцов за «коммунистическое завтра» и «чистоту» науки. Вот несколько фраз из этого «побрякушечного» отзыва: «Было бы, мягко выражаясь, некорректным по отношению к здравому смыслу говорить об «актуальности», «новизне» и возможностях какого-либо применения рецензируемого труда. Не понимать это-
