
zagriazkina_tiu_red_frankofoniia_kultura_povsednevnosti-1
.pdf
ских блюд, которые те не понимают, например «белянжевин». Действительно, слово в таком звучании трудно понять. Оно получило русскую фонетическую окраску, с характерным «изъятием» носовых гласных, и стало привычным по звучанию для русского слуха, но его смысл был неясен.
«Повседневное», привычное, обычное звучание не совпадает с привычным смыслом. Этот фонетико-смысловой диссонанс обыгрывается как комическая сценка в рассказе «Человек из ресторана»1. Один московский купец, желая поразить воображение своей спутницы знанием французской кухни, заказывает рыбу (sole — морской язык). «Дай мне… соль!» — обращается он к официанту. А затем объясняет своей испуганной супруге: «Вот тебе соль, ешь — не бойся… Это рыба, в море на сто верст живет! Эту рыбу-то только француженки употребляют… ду-ура!» То что в заказе официанту купец употребляет слово «соль» в аккузативе, а не в род. падеже, свидетельствует о правильном грамматическом узусе: вин. падеж указывает на весь объект в целом, тогда как род. падеж необходим для обозначения части некоей субстанции, в данном случае — соли. Но когда он угощает свою спутницу, то в реплике «Вот тебе соль» грамматическое различие стирается, становится непонятно, что он имеет в виду.
Сам купец тоже еще не выучил и не понял смысл всех названий французских блюд, но стремится приобщиться к более престижному классу потребителей, свободно владеющих французским языком. Он заказал артишок и думал, что это мясо (очевидно, его сбила с толку часть слова — шок) и замечает официанту: «Я думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь!» (148). Тем самым читатель видит, что еще не все московские жители времен И.С. Шмелёва «оповседневили» французскую кухню.
Официант Черепахин презирает московских клиентов за то, что они не разбираются в названиях французских блюд, которые, видимо, обозначены в меню в русской транскрипции: «Знают там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, беф англез…». Действительно, эти названия стали привычными для москвичей, широко вошли в их повседневную жизнь. Но официанта с профессиональной точки зрения возмущает ограниченность кулинарных познаний московских обывате-
1 Шмелёв И.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989 (в круглых скобках указываются страницы этого издания).
201

лей, и он с возмущением говорит: «А как попал на трехэтажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит виктория паризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, а тут самая сытость для третьего блюда!» В этом длинном названии присутствуют как русские слова (гранит, виктория), но означающие совсем иные вещи, нежели соответствующие французские слова, так и не совсем, а то
ивовсе непонятные словосочетания (паризьен де ля рень). Разумеется, довольно экзотические названия рассчитаны на эффект чего-то необычного, из ряда вон выходящего, в противовес обычному, привычному. Посещение дорогого ресторана должно внушать чувство превосходства над обычными, недорогими заведениями. В данной ситуации повседневность, банальность исключаются изначально. «Или взять тимбальандалузкорокет? Ну что?... это даже не блюдо, а пирожки (корокет — искаженный вариант фр. croquette). “Скажи ты ему — крем де ля рень… Он за сладкое считает, а тут суп… Или риссоли… А, говорит, соленый рис! Да не угодно ли пирожков, а не рису!” Для некоторых даже развлечение» (182).
Необычное, выходящее из ряда вон, — это находка для коммерции и позволяет взвинчивать цены. «А порция-то в дватри целковых!» — восклицает довольный Черепанов.
Аристократическая публика, знакомая с меню французских ресторанов и владеющая французским языком, напротив, полагала хорошим тоном переводить на русский язык французские названия блюд, подчеркивая тем самым обыденность посещения дорогих московских ресторанов. Иллюстрацией таких ситуаций может служить сцена обеда Стивы Облонского
иЛевина в одном из московских ресторанов:
«— Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьевич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями…
—Прентаньер, подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть пофранцузски кушанья.
—С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: “Суп
202

прентаньер, тюрбосос Бомарше, пулярд а лестрагон, маседуан де фрюи…”»1 (39).
Обдумывая меню званого обеда, Степан Аркадьич не может отказать себе в удовольствии пользоваться французскими словами, придавая тем самым своему обеду праздничный, необычный вид: «Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: Будут окуни живые, спаржа и la pièce de résistance — чудесный, но простой ростбиф и сообразные вина…»2 (406).
Называя официанту нарочито по-русски французские блюда, Стива Облонский тем самым демонстрирует обыденность своего посещения дорогого ресторана, тогда как шмелевские обыватели, напротив, стремились продемонстрировать свое стремление оказаться в более престижном, с их точки зрения, окружении. В их произнесении названий французских блюд отражается плохое знание французского языка, может быть, даже полное отсутствие таких знаний — они ассоциируют французские слова с коренной русской лексикой, искажая их до неузнаваемости. Явления французской культуры, попадая в «плавильный тигль русской повседневности», трансформируются в нем иногда до неузнаваемости, но становятся фактами русского быта.
3. Изучение иностранного языка и его «бытовизация»
Мы воспринимаем окружающий нас мир, в том числе и родное место, в данном случае Москву, всеми своими чувствами.
А.Ч. Косаржевский. Звуки Москвы
Память, как полагает французский социолог П. Нора, «цепляется» (s’accroche) за конкретные и повседневные (quotidiens) объекты и предметы бытовой и возвышенной культуры, которые он называет «местами памяти» (des lieux de mémoire). Такими «местами памяти» в национальном масштабе могут быть национальные архивы, музеи, но также и школьные учебники3. На уровне личности «местами памяти» в обыденной жизни могут выступать, согласно концепции П. Нора, жилые кварталы, посещаемые спортивные сооружения, бистро — все, что окружает человека, все, что стало для него по разным при-
1 Толстой Л.Н. Анна Каренина // Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1957 (в круглых скобках указываются страницы этого издания).
2 Там же.
3 Nora P. Le présent et la mémoire // le Fdlm. 1983. N 2. P. 10—18.
203

чинам и обыденным и важным. Психологи также пришли к убеждению, что ни одно из впечатлений, полученных даже
вдетстве, не исчезает бесследно, «все как бы сохраняется где-то
вподсознательных сферах и в видоизмененном составе вновь проникает в сознание»1. Продолжая логику социологов и психологов, можно представить, что школьный учебник содержит важные сведения в национальном масштабе и является национальном «местом памяти», но то, как был выучен урок, какими он сопровождался событиями, — все это создает основу для возникновения индивидуальных «мест памяти».
Запоминание чужой речи приобретает целенаправленный характер в процессе изучения иностранного языка. Какой материал (диалоги, тексты, упражнения) предоставляет учебник? Ответ: повседневный быт, обыденные ситуации, обыденный язык. Весь этот учебный материал необходимо запомнить, хотя не всегда учащийся полностью понимает смысл высказывания. Как же данный процесс отразился в литературных произведениях? Здесь необходимо помнить о том, что художественная литература не является слепком с действительности, но помогает воссоздать социально-психологический климат эпохи, восприятие жизненных проблем отдельной личностью.
Сложности «обживания» чужого жизненного мира нашли свое отражение в произведениях русских писателей. Эти жизненные ситуации стали источником юмористических сцен и рассказов. Так, Б.К. Зайцев со временем забыл многое из своего гимназического обучения, но всю жизнь помнил толкование различий в значении действительного и страдательного залогов, которое объяснил учитель немецкого языка (немец по происхождению, так сказать, «носитель языка»), потому что оно звучало нелепо, почти анекдотически: «Волк ел коза — действительный, коза ел волк — страдательный»2 (73). Изучение иностранного языка в детстве часто является «хранилищем» смешных ситуаций: мы мыслим всегда на родном языке и непроизвольно, подсознательно сопоставляем звуковой образ чужого слова со знакомым словом родного языка, что порождает разные комические образы.
Иллюстрацией процесса преодоления повседневности — обычных слов, выражений, образов — через изучение иностран-
1 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 164.
2 Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989 (в круглых скобках указываются страницы этого издания).
204

ного языка могут служить сценки из рассказа И.С. Шмелёва, полного автобиографических событий, «Как я стал писателем».
Мальчик, поступивший в гимназию, вырванный из привычного родительского дома, впервые слышит французскую речь, которую он не понимает и пытается переосмыслить с помощью русских созвучий. Учительница-француженка внушала ему страх потому, что говорила на чужом языке, не соответствующем его жизненному миру. Даже, когда она произносила как бы знакомые слова, они на самом деле означали совсем иное: «Иногда вскрикивала строго — будто понятное — “сортир” (фр. Sortir — выходить), но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас» (385).
Маленькому Ване казалось, что учительница специально искажала знакомые ему слова. Например, она строго обращалась к девочкам: «Мед-муазель!» «Что означало это словосочетание “мед-муазель”?» — спрашивал себя Ваня. Слог Мед ассоциировался в восприятии мальчика с представлением о чем-то, что имело отношение к медицине. Ему было невдомек, что в этом французском слове первый слог показывает множественное число — mesdemoiselles.
Зато мальчик легко заучивал смешные стишки, которым его учили старшие гимназисты, где перемежались русские слова с французскими, которые, «обрусев», превращались в нечто привычное, обыденное и тем самым помогали выучить иностранный язык:
Рэгарде-машер-сестрица, Кельжоли идет гарсон, Сэтасе-богу-молиться, Нам-пора-алямэзон!
Эти стишки своим ритмом напоминали прибаутки, песенки, в которых отражалась обычная жизнь, но с французским «акцентом». Школьные товарищи своим «творчеством» дополняли, оживляли, приспосабливали к банальным ситуациям жесткие грамматические правила и слишком формализованную атмосферу гимназий. В этом школярском творчестве происходит «бытовизация» (термин М. Бахтина1) французской культуры, которая на протяжении нескольких веков служила в России символом «высокой» культуры и социального престижа.
1 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
205

Так, через юмор, смеховую культуру, через обыденные русские слова мальчик приобщался к высокой культуре, основанной на образовании, знании иностранных языков. Как писал Л.С. Выготский, «всякое воспитание есть перевоспитание уже осуществленного»1, изменение привычек, форм поведения, образа мыслей. Писатель как бы «одомашнивает» чужое и чуждое, превращая его в привычное, понятное, доступное. Через юмористический взгляд на чужое, через смех и улыбку происходит как «оповседневнивание» иностранного языка, так и приобщение к иной культуре, позволяющей раздвинуть горизонты собственных познаний. Сначала — «упрощение» чужой культуры, а затем на ином этапе знание языка — приобщение к ее высоким образцам, чтение не только французских классиков XIX в., но и выдающихся философов, экономистов, социологов, таких, как О. Конт, Прудон, Фурье, Бебель и др. В процессе изучения иностранного языка происходит не только «банализация» незнакомых слов и выражений, но и преодоление будничности, обычного и приобщение к образцам высокой культуры, высоконормированной речи.
Повседневное существует не только в контрасте с возвышенным, необычным, оно с ним составляет единое целое, называемое «жизненным миром» (термин Э. Гуссерля), в котором постоянно происходят, с одной стороны, нисходящее движение в сторону народной культуры, а с другой — возвышение повседневности в ранг нормативной культуры, где образование и воспитание позволяют «оторваться» от будничности, от низовой культуры. Как отмечал Б. Вальденфельс, «нисходящее движение оповседневнивания имеет свою противоположность в восходящем процессе преодоления повседневности»2. Элементы французского языка, проникающие в речь русского школьника, не создают эффект разлома культур, психологического дискомфорта, так как, во-первых, воспринимаются как необходимый предмет обучения, а во-вторых, благодаря юмористической окраске они «переплавляются» русской культурой. Бытовизация книжной культуры посредством юмора, шутки не умаляет ее достоинств, а формирует индивидуальную картину мира, воспитывает языковую личность.
1 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 369.
2 Вальденфельс Б. Указ. соч. С. 3.
206

4. Комфорт обыденности и жизнь «между двух миров»
Mais les mots aussi seraient la proie de l’oubli si, une fois prononcés par les hommes, ils ne passaient dans la mémoire de celui qui écoute, et de là à d’autres encore, formant aussi un réseau collectif...
G. Colli. Philosophie de l’expression
Память не подчиняется рациональным законам. Однако литература дает примеры попыток осознанного формирования личных, индивидуальных «мест памяти», сознательного стремления поменять не только место проживания, но и родной язык вплоть до сознательной «борьбы» с материнским началом в своем жизненном мире. Бытие человека при всей банальности его ежедневного течения многогранно и, пользуясь термином М. Бахтина, амбивалентно: в нем будничность сосуществует с неожиданными и непредвиденными поворотами судьбы. На многогранность будничности обращают внимание и философы. «Человек как “нефиксированное” животное существует не только в порядке повседневности, — полагает Б. Вальденфельс, — а как бы на пороге между обыденным и необычным, которые соотносятся друг с другом, как передний и задний планы, как лицевая и обратная стороны»1.
Культуру разных народов можно в большей степени, чем язык, представить в виде сообщающихся сосудов: постоянное общение на бытовом уровне предоставляет на первый взгляд большие возможности для установления прочных контактов. Между тем, как показывают исследования, «заимствование из одной культуры в другую некоторого культурного явления оказывается возможным лишь на уровне рефлексивного слоя сознания (то знание, которое осознается), бытийный (курсив мой. — З.А.) же образ сознания заимствованию не поддается. Таким образом, сформировавшийся в культуре-реципиенте образ сознания будет обречен на ущербность и длительное “врастание” в культуру, в результате которого в культуререципиенте будет сформирован свой бытийный слой сознания, отличающийся от бытийного слоя сознания культурыдонора, да и рефлексивный слой вряд ли будет скопирован полностью»2. В справедливости этих научных выводов убеждают примеры из литературы, хотя, разумеется, неправомер-
1 Там же.
2 Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2010. С. 157—158.
207

но было бы полностью отождествлять реальную жизнь с ее отражением в литературе.
Повседневное в обыденном сознании может ассоциироваться как с рутиной, банальностью событий и быта (повседневный наряд в отличие от праздничного), так и с необычной обстановкой, незаурядными поступками и обстоятельствами, но к которым постепенно привыкаешь в силу их повторяемости. Предсказуемость обычного создает впечатление рутины, но, как кажется, и определенное чувство психологического комфорта. Именно поэтому мы не стремимся резко изменять наш будничный, привычный мир.
Соединение в одной языковой личности обычного (родного языка) и необычного (иностранного языка и культуры) потенциально грозит возникновением сложных психологических ситуаций. Роман «Французское завещание» («Le testament français») А. Макина1 — в значительной мере произведение автобиографическое — будет интересовать нас в поисках ответа на вопрос: разные языки в ежедневном общении создают или разрушают чувство психологического комфорта, свойственное обыденности?
Общение с бабушкой-француженкой постепенно формировало мировосприятие мальчика, от имени которого ведется повествование. Она невольно приучила внука смотреть на мир «французскими глазами», внеся ноту «необычного» в его существование, которое он назовет жизнью «между двух миров»: « Car c’est elle qui m’avait transmise cette sensibilité française — la sienne, me condamnant à vivre dans un pénible entre-deux- monde… La greffe française que je croyais atrophiée scindait la réalité en deux » (249).
Семья рассказчика проживала где-то в русской глубинке, в одном из приволжских городов, его родители говорили на русском, он учился в обычной школе, общался со своими сверстниками на русском языке, но он не ощущал его как родной. Ему хотелось верить, что бабушкин язык ему роднее, так как именно французский язык (наш язык, как он говорил, т.е. его и бабушки) помогал ему осмыслить окружающий мир. Взгляд на окружающий мир с разных точек зрения, сквозь призму двух языковых картин мира формировал особенное мировосприятие.
1 Makine A. Le testament français. P., 1995 (в круглых скобках указываются страницы этого издания).
208
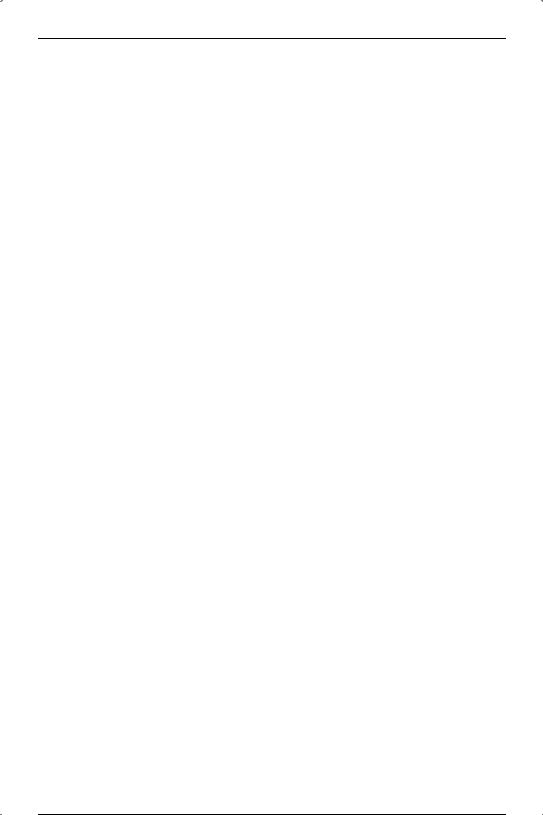
Он узнавал о всех ключевых моментах советской истории сквозь призму французского менталитета: « Oui, cette greffe, le français. Je voyais la Russie en français ! » (56—57). Политическая история советского периода — большевистские расстрелы и гулаг, сталинские чистки, Отечественная война... — сконцентрировалась в жизни одной личности — его бабушки: « Cette jeune Française avait l’avantage de concentrer dans son existence les moments cruciaux de l’histoire de notre pays » (128).
Язык бабушки, ее мировосприятие, оказали самое сильное влияние на мальчика. В его глазах она была неким справедливым и добрым божеством: « Une sorte de divinité juste et bienveillante, toujours égale à elle-même et d’une sérénité parfaite » (21). Как некое божество, она говорила всегда невозмутимо, никогда не повышая голос: « Et toujours sur ce ton neutre, toujours en français... » (26).
Ее воспоминания кажутся выспренними и неестественными, оторванными от быта, к ним неожиданно примешивается хроника о жизни президента Франции в период наводнения:
«Même le Président en était réduit aux repas froids ! » (30). Сухие,
как протокольный отчет, слова бабушки, рассказывающей о наводнении в Париже: « C’était en hiver 1910. La Seine s’était transformée en une vraie mer. Les Parisiens naviguaient en barque. Les rues ressemblaient à des rivières, les places — à de grands lacs. Et ce qui m’étonnait le plus, c’était le silence » (28).
Конфронтация между обычной жизнью и ежедневными земными заботами в маленьком городке на Волге, с одной стороны, и «высоким стилем» жизни президента Франции — с другой, о котором мальчик узнает из французских газет, из рубрик светской хроники, нарушала привычное мировосприятие.
События, отраженные во французской прессе начала XX в., сплелись в фантазиях подростка в странный клубок воспоминаний под названием «Атлантида» — мифическую страну, созданную из чужих воспоминаний и собственных фантазий:
«Notre langue! C’était donc cela la clef de notre Atlantide !.. » (56).
Мир, созданный воображением на основе чужих воспоминаний, нереален, как мифический материк: « C’était mon illusion française qui me brouillait la vue, telle une ivresse » (250).
Он оказался, с одной стороны, в мире литературы, вымышленном, составленном из чужих воспоминаний, а с другой — в реальности с ее властной повседневностью.
Как она говорила о повседневных заботах, какие были у нее обычные обороты речи, любимые шутки? Все это не получило
209

освещения в повествовании. В романе нет ни одного обращения к внукам по имени или с другими ласковыми прозвищами. Те редкие реплики, которые выдаются автором за прямую речь, относятся к таковой лишь формально, не приводится ни одного примера прямого обращения к внукам с будничными, житейскими проблемами. Местоимение вы (vous) выражает в них значение множественные числа и звучит достаточно холодно и отстраненно: « Parmi les pierres que vous avez jetées, il y en avait une que j’aimerais bien pouvoir retrouver » (26).
Обыденный стиль речи отражает непосредственное общение между собеседниками, находящимися в родственных или деловых отношениях. Непринужденность, неподготовленность обыденной речи выражается в употреблении умень- шительно-ласкательных слов, в сочетании обычных названий предметов с необычной их оценкой, понятной только участникам коммуникации. В разговорно-обиходном стиле речи используются простые предложения, даже незаконченные предложения с бессоюзным подчинением. Всех этих характеристик лишены образцы бабушкиного языка.
Постепенно, по мере взросления, мальчик понимает, что он существует в двух мирах — в повседневной русской реальности и в вымышленной «Атлантиде». Он начинает осознавать, что бабушкин французский — это чужой язык, иностранный: « … mais bien plus fort … fut cette révélation foudroyante: j’étais en train de parler une langue étrangère ! » (270). Он понимает, что его общение с бабушкой происходит на нормированном литературном коде, на котором не говорят, а пишут: «Cette langueoutil maniée, affûtée, perfectionnée, me disais-je, n’était rien d’autre que l’écriture littéraire » (271).
Комфорт бабушкиного мира, изолированного от реальности иностранным языком, был нарушен, когда подросток стал осознавать значение реального мира и искать свое место в нем.
Как отмечает С.Г. Тер-Минасова по поводу «Французского завещания» А. Макина, «герой романа ощущает все больше неудобств от двойного видения мира, от раздвоения личности, от постоянного своеобразного конфликта языков внутри одной культуры»1. Мальчик осознает свою оторванность от реального, обыденного мира, так как другой язык влечет за собой другую культуру, другую картину мира. Комфорт повседневности, даже отчасти вымышленной, был нарушен.
1Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2004.
С.82—83.
210
