
Vlast_i_obschestvo_Sibir_v_XVII_veke_Novosibirsk_1991
.pdf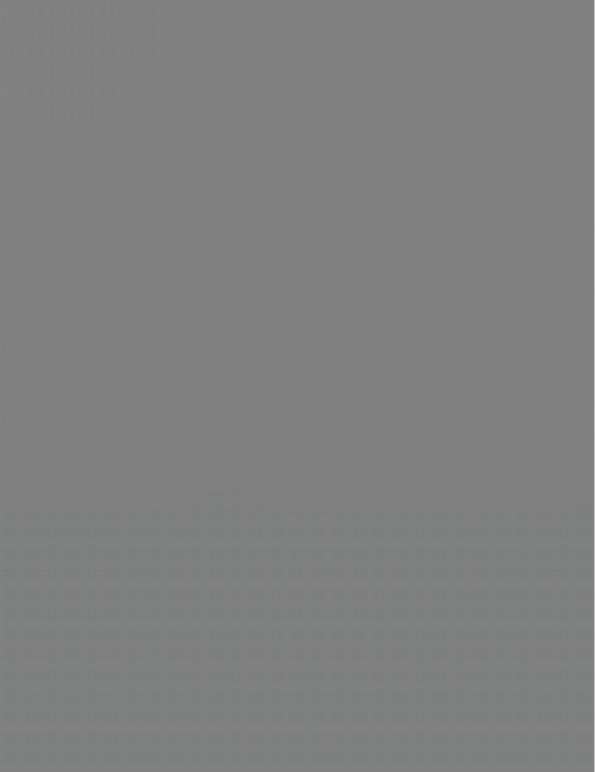
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
В. А. АЛЕКСАНДРОВ Н. Н. ПОКРОВСКИЙ
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
СИБИРЬ в XVII в.
НОВОСИБИРСК
« Н А У К А »
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1991
ББК 63.3(2)4 А46
Р е ц е н з е н т ы
доктор исторических наук В. И. Буганов кандидаты исторических наук
Я. Д. Зольникова, Я. П. Матханова
Утверждено к печати Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР
Александров В. А., Покровский Н. Н.
А46 Власть и общество. Сибирь в XVII в.— Новоси бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.— 401 с.
КВИ 5—02—029748—8.
Монография посвящена проблеме возникновения и функцио нирования демократических земских организаций в Сибир XVII в. Рассматриваются крестьянские общинные органы, общиш служилых, ямщиков, казачья и войсковая организации в их взаи моотношениях с правительственным воеводским управлением. Яр кие картины борьбы сибирского войска, крестьянских общин з; свои права позволяют выявить в этих бурных событиях определен ную историческую логику. Особое внимание уделяется исследова нию политического общественного сознания сибиряков в XVII в.
Книга рассчитана на историков, археографов, а также на ши рокий круг читателей.
А - 5^ 4 2 ((^ -1 ~ 9 1 ~ 69'” 91 11 полугодие |
ББК 63.3(2) |
|
ISBN 5—02—029748—8 |
© Издательство «Наука», 199 |
Светлой памяти Зои Васильевны Бородиной
ВВЕДЕНИЕ
Власть в России XVII в. была, как известно, монархи ческой, а общество — сословным. Главные сословия — за существенным вычетом частновладельческих крестьян, хо лопов и гулящих людей — были представлены на разных этажах механизма государственного управления: власть могла функционировать, лишь опираясь на сословно-пред ставительные учреждения общества.
Наша книга посвящена общественному мировоззрению русского населения Сибири на заключительном этапе исто рии сословно-представительной монархии в России и в то же время на начальном этапе освоения зауральских земель российскими переселенцами. Хронологическое совпадение этих двух на первый взгляд разнородных по своему суще ству процессов заставляет, с одной стороны, учитывать внутриполитические и социальные обстоятельства, отра зившиеся на мировоззрении отдельных социальных слоев населения, а, с другой стороны, не упустить из виду все то новое, что так или иначе порождалось и утверждалось в сознании переселенцев, создававших свое хозяйство на но вом месте. Учитывая особенности хозяйственной и соци альной жизни сибирских переселенцев, авторы придержи вались общепризнанного в сибиреведении тезиса о единст ве судеб европейской части России и Сибири и процессов, протекавших в них после присоединения сибирских земель к Российскому государству.
Современные исследователи истории Сибири уже неод нократно обращали внимание на хозяйственные традиции, приносимые с родины переселенцами, и обстоятельно дока зали, насколько они были существенны при освоении си бирской целины, пушных, рыбных и иных местных бо гатств. В не меньшей степени изучены основные элементы материальной культуры сибиряков (особенно крестьянст ва)1 и обоснованно доказана ее общность с культурой об-
з
щерусской. В том же направлении осуществляются много численные исследования духовной культуры. На основании уже имеющихся изысканий впервые стало возможным со здание обобщающего очерка, посвященного общественному сознанию крестьян с конца XVI до середины XIX в.2
И тем не менее в монографическом аспекте вопрос об общественном мировоззрении переселенцев в Сибирь оста ется открытым. Достаточно ясно, почему сразу же после присоединения Сибири к России приобрела огромный раз мах миграция российских крестьян за Урал, не прекращавщаяся затем на протяжении веков. Однако с каким «поли тическим багажом» они приходили туда и как представля ли себе свое общественное положение там и свои взаимо отношения с государственной властью, остается далеко не ясным. Сведения о том, что пионерами освоения Сибири явились уходившие от феодального гнета северорусские черносошные крестьяне, сохранявшие личную свободу, а в своем сознании — «наивный монархизм», слишком общи и мало что дают для понимания организации их жизни на чужбине и побуждений, порождавших бурные события, ко торыми столь богата была Сибирь на протяжении всего XVII века. Как ни парадоксально, но подробно изученная фактическая сторона многочисленных народных движений того времени и конкретные причины, их вызвавшие3, лишь помогают подойти к вопросу об общественном сознании складывавшегося сибирского населения.
Общерусское общественное сознание широких масс на селения неразрывно связано с общерусским политическим процессом. Поэтому прежде всего следует обратиться к проблеме сословно-представительной монархии в России в XVI—XVII вв., до недавнего времени дискуссионной и, на наш взгляд, все еще заслуживающей внимания. Рассмотре ние историографии позволяет заключить, что разрабаты вавшаяся советскими историками, особенно К. В. Базиле вичем и Л. В. Черепниным, концепция образования цент рализованного государства на Руси заслоняла вопрос о су ществовании сословно-представительной монархии. Основ ное, если не исключительное место в концепции отводи лось земским соборам как форме представительства в ее высшем проявлении4. В частности, в издававшейся в 1950-х гг. фундаментальной серии «Очерки истории
СССР» внимание было уделено политическому объедине нию русских земель под эгидой московских князей, а не социально-политической организации складывавшейся мо нархии. Впервые вопрос о сословно-представительной мо
4
нархии поставил в конце 1940-х гг. С. В. Юшков. Он рас сматривал ее как определенный этап в развитии феодаль ной монархии, когда на ранней стадии централизованного государства (XVI—XVII вв.) сословное представительство выступало в качестве атрибута государства, обеспечивав шего связи царской власти с дворянством и горожанами5. Эта постановка вопроса вызвала возражения К. В. Базиле вича, считавшего безосновательным определять форму Русского государства XVI—XVII вв. как сословно-предста вительную на том основании, что в России, по его мнению, не наблюдалось ограничения сословиями верховной власти. К. В. Базилевич считал более правильным говорить о со словной монархии, в которой сословия служили средством
кусилению и централизации государственной системы.
В1950— 1960-е гг. дискуссия о сословно-представитель
ном этапе продолжалась главным образом по инициативе М. Н. Тихомирова, опубликовавшего в 1958 г. статью «Со словно-представительные учреждения (земские соборы) в России XVI века». Выступая с резкой критикой работы В. О. Ключевского «Состав представительства на земских соборах Древней Руси», не считавшего соборы сословными представительствами, М. Н. Тихомиров не претендовал на исчерпывающую характеристику темы и рассматривал свою статью лишь как «попытку заново поставить вопрос о земских соборах XVI столетия»6. В этой «попытке» он по шел значительно дальше сформулированного заголовка. Отвечая на поставленный им самим вопрос — «каким об разом появилась форма сословно-представительного учреж дения в России, в данном случае земского собора? Откуда был взят образец для первого собора 1549 г.?», М. Н. Ти хомиров писал с далеко идущей научной перспективой: «Ответ на этот вопрос найдем в существовании в России XVI в. прочной традиции сословного представительства»7. К сожалению, он не развил свою мысль, лишь сославшись на значение церковных соборов, известных и в более ран ние столетия и усиленно действовавших с конца XV в. иногда даже совместно с Боярской думой и представителя ми служилых людей. Эта посылка была воспринята в даль нейшем А. А. Зиминым, который считал, что на смену удельной системе пришла сословная монархия, в недрах которой к XVI в. «появились соборные заседания (типа церковно-земского собора 1503 г.) — прообраз земских со боров середины XVI в.»®.
Инициативу М. Н. Тихомирова энергично поддержа ли и развили также другие историки, в том числе истори
5
ки права (Г. Б. Гальперин, В. И. Корецкий, Н. Е. Носов, Р. Г. Скрынников, С. О. Шмидт, А. Д. Горский, О. И. Чис тяков и др.), несколько уточнив датировку становления со словно-представительной монархии. В конце своего творче ского и жизненного пути Л. В. Черепнин в книге, посвя щенной истории земских соборов (изданной уже посмерт но) , изменил свой подход к проблеме. В исследовании «Об разование Русского централизованного государства в XIV—XV веках» (М., 1960) он не ставил вопроса о сослов ном представительстве. В «Земских соборах» счел возмож ным говорить о прообразе собора в XIII в., который созвал великий князь Всеволод Юрьевич (1211 г.). Дату же пер вого известного в ’осени собора 1549 г. Л. В. Черепнин ас социировал с оформлением сословно-представительной мо нархии, допуская, что «возникновение сословно-представи тельных учреждений в общегосударственном масштабе сле дует отнести к XIII в. Чужеземное иго надолго, вплоть до середины XVI столетия, прервало процесс их развития. За тем процесс возобновился»*. Л. В. Черепнин считал необ ходимым учитывать борьбу различных политических сил на заседаниях соборов, их взаимоотношения с верховной властью и, наконец, инициативу в созыве соборов со сторо ны царской власти или сословий10.
Так или иначе, история сословно-представительной мо нархии рассматривалась сквозь призму деятельности пре имущественно земских соборов. Между тем проблемой земских соборов она вовсе не исчерпывается. Всеобъемлю щее изучение сословного представительства остается не ре ализованным, а потому сущность монархии, иерархически как бы олицетворявшаяся лишь на высшем уровне сослов ного представительстваа, не раскрытой до конца. В дея тельности земских соборов отражалась роль сословных представителей в разрешении общегосударственных задач, но оставалась в тени обратная связь между царской вла стью и сословиями, которую можно заметить, зная значе ние сословий для функционирования местного управления. Ведь именно на уровне местного управления повседневно проявлялась взаимосвязь между «обществом» и «властью».
Обращаясь к исследованиям последних десятилетий, в которых так или иначе затрагивалось местное управле ние, можно проследить определенную тенденцию подчи нять его историю только проблеме развития централизо ванного государства и его аппарата. Так, А. А. Зимин, от нося к рубежу XV—XVI вв. «строительство общерусского государственного аппарата»11, политику великих князей
6
московских в первой трети XVI в. рассматривал в ракурсе подчинения местного управления дворцовым ведомствам с постепенным ограничением функций наместников по уставным грамотам, выдаваемым местному населению, и появлением на местах института городовых приказчиков, вербовавшихся из среды провинциальных детей бояр ских, что предзнаменовало падение всей феодально аристократической системы кормлений12. Эта схема от
ражала |
определенный концепционный |
взгляд — |
«именно |
|||
с конца |
XV в. начинают оформляться |
сословия на Ру |
||||
си — |
феодальная |
аристократия с |
ее |
органом |
Боярской |
|
думой, |
дворянство |
и духовенство, |
крестьянство |
и посад |
||
ские люди. Для представителей господствующего клас са возникает комплекс прав-привилегий, отраженный как в законодательных памятниках, так и в практике по вседневной жизни»13. Однако несомненно, что и в бо лее ранние времена, при удельной системе у разных со словных слоев уже сложились представления о собствен ных правах в управлении, хотя бы на обычноправовом уровне.
Итак, обращаясь к возникновению сословно-представи тельной монархии и соответствующего ей управления, в частности местного, а отсюда и к общественному мышле нию отдельных сословий, следует иметь в виду, что этот тип монархии был этапом на пути возникновения центра лизованного государства как системы со строго иерархиче ской структурой управления.
В современной отечественной литературе этапность сложения централизованного государства до сих пор оста ется спорной, что в свою очередь осложняет разрешение ряда задач, в том числе и поставленных авторами настоя щей книги. Не вдаваясь в подробный историографический анализ, достаточно сравнить точки зрения таких крупней ших ученых, как М. Н. Тихомиров и Л. В. Черепнин, что бы убедиться не только в имеющихся научных противоре чиях, но и в разных подходах к пониманию существа про блемы. Л. В. Черепнин относил образование централизо ванного государства ко второй половине XV в. и датировал завершение этого процесса 1480-ми гг. Свое внимание он концентрировал на образовании в основном территории государства, кодификации феодального права, изменении положения феодальной верхушки (замена вассалитета отношениями подданства, иммунитетных привилегий фео дального землевладения), на централизации суда и управления14.
7
Иначе подходил к проблеме централизованного госу дарства М. Н. Тихомиров, анализируя внутреннее состоя ние России более позднего времени — XVI в. Он сосредо точил свое внимание на особенностях положения не только разных регионов государства, но и отдельных районов и пришел к выводу о их резком отличии друг от друга в по литическом, социальном, хозяйственном, юридическом от ношениях. М. Н. Тихомиров настаивал на том, что и в XVI в. «централизация существовала только в виде власти великого князя или государя; присоединенные же земли сохраняли старые обычаи, жили своей обособленной жиз нью»15. Множество территорий, принадлежавших отдель ным феодалам, б; т о мало связано между собой единой центральной властью, при бесчисленных феодальных пере городках население многих земель имело разную социаль ную структуру, сохранялось разное положение феодалов разных рангов и подчиненных им крестьян, а также соци альных групп в городах15.
Подобную оценку процесса централизации в XV — на чале XVI в. давал в своих работах 1970—1980 гт. А. А. Зи мин. Он писал о необходимости «избавиться от той пере оценки степени централизации государственного аппарата
вРоссии, которая долгое время существовала в литературе.
Всамом деле, объединение земель под великокняжеской властью само по себе не означало еще создания централи зованного государства»17. Несколько позднее А. А. Зимин еще более определенно констатировал, что именно в 1480— 1505 гг. перед великокняжеской властью только еще вставали «новые задачи — борьба с пережитками феодаль ной децентрализации и создание аппарата единого государ ства» и, несмотря на создание Судебника 1497 г., «черты обособленности отдельных земель в правовом отношении еще долго продолжали существовать в практике судопроиз водства»18.
При таких хронологически разных оценках процесса создания централизованного государства не возникал, од нако, основной, на наш взгляд, вопрос — какая же степень централизации государства может (или должна) соответст вовать сословно-представительной монархии. Без ответа на
него трактовка этапов создания такого государства невоз можна. Именно в этой плоскости уместно и необходимо взглянуть на всю проблему управления, как центрального, так и местного.
Рассмотренные взгляды на важнейшие взаимосвязан ные общеполитические проблемы истории России конца
8
XV—XVI в. свидетельствуют о сложности подхода к вопро су о сословном самосознании. При давней традиции иссле дования истории феодального класса и происходивших в нем изменений в Древней Руси, во времена удельной сис темы и при объединении русских земель в единое государ ство прослеживается его сословное самосознание на разных этапах истории феодального общества. Значительно труд нее в силу источниковедческой сложности исследовать са мосознание крестьянства и городского населения. Между тем говорить о сословно-представительной монархии, от влекаясь от сословной организации этих социальных слоев населения, невозможно. Земские соборы с середины XVI в. и на протяжении XVII в. имели разный социальный состав представителей. Уже во второй половине XVI в. вопросы на соборах обсуждались отдельно представителями разных социальных слоев и началась практика всесословного пред ставительства, от «всей земли», вплоть до городов и сел19. Такое представительство возможно было только при нали чии на местах сословных организаций, без их существова ния вообще трудно представить структуру феодального об щества.
Автор фундаментального исследования, посвященного становлению сословно-представительных учреждений в России в середине XVI в., Н. Е. Носов определенно утвер ждал, что система управления не была декларирована пра вительством сверху, наоборот, она зародилась в недрах са мого общества и именно им была навязана правительст ву20. Анализируя решения собора 1549 г. и Судебник 1550 г., Н. Е. Носов не менее определенно утверждал, «что чем сильнее укрепляло свои позиции дворянство, тем на стойчивее добивалась политических привилегий посадская и волостная верхушка (“лучшие и середине люди“), рас сматривая их как законное и столь необходимое им в но вых экономических и политических условиях средство за щиты своих классовых интересов», прежде всего право са мостоятельно собирать налоги и «творить суд и расправу» на местах силами своего выборного аппарата21. Разумеет ся, чтобы заставить правительство Ивана IV пойти в 1549 г. на собор с «примирением» резко определившихся классовых противоречий, необходимы были сословные ор ганизации, сплачивавшие земские миры — крестьянство и посадских людей. Н. Е. Носов с полным основанием кон статировал, что исследованием сословно-представительных учреждений в России советская историческая наука заин тересовалась только в 1950—1960-х гг., да и то, как уже
9
