
книги2 / 10-2
.pdf
Вместе с тем, его мифотворчество глубоко осознанно и вписано в широкий культурный контекст. Сошлемся на мнение Виталия Пацюкова: «Творчество Леонида Тишкова, явленное в нашей культуре практически всеми фундаментальными стратегиями – объект, картина, инсталляция, видеокарт, перформанс, авторская книга, – несомненно, можно рассматривать как матрицу, модель “автобиографического” феномена современного интегрального искусства» [Пацюков, 2002]. Действительно, Леонид Тишков и поэт, и художник, и автор-исполни- тель концептуальных перформансов и видеопроектов, самым известным из которых стал проект «Частная луна», демонстрировавшийся в самых разных странах. И все же, при всей «интегральности» творчества Тишкова, можно выявить доминирующий импульс: он рассказчик, ему хочется рассказать некую историю, поведать ее и словами, и изображением, и арт-объектом. В стремлении к нарративу Тишков сближается с практикой современного сторителлинга (отчасти продолжая традицию Е.М. Малахина – Старика Букашкина). Для Тиш- кова-художника характерен культ книги: «Для меня книга – универсальный ключ к мирозданию, а не только способ рассказать о том, что чувствую и переживаю, сочиняя фантастические истории, в которых я объясняю своё существование в этой реальности» [Тишков, 2015].
Все истории Тишкова – о частном человеке, его детстве и семье, его видениях и мечтах, в них переплетаются сугубо предметные образы и фантастические персонажи: даблоиды, стомаки, небесные или подземные водолазы. Истории полны иронии и шутки (например, описывая даблоида, автор отмечает, что у него два хрусталика в глазах и три хризолитика), очень поэтичны. В разных техниках, на языке разных видов искусства Тишков занимается личным жизнетворчеством, что его сближает, несомненно, с модернизмом. Тишков побуждает и зрителя-читателя заняться самодеятельным творчеством. Так, представив даблоида (это антропоморфное существо в виде ноги с маленькой головой, красного цвета) в пьесе (1990), а затем в альбомах «Новое о даблоидах» (1992), «Даблоиды и их люди» (1994) и комиксах, Тишков предлагает читателю взять носок, оставшийся без пары, смастерить, ориентируясь на представленное описание, даблоида, дать ему имя и поместить на почетное место в доме, поскольку он будет другом, двойником, оберегом, уничтожающим фантомы созна-
420

ния [Тишков, 2009]. К читателю обращено и «учебное пособие» под ироническим названием «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта» (2017).
Испытав воздействие концептуализма, Тишков в начале 2000-х, по его собственным словам, отошел от тотальной иронии и деконструкции и углубился в поиск путей позитивного взаимодействия с миром. Он облюбовал для проектов крышу своего московского 25-этажного дома, а художественные поиски ведет в парадоксальном направлении – он мечтает воплотить суть поэзии без помощи слов, выразить лирический образ невербальным способом [Сохарева, 2020]. В интервью Тишков поясняет свою сверхцель: «Я погрузился в эскапизм отшельника, живущего высоко под облаками. Первым проектом, ознаменовавшим новый период в моем творчестве, была акция “Снежный ангел”. Потом, в 2003 году, появилась Луна. С тех пор она была показана бесчисленное количество раз по всему свету. Сейчас меня больше всего интересует визуализация поэзии. Я хотел бы получить чистую эссенцию поэзии, которая могла бы существовать без текста, лишь посредством зрительного образа – в виде инсталляции,
например» [Сохарева, https://artguide.com/posts/2006].
Несмотря на «эскапизм отшельника», Тишков вполне вписан в современный арт-процесс, он много ездит по свету со своими проектами, организуются его персональные выставки, престижное издательство НЛО выпустило в 2020 г. его роман-миф «Взгляни на дом свой».
Казалось бы, в искусстве Тишкова есть общее с арте повера – «бедным искусством»3: он использует материал, не свойственный традиционному искусству, скорее, тот, что годится для любительского домашнего «рукоделия», и здесь его тактика схожа с так называемым ЖЭК-артом. Однако генезис творчества Тишкова довольно изощренный. Помимо концептуализма, сам художник называет французский сюрреализм и итальянский трансавангард: «Мое искусство состояло и состоит до сих пор из бесконечного количества фантастических историй – с погружением в метафизику, сюрреализм, черный юмор. Когда-то на меня сильно повлияли французский сюрреализм и его поэзия. В Париже существовало движение “Паника”, куда входили режиссер Алехандро Ходоровски, драматург Фернандо Аррабаль, художник Ролан Топор. Это такой постсюрреализм 1960–1970-х годов.
421

(…). [Позже] в моем искусстве появились параллели с итальянским трансавангардом. Особенно меня привлекала идея создания личной мифологии, работа с фантастическими сюжетами. Трудно сказать, существовал ли в России трансавангард как таковой, но меня влекло это движение и его участники – Франческо Клементе, Энцо Кукки. Это был важный для меня опыт» [Тишков, 2015, http://iskusstvo-info.ru/ leonid-tishkov-zdes-nachinaetsya-razgovor-o-knige-hudozhnika].
Мы не будем погружаться сейчас в терминологические споры по поводу определения сути трансавангарда [см., например: Ермолин, 2011]. Напомним, что термин введен Акилле Бонито Олива в 1978 г. [Бонито Олива, 2003]. Бонито Олива говорит о творчестве европейских художников 1970-х гг., в том числе о Йозефе Бойсе, «художни- ке-демиурге»: «Акцент теперь делается на стилистические моменты, на эклектику, и как раз в этом обнаруживает себя профессиональное мастерство художника – происходит возврат моральной ценности времениисполненияпроизведениякакносителяпрофессиональнойидентичности (в противовес прославлению «быстрого» искусства в эпоху концептуализма)» [Бонито Олива, 2004, http://moscowartmagazine. com/issue/33/article/617]. И продолжает: «Идентичность художника становится идентичностью самого искусства. Художник вырабатывает систему оповещения о тревоге, он начинает массировать атрофированный мускул созерцания, взывая его к чувствительности, чтобы затем воспеть наличие искусства в его бесплатной радости» [Бонито Олива, 2004, http://moscowartmagazine.com/issue/33/article/617].
Картины Энцо Кукки и некоторых других художников-транса- вангардистов ориентируются на легенды и предания родного края, природа и культура у них переплетаются с техническими объектами, нередко картины сопровождают стихотворные тексты.
На фольклор и культурную память ориентируется и Тишков. Автобиографический роман «Взгляни на дом свой» – это роман о родной земле и о становлении художника, о формировании его мифопоэтического мировосприятия. Тишков прочно связан с Уралом, считает его особенно мифогенным местом, формирующим его «геофизиологию», по выражению В. Пацюкова.
Тишков признается: «Практически все мои работы из ткани берут свое начало в фольклоре. Взять хотя бы историю Вязаника мифологического существа, которому посвящены две главы в моем романе
422

“Взгляни на дом свой”. Все это уходит корнями в народную сказку, в истории, которые мне рассказывала в детстве моя бабушка. Я родился
ивырос в маленьком селении на Урале и впитал природную странность людей, которые жили в окружении фантастических историй и преданий. Со временем они перемешались с моей личной мифологией, одно наложилось на другое, так что теперь сложно сказать, что заканчивается одна история и начинается другая. Получился такой винегрет из фантазмов и реальности» [Тишков, 2015, http://iskusstvo- info.ru/leonid-tishkov-zdes-nachinaetsya-razgovor-o-knige-hudozhnika].
Вязаник придуман по аналогии с быличками о Баннике (с которым довелось встретиться мальчику Леонтию, автобиографическому герою романа Тишкова), об Овиннике и прочей нечисти, некогда входившей в языческий пантеон в крестьянской среде. Вязаник отчасти напоминает и легенды о «лесных людях», т.к. он когда-то повстречался Леонтию в лесу. Взрослый художник лег на расстеленные газеты и попросил мать обвести контур его тела синим карандашом. Уезжая, он попросил маму связать по этой мерке цельный чехол. Потом он и сам научился вязать крючком. Экспонирующийся на выставках Вязаник выглядит гротескно: мешок или скафандр, напоминающий фигуру неуклюжего человека, связанный из разноцветных тканевых полосок, вместо рук и ног – варежки, но без большого пальца, отверстия для лица нет.
Важны не только фольклорные «корни» Вязаника, но и технология его изготовления. Автор указывает на прообраз Вязаника – это уральское домашнее ремесло вязания ковриков из разорванной на ленты старой ткани. Такие коврики вязала и его мать.
Функция ковриков, объясняет повествователь в романе, была одновременно утилитарной (прикрыть холодные крашенные доски пола)
имифологической – защищала детские босые ноги от холода «нижнего мира» [Тишков, 2020, с. 86], что особенно актуально на Урале, сложенном из холодного гранита, а все мифологические существа, от чуди белоглазой до Медной горы хозяйки обитают именно в подземном, хтоническом мире. Коврики вязались из ветхой старой одежды, которая, как пишет Тишков, очень ценилась в суровом уральском климате, вещи передавались от старших к младшим, пока совершенно не изнашивались, и вот тогда их рвали на полоски – «махорики» и вязали из них коврики. Так что Вязаник, словно «супер-коврик», слу-
423

жил и воспоминанием о детстве, и оберегом. Кроме того, сработанные вручную, коврик и Вязаник аккумулируют тепло рук, сохраняют то время, которое затрачено на их изготовление.
Как известно, вещь бытовая может стать арт-объектом, если будет совершен акт трансгрессии, будет осуществлен переход границы утилитарного и эстетического, искусства и не-искусства, о чем писал еще Борис Гройс в книге «Утопия и обмен» [Гройс, 1993]. На фоне одноразовых дешевых китайских вещей в начале XXI в. возникла мода на вещи и предметы ручной работы. Например, чем шире входили в быт печатные и электронные книги, чем больше на полках магазинов появлялось дизайнерских блокнотов, тем популярнее становились самодельные «зины», джанкбуки, скрапбуки [См. о зинах: Щербинина, 2015, с. 37-42]. Трансгрессия затронула и традиции вязания, о чем пишет Линор Горалик [Горалик, 2015]. Если в советское время вязаные вещи были менее престижны, чем покупные, то вновь возникшая мода на вязание изменила ситуацию. Характеризуя новейший дизайн вязаных вещей, Горалик приводит примеры трансгрессий, направленных на слом стереотипа, согласно которому вязаная вещь уютная и мягкая, сохраняет и закрывает теплое тело. Такой стереотип ломает, допустим, кардиган с вываливающимися между пуговицами, вязанными внутренними органами, или свитер с вывязанными ребрами и позвоночником, то есть вещь, обнажающая физиологию, то, что как раз должно быть скрыто.
У Тишкова тоже есть трансгрессия, но в противоположном направлении: его Вязаник – чехол для души, не для тела. Однако душа соединена с телом, неслучайно герою автобиографического повествования коврик на полу кажется плацентой, на которой зарождается младенец. Вязаник – кокон, в котором душа выросшего ребенка, взрослого человека может спрятаться, сохраниться, согреться. В романе «Взгляни на дом свой» читаем: «Этот неуклюжий длинный костюм из порванной одежды моей родни стал мне как оберег, оденешься в него, весь скроешься в пестрых лентах, посмотришь на мир сквозь переплетения ткани, и мир станет совсем другим, каким-то нездешним, будто ты – это уже не ты, а существо, рожденное из вечности, из уральских легенд и россказней созданное» [Тишков, 2020,
с. 98].
424

Но Вязаник может выполнить эту задачу только при определенных условиях. Во-первых, он должен быть связан из старых вещей родни, близких людей, потому что тогда «впитаешь своим телом древнюю память ветхой ткани», на ощупь, всей кожей, приобщишься к «памяти памяти» твоего рода (перекличка с Марией Степановой или формула найдена независимо от ее книги «Памяти памяти»?). Разбирая вещи после смерти матери, рассказчик находит корзинку, полную разноцветных клубочков-моточков. В эти клубочки после поминок он вставил фотографии ушедших родственников, и они стали его «небесными водолазами», ведут по дороге в Тот Самый Дом на небесах, в котором теперь обитает родня, птицы небесные [Тишков, 2020, с. 106]. Старую одежду матери он разорвал на махорики, получилось пять разноцветных клубочков-атомов, из которых состоит нынешняя реальность, укрепленная памятью и любовью [Тишков, 2020, с. 109]. И рассказчик вяжет так, как его научила мать, тем же крючком, который для матери сделал ее бывший ученик, слесарь Вася Чекасин, сам давно старик. Получился то ли свитер, то ли мешок, но на самом деле это была женская матка – «шелковая, крепдешиновая, сатиновая, хлопковая, мягкая и яркая», та, в которой когда-то зародился и он – «кулема, комочек шерстяных ниток, связанный-сделанный моими родителями» [Тишков, 2020, с. 111]. Отметим качества вещи – «мягкая и яркая»: цвет связан именно с материнском началом, воспоминания об отце – черно-белые, как и картина Тишкова «В поле моего отца»
(2006).
И важен еще сам процесс разрывания-разрезания вещей, связывания обрывков в нити, сматывания в клубочки-моточки. Так человек прощается с прошлым, «память отпускает тебя», когда из одежды, еще хранящей очертания тела того человека, которого уже нет с тобой, «возникают лишь бесконечные ленты и нити». А потом из скрученных клубочков вяжется коврик, обладающий формой бесконечности: «концентрические окружности, закручивающиеся во вселенную» [Тишков, 2020, с. 115]. В результате, пишет повествователь, лежит перед тобой уютный коврик, в котором закручена память памяти, тихая, почти прозрачная, легкая.
Итак, вязание ковриков (и Вязаника) предполагает разрыв старого существования и сплетение новых связей.
425

В одном из интервью Тишков поясняет: «Сам автор называет объект попыткой соединить разорванное. “Вязаник” хранит тепло людей моего рода, овеществляя память. Народное уральское ремесло вязания ковриков я превратил в магический ритуал возвращения духов предков, сплетение душ в спираль вечности, в кокон памяти. Так получилось новое мифическое существо – вязаный человек, вставший
вряд древних сказочных типов, таких как домовой и банник», – рассказывает Леонид Тишков в связи с выставкой ковров в Тюмени [Го-
лышева, 2017, https://t-l.ru/235997.html].
Наконец, важен и еще один аспект Вязаника: вязание-перепле- тение-текстура аналогичны тексту, «плетению словес». Используя бытовые предметы, Тишков в своих перформансах, инсталляциях, арт-объектах стремиться к эффекту «чистой поэзии» без слов. Так, например, все мы видели пустые пакеты, летящие по воздуху – мусор, который загрязняет мир, он может раздражать, но может и пробуждать воображение, как в фильме «Красота по-американски» или
врассказе Ирины Глебовой «Полиэтиленовый пакетик, душа картофельного мешка». У Тишкова в перформансе «Существа воздуха» космический, натурфилософский, пантеистический эффект возникает благодаря порывам ветра, заставляющего «плясать» прозрачные фигуры из полиэтилена на крыше высотного дома, а заходящее солнце подсвечивает эти прозрачные, отчасти антропоморфные фигуры пастельными, теплыми тонами.
Так и в Вязанике Тишков соединяет материальное и духовное, автобиографически-конкретное (на одной из выставок были подписи, отмечающие, из чьей именно бывшей одежды связана та или иная часть Вязаника) и вселенское, смертные жизни и вечность, одежду из материнского шкафа и спираль Галактики. Частное, географически конкретное место (Нижние Серги, 1960-е гг., на которые пришлось детство Тишкова) становится центром Космоса, как и полагается в мифе.
Почему же понадобился Вязаник в качестве футляра для души? Возможно, потому, что того поселка, в котором прошло детство и который начал свою жизнь с демидовского завода и плотины для него, больше нет (повествователь в романе «Взгляни на дом свой» едет домой, вспоминает в пути свое детство – и так и не выходит в городок, садится в поезд, идущий в другом направлении, подобно пресытив-
426

шемуся воспоминаниями Ганину из «Машеньки» Набокова). В Москве Тишков предпочитает уютной мастерской крышу 25-этажного дома. В принципе, нет, наверное, разницы между левитацией, пережитой автобиографическим героем романа в уральском детстве, и «снежным ангелом» Тишкова, готовым шагнуть вниз с крыши московского жилища, превратившись в Небесного Лыжника. Тишков много ездит по миру, показывая свою «Частную луну». Получается, что человек сам конструирует свой миф, свой мир, обретая тем самым независимость от внешних обстоятельств, раз уж «родовое» место-плацента утрачено безвозвратно.
Встремлении придать глубокий смысл бытовым вещам Тишков не одинок. Линор Горалик в интервью говорит: «Работа с такой оптикой позволяет мне говорить о единственной интересующей меня вещи о выживании людей в повседневности. Катаклизмы приходят и уходят, повседневность вечна: она пребудет до катаклизма, во время катаклизма, после катаклизма. У меня все время есть чувство, что во всем, что я делаю, включая статьи о теории костюма, я говорю об одном и том же: о ежедневном выживании смертного существа при бессмертном Боге» [Горалик, 2017, https://www.colta.ru/articles/ specials/15904].
В2020 г. вышла книга стихов Екатерины Симоновой, за которую она удостоилась премии «Поэзия». Екатерина Симонова – из Нижнего Тагила, ныне живет в Екатеринбурге. Книга называется «Два ее единственных платья» и открывается циклом стихов об умершей бабушке. А в стихотворении «Дедушка был плотником…» речь идет о сделанной дедом мебели, в том числе – о зеркале в раме, в котором отразилась «молодая бабушка и два ее единственных платья / с белым сменным воротничком, / дешевенькой брошкой с голубым камешком…» [Симонова, 2020, с. 61-62]. Два маминых платья вспоминает
иповествователь в романе Тишкова: «Вот темно-коричневое строгое шерстяное платье учительницы начальных классов. Другое, из крепдешина, цветастое, она надевала в праздники» [Тишков, 2020, с. 108]. Эти мамины платья образовали потом часть Вязаника.
Для подчеркнуто автобиографического героя (героини) и Тишкова, и Симоновой важны именно частные, локальные истории, отражающие историю страны. Вещи маркированы эпохой (платье учительницы, духи «Красная Москва», единственная пуговица с гимнастерки
427

отца, прошедшего плен и фильтрационный лагерь). Но в качестве художественного образа (Вязаник, щель между старым зеркалом и новой рамой для него в стихотворении Симоновой) они наделяются функцией магических предметов, способных связывать, подцеплять, как петли крючком, линейное время, замыкая звенья поколений в круг.
В заключение отметим еще подчеркнутую «уральскость» Вязаника, выполненного в технике народного ремесла. Неслучайно в «сильных» текстовых позициях и у Тишкова в романе, и у Симоновой в стихотворении «Ну чо ты там чо, как дела?» стоит чисто уральское «чо». Тишков (как и Симонова, и ряд других авторов) стремится рассказать историю о родных людях, живущих «далеко от Москвы», представить их нехитрый мир, рождающий, тем не менее, свою поэзию, то есть воссоздать в искусстве образ достаточно маргинальной культурной группы. В этом отношении характерен рассказ об отце, попавшем под Уманью в плен, поэтому вернувшемся не с Победой, а из фильтрационного лагеря. Леонтий вспоминает не только любимый пруд и горы вокруг него, но и убогий быт поселка, улицу Гагарина (а Вязаник – это скафандр) с бетонными урнами, баню и огороды, черный снег зимой
и«лисий хвост» ядовитого дыма из заводской трубы. В постсоветское время завод почти остановился (неслучайно Лысая гора начала зарастать лесом, а снег зимой стал белым). Для уральских моногородов это означает безработицу, отток молодежи, ощущение своей ненужности у тех людей, что остались как-то выживать на старом месте. Тишков рассказывает о Нижних Сергах не как сторонний наблюдатель, а как «свой», местный, поскольку роман автобиографический, Вязаник сделан своими руками, а мифологический пласт опирается на уральский фольклор. Художник «из глубинки» может позволить себе быть дилетантом и чудаком, ломать стереотипы, иронизировать
ипридумывать своих Небесных водолазов.
М.В. Тлостанова противопоставляет постколониальный и деколониальный дискурсы [Тлостанова, 2012]. Вероятно, творчество Л. Тишкова можно отнести к деколониальной теории и практике. Деколониальный эстезис, подчеркивает М.В. Тлостанова, ориентирован на тактильное, визуальное, слуховое, то есть чувственное мировосприятие, воссоздает опыт «немых», недостаточно или совсем не представленных культурных групп, история которых связана с политическим,
428
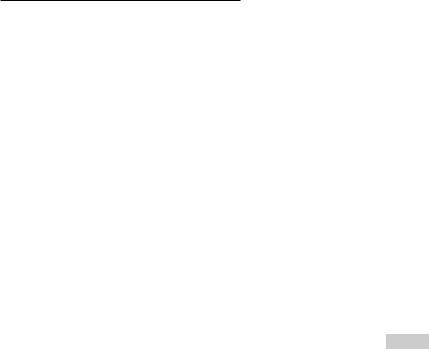
социальным, культурным и психологическим подавлением. С характеристики уральцев начинает свой роман-миф Тишков: «… есть такая нация в России, и никак ее не спутаешь с какой-нибудь другой (…). Когда-то, до своего поселения на Урале, они были русскими людьми, обитатели Тульской или Тверской областей…» [Тишков, 2020, с. 7]. «Нация» уральцев зародилась – и не по своей воле – в период колонизации Урала, когда здесь начали строить заводы, разрабатывать шахты и прииски, переселяя людей из центральных районов России. За триста лет работный люд обжился, выработал свой уклад, обычаи и самобытную культуру. Вязаник Тишкова сделан вручную, причем изначально он связан, подобно коврику, мамой художника, воспринимается визуально и на ощупь, включен в литературный текст, его мифологический смысл объяснен в интервью и каталогах выставок. Этот арт-объект обладает не только личным, автобиографическим для Тишкова смыслом, но и воплощает миф об уральцах как особой породе людей, живущих на суровом Урале, где ценится тепло, оберегающее душу.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Нина Владимировна Барковская – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).
2 Статья была впервые опубликована: Барковская Н.В. Эстетизация обыденного: «Вязаник» Леонида Тишкова // Между автономией и протеизмом: формы/способы социокультурного бытия и границы современного искусства / науч. ред. Л.А. Закс, Т.А. Круглова. Екатеринбург: Гуманитар. ун-т, 2020. С. 193-208.
3 Напомним о замечательной выставке в Перми «Русское бедное» (2008), куратор Марат Гельман.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Артамонова, А. Искусство – дело индивидуальное. // Arterritory.com. Визуальное искусство. 18/12/2015 / А. Артамонова. URL: https://arterritory. com/ru/vizualnoe_iskusstvo/intervju/15314-iskusstvo_-_delo_individualnoe. (20.08.2020)
Бонито Олива, А. Искусство на исходе второго тысячелетия / Олива А. Бонито. – Москва: Художественный журнал, 2003. – 218 с.
Бонито Олива, А. Искусство между идентичностью и гомогенностью / Олива А. Бонито // Художественный журнал. 2004. № 56. URL: http:// moscowartmagazine.com/issue/33/article/617. (28.08.2020).
Голышева, Л. Новая жизнь старых вещей: художник из Москвы представил инсталляцию на тюменской выставке / Л. Голышева // Тюменская линия. Общество. 2017. 19 ноября. URL: https://t-l.ru/235997.html. (26.08.2020).
429
