
Учебный год 2023 / МЛОГОС КНИГА 4 (807-860.15 ГК) 2019 Заем, кредит, факторинг, вклад и счет
.pdf
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
тривалась ст. 1898 Проекта ГУ, а также в ст. 218–219 ГК РСФСР 1922 г.) и известен ряду правопорядков, в которых гражданские кодексы все еще по традиции закрепляют конструкцию реальности займа. Но этот путь обоснования права на взыскание убытков на случай непредоставления займа кажется несколько искусственным. Его последовательное применение потребует обоснования неприменения правил ст. 429 ГК РФ о возможности понуждения к заключению основного договора по суду и ограничения средств защиты потенциального заемщика только упомянутым в ст. 429 ГК РФ иском о взыскании убытков. Иначе говоря, судебной практике просто стоило прямо посмотреть в глаза очевидной проблеме, осознать неадекватность императивной реальности займа и вслед за правом многих других стран признать возможность заключения консенсуальных договоров займа.
1.7. Реальность или консенсуальность договора займа: ситуация после
1 июня 2018 г. С 1 июня 2018 г. законодательное регулирование изменилось. Теперь закон (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ) говорит о том, что заем является реальным договором только тогда, когда займодавцем является гражданин. По общему же правилу, как указывает абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК РФ, заем может быть как реальным, так и консенсуальным
взависимости от того, что стороны выразят в заключенном договоре. Иначе говоря, теперь за исключением случая, когда заем предоставляется гражданином, стороны вольны сконструировать свой договор либо как реальный (и тогда договор будет считаться заключенным лишь с момента предоставления займа), либо как консенсуальный (и тогда договор будет содержать признаваемое судом обязательство займодавца предоставить заем).
Безусловно, это большой прогресс по отношению к архаике императивной реальности займа. Но все же мы имеем компромисс. Новая редакция, открывая зеленый свет консенсуальным займам в целом, достаточно недвусмысленно подтверждает, что применительно к займам, предоставляемым гражданами, устанавливается императивная реальность. Вряд ли в условиях новой редакции какой-либо суд без отмашки со стороны ВС РФ решится толковать абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ
вкачестве правила диспозитивного, устанавливающего реальность
лишь в качестве общего правила. Иначе говоря, цена, которую пришлось заплатить за достижение здравого смысла в отношении общего правила, немаленькая: абсурд императивной реальности займа укоренился в отношении случаев предоставления займов гражданами. Назвать эту ситуацию логичной нельзя.
Ситуацию можно исправить, только если судебная практика решится, несмотря ни на что, истолковать абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ в ка-
109

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
честве диспозитивного правила и закрепит, что упомянутая в этой норме реальность займов, предоставляемых гражданами, является лишь общим правилом. Впрочем, перспективы такого развития судебной практики пока туманны.
(а) Действие новой редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ во времени. Что, если договор займа по консенсуальной модели, имеющий в качестве займодавца юридическое лицо (или индивидуального предпринимателя), был заключен до 1 июня 2018 г.? Возможно ли сейчас признать условие такого договора об обязательстве предоставить заем действительным и придать ему судебную защиту?
Безусловно, общее правило п. 2 ст. 422 ГК РФ означает, что к договорам применяются те правила, которые действовали в момент их заключения. Применение к таким договорам императивных или диспозитивных правил, вступивших в силу после дня заключения договора, по общему правилу исключено1. Такова судебная практика2. Кроме того, в силу прямого указания в п. 3 ст. 9 Закона от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ, который ввел в действие новую редакцию комментируемой нормы, «положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к договорам, заключенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона».
Но что, если более новый законодательный режим признает законным то условие договора, которое действовавшее в момент заключения договора регулирование запрещало? Возможно ли исцеление порока в такой ситуации? Вопрос этот в российской судебной практике пока не разрешен. Но встает он применительно к займу, только если мы придерживаемся позиции, согласно которой прежнее законодательство императивно запрещало индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предоставлять займы по консенсуальной модели (если
1 Подробнее о п. 2 ст. 422 ГК РФ см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 835–841 (авторы комментария к ст. 422 –
А.Г. Карапетов, М.А. Церковников).
2 В п. 83 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, разъясняющем действие во времени новелл обязательственного права, указано, что «положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом № 42-ФЗ редакции, например, диспозитивная статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ)». Этот подход подтверждался и в более ранней практике ВАС РФ (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
110

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
допустить предлагаемую нами выше диспозитивную квалификацию нормы о реальности в прежней редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ, проблема не возникает).
Если допустить, что прежнее законодательство жестко запрещало консенсуальные займы и наличие в договоре данного порочного, незаконного условия влекло бы оспоримость такого условия, решить вопрос было бы легче. Если такой договор был признан судом недействительным в части данного условия еще до отмены соответствующей императивной нормы, то автоматическое воскрешение аннулированного условия невозможно. Но если договор не был к этому моменту признан недействительным и, соответственно, оспоримый договор продолжает действовать в период после отмены императивного предписания, право на оспаривание договора, видимо, должно утрачиваться. Однако сложность состоит в том, что, по нашему убеждению, незаконные условия сделки, несмотря на несколько запутанную ситуацию, порожденную вступившей в силу новой редакцией ст. 168 ГК РФ, должны считаться не оспоримыми, а ничтожными1. Соответственно, если допустить императивную реальность любых займов в рамках прежнего законодательства, порочное условие об обязательстве предоставить заем ничтожно.
Ничтожный же договор (или отдельное его условие) не может автоматически приобрести юридическую силу из-за отмены того запрета, нарушение которого и привело к ничтожности договора. Стороны могли, узнав, например, от юриста о ничтожности обязательства предоставить заем, забыть о самом соглашении. Если впоследствии запрет отпадает, автоматическая конвалидация самого обязательства выдать заем приведет к возникновению правовой связи в ситуации, когда стороны или одна из сторон могут этого не ожидать. Такое развитие событий противоречит принципу правовой определенности. Соответственно, негативный подход к идее конвалидации незаконных сделок
вслучае последующего отпадения запрета представляется разумным
вкачестве общего правила.
Вто же время здесь следует, видимо, сделать как минимум две оговорки.
Во-первых, ничто не мешает сторонам заключить договор, противоречащий действующим императивным нормам, и поставить вступление его (или некоторых противоречащих закону условий) в силу под отла-
1 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 352–394 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
111

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
гательное условие отмены соответствующих императивных норм. Это в полной мере относится и к договорам консенсуального займа, если такие были заключены до 1 июня 2018 г., но предусматривали вступление договора в силу после вступления в силу новой редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ. Более того, если договор займа был заключен до вступления в силу новой редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ, предусматривает обязательство выдать заем после этого числа, не содержит прямого указания на вступление договора в силу при условии снятия запрета на консенсуальность займа, но из контекста очевидно, что стороны заключали договор в ожидании снятия этого запрета, наличие такого условия, видимо, стоит считать подразумеваемым, а само обязательство выдать заем – признавать.
Во-вторых, если условие об обязательстве предоставить заем в момент заключения договора ничтожно, но после 1 июня 2018 г. обе стороны своим волеизъявлением (в том числе конклюдентным) подтвердили действие данного условия, следует считать, что они выразили волю на его правовое существование, а следовательно, дали жизнь договорному правоотношению. Речь может идти, например, о направлении займодавцем письма, в котором он признает свой долг выдать заем. Спорным здесь может оказаться только вопрос о моменте возникновения правовой связи в такой ситуации, отсчете сроков на исполнение и сроков действия договора. Должна ли такая связь считаться возникшей с момента подтверждения действия данного условия, с момента отмены императивных предписаний (т.е. с некоторой ретроспективностью по отношению к моменту подтверждения) или вовсе с момента заключения изначального договора (т.е. с тотальной ретроспективностью)? Пока ясного ответа нет.
В-третьих, в любом случае если заем реально был предоставлен как до 1 июня 2018 г., так и после этой даты, договор займа, как минимум, с момент предоставления займа следует считать заключенным и действительным.
(б) Может ли займодавцем по консенсуальной модели займа быть индивидуальный предприниматель? Вопрос этот связан с некоторой неточностью законодателя. Норма абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ говорит
о том, что реальным является договор займа, в котором займодавцем является гражданин. Из этого следует, что любое юридическое лицо (как коммерческая организация, так и некоммерческая) может обещать выдать заем, и такое обязательство будет иметь судебную защиту (как минимум в форме взыскания убытков или неустойки). Но что насчет индивидуального предпринимателя? Он ведь тоже гражданин.
112

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
Вопрос в практике пока не прояснен, но представляется, что применительно к такой ситуации консенсуальность займа должна быть допущена. В пользу такого вывода имеются очевидные политикоправовые аргументы. Телеологическое толкование закона явно указывает, что законодатель зачем-то хочет уберечь простых граждан от поспешного принятия на себя обязательств выдать заем, т.е. логика нормы здесь очевидная и сугубо патерналистская (пусть и ошибочная, на наш взгляд). Но если закон не против того, чтобы признавать судебную защиту обязательств выдать заем, принятых на себя не только коммерческими, но и некоммерческими организациями, то разве есть смысл лишать силы такие же обязательства, принятые на себя индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ими своей предпринимательской деятельности? Ведь такие предприниматели действуют, как известно, на свой риск? Иначе говоря, имеются основания толковать абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ ограничительно (телеологическая редукция) и выводить займы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, из-под действия данной нормы-исключения. Формальным же аргументом, усиливающим аргументационную убедительность данного вывода, является ссылка на п. 3 ст. 23 ГК РФ, согласно которому «к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения». Предпринимательская деятельность индивидуальных предпринимателей для целей толкования различных норм ГК РФ о договорах и обязательствах, производящих дифференцирование правового регулирования данных вопросов по субъектному статусу, приравнивается к деятельности коммерческих организаций. Думается, этих аргументов вполне достаточно, но не лишним было бы добавить, что в свете общей негативной оценки самой идеи императивной реальности займа любой предоставляемый законом повод ограничить действие этого неудачного правила стоит использовать.
Стоит только специально уточнить, что речь идет только о тех зай-
мах, которые индивидуальные предприниматели предоставляют в связи со своей коммерческой деятельностью (например, индивидуальный предприниматель предоставляет заем своему партнеру для целей финансирования некоего общего дела). Если такой предприниматель ссужает некоторую сумму родственнику без какой-либо связи со своей бизнес-деятельностью (тем более беспроцентно), логика п. 3 ст. 23 ГК РФ исключает сделанный выше вывод. Здесь нам, видимо, de lege
113

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
lata придется смириться с императивной реальностью займа, по крайней мере до тех пор, пока судебная практика не решится допустить консенсуальность в отношении любых договоров займа, истолковав абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ в качестве диспозитивной нормы.
(в) Определение природы договора. Если статус займодавца позво-
ляет заключить как реальный, так и консенсуальный договор займа, природа договора зависит от толкования содержания договора. Когда договор устанавливает обязанность займодавца в будущем предоставить заем, договор следует считать консенсуальным. Если же договор говорит о том, что договор вступает в силу с момента предоставления, договор следует считать реальным.
Вопрос возникает в ситуации, когда договор, не сопровождаясь одновременным фактическим предоставлением займа как такового, отсрочивает передачу займа, но не упоминает ни обязанность займодавца его предоставить, ни реальный характер договора. Иначе говоря, не совсем понятно, какая модель действует по умолчанию в ситуациях, когда заем предоставляет не физическое лицо (и, следовательно, закон допускает как консенсуальность, так и реальность), но в договоре четко не отражена выбранная сторонами модель. Подобная ситуация может иногда сложиться из-за некачественной проработки текста договора или при устном заключении договора с указанием на предоставление займа в будущем. Думается, в такой ситуации консенсуальность должна подразумеваться, а реальность выводиться только в тех случаях, когда она прямо вытекает из содержания волеизъявлений сторон. Все-таки консенсуальный договор – это общее правило российского договорного права (п. 1 ст. 433 ГК РФ), а реальность – исключение. Соответственно, если договор говорит о предоставлении займа, но четко не проясняет выбранную сторонами модель, у займодавца имеется обязательство предоставить заем.
(г) Некоторые технические проблемы реального договора займа. Как уже отмечалось выше, сама модель реального договора как таковая порождает множество практических проблем. В настоящих условиях эти проблемы актуальны в контексте любого договора займа, который стороны решили сконструировать как договор реальный, а также для
договоров займа, по которым займодавцем является гражданин (так как в отношении такого вида займа реальность, как может показаться при буквальном прочтении п. 1 ст. 807 ГК РФ, навязывается обороту императивно).
О каких проблемах идет речь?
Во-первых, возникает проблема в ситуации, когда соответствующая сторона передает не все согласованное в договоре имущество, а лишь
114

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
его часть. Следует ли в такой ситуации считать договор заключенным
вотношении той части, которая фактически передана? Может ли получатель вернуть полученное имущество, не смиряясь с необходимостью обслуживать заем на согласованных условиях при меньшей сумме займа, чем изначально было согласовано сторонами? Эта проблема может возникнуть в ситуации, когда получатель не может уклониться от получения имущества (например, сумма займа частично переведена на его счет). Ситуация осложнялась до 1 июня 2018 г. тем, что в рамках действовавшей ранее редакции п. 3 ст. 812 ГК РФ было указано следующее: «Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей». Если бы речь шла о консенсуальном договоре, налицо было бы нарушение обязательства выдать заем, соответственно, заемщик мог бы вполне отказаться от договора и вернуть полученные средства, а также взыскать убытки (см. подп. «ж» п. 1.7 комментария к настоящей статье). В контексте реального договора займа также не вызывает сомнений, что заемщик должен иметь право немедленно вернуть полученное в меньшем размере, чем было предварительно согласовано, имущество, но для обоснования данного вывода опять же придется применять аналогию закона.
Во-вторых, обязана ли сторона, которой предмет займа передается, принимать такое имущество? Если договора нет до передачи имущества, логично предположить, что на соответствующей стороне нет кредиторской обязанности по приемке. Это, в свою очередь, может создать определенные риски для передающей имущество стороны: она может после подписания договора займа потратиться на подготовку предоставления или транспортировку движимого имущества или инкассацию денег и в последний момент столкнуться с отказом другой стороны от приемки. При этом, так как положения ст. 406 ГК РФ о просрочке кредитора в данном случае как минимум формально неприменимы (ведь до передачи имущества договора вовсе нет, а значит, нет и кредиторских обязанностей по приемке), возникают сложности с нормативным обоснованием иска о взыскании убытков, возникших
всвязи с уклонением от приемки. Здесь опять же теоретически возможно применение правил о преддоговорной ответственности за недобросовестное ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ) в целях покрытия понесенных расходов (возможность применения преддоговорной ответственности к реальным договорам признана в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но сама необходимость приноравливать нормы ГК РФ об ответственности за недобросовестное
115
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
ведение переговоров к ситуации формально правомерного уклонения стороны от приемки имущества является сигналом неудачности самой модели реального договора.
При этом естественно, если сторонами подписан реальный договор займа, но до передачи имущества (т.е. до вступления договора в силу) заемщик заявляет займодавцу о том, что он передумал и у него отпала нужда в займе, у займодавца нет основания для осуществления передачи. Все его затраты на транспортировку, инкассацию и т.п., понесенные как минимум после такого заявления, относятся на его счет. Кроме того, займодавец, который технически может передать имущество заемщику без содействия с его стороны (например, перечислить на расчетный счет заемщика денежные средства), не вправе это делать после того, как он получил заявление заемщика о нежелании принимать заем. Такое заявление заемщика трудно расценивать как отказ от договора, ибо формально договор на этом этапе еще не заключен. Но очевидно, что если займодавец по реальному договору не связан обязанностью передать заем и имеет право передумать, то и заемщик должен иметь симметричное право. Реализация последнего и осуществляется в форме указанного заявления, отменяющего правовой эффект сложившегося неполного фактического состава сделки (факт достижения соглашения о предоставлении в будущем займа) и препятствующего накоплению полного фактического состава. Таким образом, перечисление суммы займа в такой ситуации не будет иметь природы заемного предоставления и порождать у заемщика договорный долг по возврату займа в обусловленные сроки и уплате согласованных процентов; вместо этого речь будет идти о неосновательном обогащении, к которому будут применяться правила гл. 60 ГК РФ: получатель платежа вправе его немедленно вернуть, что ему и следует в такой ситуации сделать. В то же время возможны, видимо, и такие случаи, когда в описанных обстоятельствах получатель платежа деньги добровольно возвращать откажется. Вероятнее всего, здесь уместно было бы лишить такого получателя, не вернувшего полученный платеж в течение разумного срока, права апеллировать к отсутствию договора посредством принципа эстоппель или иным подобным образом: можно исходить из того,
что, не возвращая деньги, получатель своим поведением дезавуирует ранее сделанное заявление о нежелании заключать договор займа.
В-третьих, в рамках реального договора возникает проблема с определением срока, в течение которого передающая имущество сторона может осуществить передачу. Если содержание волеизъявления сторон этот вопрос не регулирует, должна ли ситуация подвешенности, когда договор уже формально подписан или устное соглашение достигнуто,
116
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
но имущество не передано, а договор формально не заключен, длиться вечно? Если бы речь шла об обязательстве имущество передать, при непередаче имущества в течение какого-то длительного срока другая сторона могла бы отказаться от договора в связи с нарушением (например, по правилам п. 2 ст. 405 ГК РФ). В рамках же реального договора приходится мириться с очевидным пробелом в законе и восполнять его тем или иным образом. Ситуация становится болезненной тогда, когда передача имущества не предполагает приемку (например, безналичный перевод займа). Может ли заемщик вернуть полученный платеж, если он получил его по прошествии разумного срока (например, через год) после оформления письменного договора займа, если в договоре конкретный срок предоставления займа не обозначен? Ответ должен быть положительным, но выводить его придется из общего принципа добросовестности. При этом если согласованный в договоре (или при отсутствии уговора на сей счет – разумный) срок истек, а после этого займодавец предлагает заемщику принять заем и тот его принимает, договор следует считать заключенным. Если в такой ситуации займодавец после истечения означенного срока осуществляет предоставление без взаимодействия с заемщиком (например, перечисляя деньги на известный займодавцу банковский счет заемщика), последний может немедленно вернуть полученное имущество, и тогда заемное обязательство не возникает. Если заемщик без промедления полученное не возвращает, видимо, логично исходить из того, что он соглашается на возникновение заемного правоотношения, несмотря на запоздалое предоставление займа.
В-четвертых, в рамках реального договора возникают догматические трудности в обосновании ответственности передающей стороны за качество переданного имущества. Статья 393 ГК РФ говорит об ответственности за неисполнение обязательства; соответственно, для обоснования ответственности за качество в случае отсутствия специальных норм необходимо изобретать не отраженную в ГК РФ в общем виде концепцию гарантий, сопровождающих договорное предоставление за рамками обязательства, и идею ответственности за несоблюдение таких гарантий с применением к такой ответственности норм
ГК РФ об ответственности за нарушение обязательства по аналогии закона. Правила ГК РФ о займе ничего об ответственности займодавца за качество передаваемых родовых вещей не говорят, а применение для обоснования ответственности в связи с дефектами общих норм об ответственности за неисполнение обязательства (ст. 393 ГК РФ), равно как и правил о нарушении обязательства передать качественный товар по договору купли-продажи (ст. 475 ГК РФ), применимых
117
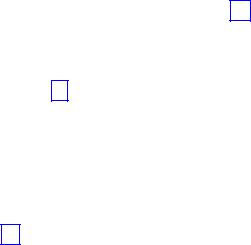
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
к заемным правоотношениям в силу положений ст. 822 ГК РФ о товарном кредите, формально затруднено, так как реальный договор займа не является товарным кредитом и передача некачественного товара не является нарушением какого-либо обязательства. Для обоснования ответственности потребуется применение ст. 393 и 475 ГК РФ по аналогии закона (см. п. 1.9 комментария к настоящей статье).
(д) Ответственность займодавца в случае непредоставления займа.
Если мы имеем дело с консенсуальным займом, займодавец будет считаться нарушителем договора, если не предоставит заем без правовых оснований. Заемщик будет вправе в ответ потребовать возмещения убытков в связи с просрочкой, взыскания согласованной неустойки, а также может отказаться от договора и взыскать убытки вместо реального исполнения по правилам ст. 393.1 ГК РФ. Подробнее о последствиях неправомерного отказа займодавца от предоставления займа см. п. 3.1 комментария к настоящей статье. Сформулированные там выводы применимы с необходимыми адаптациями и к ситуации, когда займодавец прямой отказ от предоставления займа не заявляет, но просто молча уклоняется от предоставления займа.
(е) Срок и условия исполнения обязательства по предоставлению займа. Если заключен консенсуальный договор займа в ситуации, когда субъектный статус займодавца это допускает, обязательство займодавца должно быть исполнено в согласованный в договоре срок. Нарушение такой обязанности будет влечь договорную ответственность.
Если же договор не содержит указания на срок исполнения данного обязательства, подлежит применению диспозитивная норма п. 2 ст. 314 ГК РФ. Применение к этой ситуации положений п. 2 ст. 314 ГК РФ приводит к выводу о том, что при отсутствии в договоре срока предоставления займа такое обязательство должно быть исполнено в течение семи дней с момента предъявления заемщиком требования о выдаче займа, т.е., по сути, исполнение обязательства займодавца поставлено до востребования со стороны заемщика. Такое решение законодателя, отраженное в п. 2 ст. 314 ГК РФ в редакции, вступившей в силу 1 июня 2015 г., не представляется разумным, как минимум в отношении тех случаев, когда обязательство может быть исполнено без соучастия
со стороны кредитора (например, в форме безналичного перевода). В подобной ситуации куда разумнее бы выглядело правило о том, что исполнение должно быть учинено в течение разумного срока. Теоретически его можно вывести и в рамках действующего законодательства за счет ограничительного толкования п. 2 ст. 314 ГК РФ о востребовании как механизме созревания обязательства, в отношении которого не установлен срок исполнения, с целью выведения из-под него
118
