
Учебный год 2023 / МЛОГОС КНИГА 4 (807-860.15 ГК) 2019 Заем, кредит, факторинг, вклад и счет
.pdf!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
доставление обычного займа с безусловным обязательством по возврату финансирования, но это компенсируется более высокой процентной ставкой. Приобретатель такой ноты получает существенно более высокий процент по сравнению с обычными вкладами, но взамен он принимает на себя риск дефолта конечного заемщика.
Российские суды уже сталкивались со спорами, в которых фигурировали зарубежные кредитные ноты (определения КГД ВС РФ от 27 июня 2017 г. № 18-КГ17-70, от 4 июля 2017 г. № 18-КГ17-79, от 18 июля 2017 г. № 18-КГ17-77 и т.п.).
В 2018 г. в Законе о рынке ценных бумаг появилось регулирование структурных облигаций, которые, по задумке разработчиков, должны, видимо, в том числе выполнять функции тех самых кредитных нот и позволить перевести подобные сделки в российское правовое поле (ст. 28.1-1). По таким облигациям, которые теперь получают право выпускать и российские эмитенты, возврат долга может быть обусловлен теми или иными обстоятельствами (в том числе изменением тех или иных котировок цен, курса или неисполнением третьим лицом своих обязательств перед эмитентом), и при определенных условиях долг эмитента просто списывается. По общему правилу такие облигации предназначены лишь квалифицированным инвесторам, что представляется логичным. Общее же определение облигации в ст. 2 Закона
орынке ценных бумаг этими же поправками было скорректировано, чтобы конструкция такой бумаги охватила и такие случаи, когда по условиям выпуска долг по бумаге может быть при наступлении тех или иных отменительных условий списан.
При этом, как мы видим, основанием для списания долга по погашению долга по облигации согласно указанной ст. 28.1-1 Закона
орынке ценных бумаг может быть не только дефолт по долгу некоего третьего лица перед эмитентом, но и иные обстоятельства, традиционно являющиеся условием тех или иных деривативов. Судя по всему, законодатель допускает, что облигация, опосредующая заемное предоставление и возникновение долга по возврату долга, может допускать выплаты повышенного процента, но с условием о том, что при определенных изменениях курсов, ставок, котировок и т.п. долг эми-
тента полностью списывается. Сейчас такие ноты в большом объеме выпускают иностранные эмитенты и их охотно покупают российские участники финансовых рынков.
Как представляется, серьезных конституционных или иных по- литико-правовых оснований блокировать такие проявления свободы договора здесь, конечно же, нет. Ставить исполнение обязательства под условие прямо разрешает ГК РФ в ст. 327.1. Наступление оговоренно-
99

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
го обстоятельства (отменительного условия) приводит к погашению заемного долга; но если такое обстоятельство не наступило, а срок возврата займа наступил, займодавец может истребовать исполнение по заемному обязательству. Если можно подарить имущество, то тем более можно им распорядиться и несколько более сложным способом, передав имущество в собственность по договору займа (т.е. на возвратной основе), но поставив под условие эффект трансформации договорного правоотношения в формат безвозвратного отчуждения. Если вся специфика сделки транспарентно раскрыта, нет пороков воли и каких-то иных законодательных препятствий к ней, казалось бы, не должно быть претензий. Могут возникать вопросы по поводу приемлемости массовой «продажи» подобных высокорисковых финансовых продуктов среди широких масс. Законодатель, как мы видим, устанавливает ограничение, требуя, чтобы финансирующая сторона, приобретающая структурные облигации, имела статус квалифицированного инвестора. Вопрос о том, достаточно ли этого, чтобы предотвратить ряд проблем, связанных с ограниченной рациональностью обывателей, готовых гнаться за высокими процентами, но постоянно забывающими об истории с бесплатным сыром, заслуживает специального политико-правового разговора.
Но какова природа такого договора, по которому предоставляется в долг некая сумма, другая сторона обязуется долг через некоторое время вернуть (возможно, до этого выплачивая повышенный процент), но с условием, что при наступлении определенных обстоятельств долг по возврату списывается?
Как минимум в тех ситуациях, когда встроенное в сделку отменительное условие направлено на трансформацию займа в безвозвратное предоставление, такой договор до трансформации разумно считать займом и применять к нему, если иное не противоречит существу отношений, правила о займе до момента наступления условия, трансформирующего договор в безвозвратное имущественное предоставление. Так, в вышеописанном примере с передачей миллиона рублей на лечение родственника займодавец может в соответствии со ст. 814 ГК РФ потребовать досрочного погашения долга, если будет выявле-
но нецелевое использование полученных средств. Единственное, что здесь следует помнить, что в силу ст. 575 ГК РФ дарение между коммерческими организациями запрещено. Соответственно, в подобных обстоятельствах включение в договор займа подобного отменительного условия может быть заблокировано, если в постановке под условие эффекта списания долга наблюдается animus donandi (воля облагодетельствовать заемщика).
100
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
Самый сложный вопрос возникает тогда, когда речь идет о таких сложных финансовых продуктах, как кредитная нота, посредством которой одна сторона передает другой стороне некий риск дефолта третьего лица за счет получения денег и автоматического списания долга по их возврату в случае дефолта, а взамен уплачивает лицу, принимающему такой риск, повышенный процент. Та же проблема возникает и в сделках, где подобная нота опосредует предоставление профессиональной финансовой компании в долг некой суммы, начисление по долгу высоких процентов, но автоматическое списание долга при падении тех или иных котировок акций. Естественно, здесь ни о каком animus donandi говорить нельзя, воли одарить здесь не усматривается, и речь идет о перераспределении рисков. Например, когда в силу наступления согласованного сторонами кредитной ноты отменительного условия долг списывается в связи со списанием базового заемного долга третьего лица перед эмитентом кредитной ноты по причине банкротства третьего лица, либо долг заемщика списывается в связи с ухудшением состояния показателей достаточности капитала заемщика при субординированном займе, не происходит трансформация отношений в дарение. Соответственно, ст. 575 ГК РФ здесь препятствием к такой трансформации правоотношений сторон не является. Но точно ли такая сделка будет являться займом с момента ее заключения? Не логичнее ли считать ее алеаторной сделкой, являющейся деривативом по смыслу Закона о рынке ценных бумаг и п. 2 ст. 1064 ГК РФ, суть которого – перенести финансовый риск с одного лица на другой взамен на фиксированные выплаты, т.е. производным финансовым инструментом, а не заемной сделкой? Как мы видим, российский законодатель решил сконструировать российский аналог кредитной ноты и иных подобных нот, погашение долга по которым обусловлено изменением тех или иных котировок или наступлением иных случайных обстоятельств, в качестве структурной облигации, т.е. пытается втиснуть его в рамки заемной конструкции. Насколько этот путь верен, вопрос непростой и требует дополнительного изучения.
Но, говоря о встраивании условности в структуру заемной сделки, невозможно не упомянуть и иной вариант такого структурирования.
Стороны могут установить в договоре не отменительное условие, обусловливающее списание заемного долга, а отлагательное условие, обусловливающее исполнение обязательства вернуть заем. В таком договоре займа отсутствует срок погашения (ибо срок и условия – феномены различной природы), что порождает проблему вечной подвешенности отношений сторон и правовой неопределенности; мириться с таким нездоровым состоянием правоотношений вряд ли возможно.
101
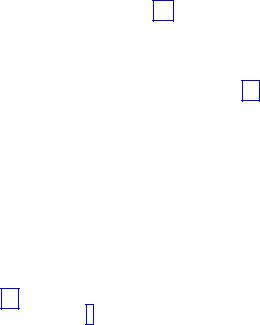
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
Эту проблему можно решать по-разному. С одной стороны, здесь по букве закона должны применяться правила ст. 810 ГК РФ о бессрочном займе, допускающие право займодавца произвольно востребовать возврат займа (это снимает проблему вечной подвешенности). Но возможно и более гибкое решение с выведением подразумеваемого разумного срока ожидания наступления условия, по прошествии которого должна наступать правовая определенность. Подробнее см. п. 1.3 комментария к ст. 810 ГК РФ.
(з) Бессрочные займы без права займодавца востребовать возврат займа. Особая проблема возникает в отношении квалификации в качестве займа договорной конструкции, по которой одно лицо передает другой стороне определенную денежную сумму в обмен на обязательство последней регулярно платить некий процент от указанной суммы без ограничений по сроку, если такой договор блокирует право предоставившего финансирование лица потребовать возврата тела долга. Такие конструкции встречаются на рынке облигаций (так называемые бессрочные или вечные облигации) и в контексте облигаций урегулированы в законе (ст. 25.1 Закона о банках и банковской деятельности, ст. 27.5-7 Закона о рынке ценных бумаг) (подробнее на тему квалификации таких сделок см. п. 1.2 комментария к ст. 810 ГК РФ; о вечных облигациях см. также комментарий к п. 4 ст. 807 ГК РФ).
1.5. Квалифицирующие признаки кредита как разновидности займа.
Банковский кредит является разновидностью займа и отличается тем, что он а) может иметь своим предметом только деньги, б) является исключительно консенсуальным, в) в качестве займодавца выступает банк или иная кредитная организация и г) всегда носит процентный характер. Ни один из этих признаков не противоречит природе займа. А ни одна норма, закрепленная в ГК РФ в отношении банковского кредита, не предопределяется спецификой кредита. Все эти нормы вполне применимы и к консенсуальному денежному займу, предоставляемому коммерсантом под процент, или дублируются в общих нормах о займе. Соответственно, в настоящих условиях, когда консенсуальный заем легализован, нет никаких оснований для существования в гл. 42 ГК РФ параграфа о кредитном договоре. Договор
кредита – это просто консенсуальный процентный денежный заем, предоставляемый особым субъектом – коммерческим банком или иной кредитной организацией.
Это подтверждает и то, что те несколько норм о кредитах, которые устанавливают положения, отсутствующие в общих правилах о займе (например, о взимании непроцентных платежей или возможности установления в договоре кредита, заемщиком по которому не является
102

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
потребитель, ковенантов), вполне применимы и к процентным займам (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 819 ГК РФ).
Спецификой обладает не кредит как договорная конструкция, а сама банковская деятельность как деятельность финансового посредника, перекачивающего свободные средства из рук тех, у кого они в избытке (привлекая их в форме вкладов, остатков на расчетных, лицевых и иных счетах, межбанковских кредитов и т.п.), в руки тех, кто в них нуждается (в форме тех самых консенсуальных процентных денежных займов, называемых кредитом). Эта деятельность настолько важна для функционирования рыночной экономики и сопряжена с настолько серьезными рисками как для тех, чьи деньги привлекаются банками, так и для стабильности всей финансовой системы, что она предопределяет очень жесткое публично-правовое регулирование деятельности банков (иных кредитных организаций) и в теории жесткий пруденциальный надзор за ними со стороны ЦБ РФ (к сожалению, на практике далеко не всегда эффективно исключающего злоупотребления со стороны собственников и менеджмента банков).
Тут можно привести такую аналогию. Поставка медикаментов не теряет гражданско-правовую природу договора поставки и не предопределяет выделение поставки такого вида товаров в отдельный договорный тип, хотя, безусловно, сама деятельность фармацевтических предприятий может достаточно специфично регулироваться в рамках публичного права.
Так что во имя систематической стройности в будущем при следующей волне рекодификации следует отказаться от отдельного регулирования договоров кредита.
Впрочем, все вышесказанное не отменяет того, что законодатель может устанавливать специфические правила гражданско-правового характера в отношении кредитных договоров, т.е. денежных процентных займов, предоставляемых банками и иными кредитными организациями. Так, например, в силу ст. 90 Основ законодательства РФ
онотариате банки вправе взыскивать задолженность по кредитным договорам на основании исполнительной надписи нотариуса.
1.6.Реальность или консенсуальность договора займа: ситуация до 1 июня 2018 г. До 1 июня 2018 г. комментируемый пункт говорил
отом, что договор займа считается заключенным с момента его предоставления. Данное положение, как правило, толковалось в доктрине и судебной практике как указание на императивную реальность договора займа. Иначе говоря, реальность рассматривалась не как квалифицирующий признак займа (иначе консенсуальный заем следовало бы рассматривать в качестве законного непоименованного договора),
103

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
а как императивный элемент правового режима займа: договор, соответствующий описанным в абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК РФ квалифицирующим признакам, является договором займа, а договор займа якобы не может предполагать имеющее судебную защиту обязательство займодавца предоставить заем. Соответственно, при таком подходе договор займа, в котором указано на обязанность займодавца предоставить заем
вбудущем, в части данного условия признавался незаконным и недействительным (ст. 180 ГК РФ), а сам договор до момента выдачи займа – незаключенным по п. 2 ст. 433 ГК РФ: если заем был фактически предоставлен, проблем не возникало, но если нет, заемщик не мог рассчитывать ни на удовлетворение судом иска о присуждении к предоставлению займа, ни на взыскание убытков или неустойки.
Реальность договора займа имеет исторические корни, уходящие
вспецифику эволюции и систематику договоров в рамках римского частного права. Так исторически сложилось, что классическое римское право признавало только несколько возможных договорных типов
вкачестве консенсуальных договоров (numerus clausus консенсуальных договорных типов), договор займа к таковым не относился. При этом при подкреплении соглашения о займе фактической передачей имущества римские юристы считали возможным говорить о возникновении обязательства заемщика вернуть заем в согласованный срок или при востребовании. Но после признания в Средние века идеи о том, что стороны могут облечь в рамки консенсуального договора (порождающего взаимные обязательства в силу одного лишь факта достижения соглашения) любой, даже непоименованный и неизвестный позитивному праву договор (при наличии законной его цели и непротиворечии добрым нравам и прямым запретам закона), сама идея строго реального характера договора займа теряет логическую основу. Поэтому неудивительно, что современные зарубежные правопорядки, как правило, отходят от этой римской ортодоксии и допускают консенсуальные займы (Германия, Швейцария и др.). Рассматривает заем как консенсуальный договор и английское право. Наконец, консенсуальная модель закреплена и в ст. IV.F.–1:101 Модельных правил европейского частного права.
Сточки зрения политики права и элементарного здравого смысла абсолютно непонятно, почему предприниматели или иные дееспособные участники оборота не могут установить признаваемое судом обязательство займодавца предоставить заем. Любые ограничения конституционного принципа свободы договора должны быть очень весомо аргументированы; ограничения должны быть обусловлены необходимостью защиты каких-либо серьезных ценностей и интересов
104

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
(публичных интересов, интересов третьих лиц или слабой стороны договора и т.п.). В данном случае с займом наличие таких резонов не может быть доказано.
Против императивной реальности договора займа имеются и очевидные аргументы из области системной согласованности позитивного права. ГК РФ допускает заключение договора купли-продажи, в котором одна из сторон обязана осуществить свое исполнение первой по очереди (например, уплачивать предоплату), т.е., по сути, осуществить коммерческое кредитование (ст. 454 ГК РФ). ГК РФ допускает даже заключение консенсуального договора дарения, по которому даритель обязуется в будущем предоставить дар (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Является законным и консенсуальный договор ссуды, по которому ссудодатель обязуется предоставить свое имущество в безвозмездное пользование (п. 1 ст. 689 ГК РФ), не говоря уже о ситуации с арендой (ст. 606 ГК РФ). Что же такого особенного в договоре займа? Почему коммерсант или обычный обыватель могут пообещать передать имущество в дар и будут нести ответственность за нарушение этой обязанности в форме возмещения убытков, но они же не могут обещать передать свое имущество в заем? Никакой логики в таком различном регулировании идентичных ситуаций нет.
Как правило, сторонники императивной реальности договора займа приводили аргумент о том, что право должно признавать за займодавцем возможность свободно передумать, а реальность договора реализует эту идею, исключая возможность принуждения к предоставлению займа. Насчет права передумать есть очень серьезные сомнения. Почему такое право императивно имеет займодавец, но не имеет даритель, ссудодатель, арендодатель или покупатель, уплачивающий аванс? Тезис же о том, что реальность является способом заблокировать иск о понуждении к предоставлению займа, более интересен. На самом деле есть, действительно, определенные основания для обсуждения уместности такого иска, равно как и иска о понуждении покупателя
квнесению предоплаты, ссудодателя – к передаче предмета ссуды, а дарителя – к передаче обещанного дара. Здесь не место погружаться в данный вопрос (подробнее о нем см. подп. «н» п. 3.1 комментария
кнастоящей статье). Но если и принять данный аргумент, то средство его реализации выбрано негодное, непропорциональное. Если право считает неуместным допускать понуждение к предоставлению займа, оно должно просто предоставить займодавцу императивно право на произвольный отказ от договора, но оговорить обязанность займодавца возместить заемщику все убытки (в случае с безвозмездным договором займа можно было бы ограничить их реальным ущербом).
105

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
Похожая модель успешно работает, например, применительно к договору подряда (ст. 717 ГК РФ).
Судебная защита прав заемщика на получение займа не сводится
кпонуждению к его предоставлению, но предполагает и взыскание убытков. Если и есть основания отсекать иски о понуждении к предоставлению займа, этого ни в коей мере нельзя сказать об иске о взыскании убытков. Заемщик, положившись на обещание займодавца предоставить заем, может сильно пострадать в случае, если займодавец произвольно, при отсутствии оснований, указанных в абз. 1 п. 3 ст. 807 или ст. 821 ГК РФ (т.е. если не возникают обстоятельства, очевидно ставящие под сомнение платежеспособность заемщика), откажется предоставлять заем. Например, заемщик, рассчитывая на обещанное заемное финансирование, мог заявиться на тендер и уплатить задаток, выиграть тендер, но, не получив финансирование, просто утратить возможность заключить договор и потерять задаток или, что еще хуже, заключить договор, а потом из-за неполучения денег от займодавца его нарушить и быть вынужден заплатить контрагенту неустойку или убытки.
Кроме того, исключение возможности требовать возмещения убытков при непередаче имущества создает риски того, что расходы, понесенные в целях подготовки к принятию исполнения другой стороной, возмещены не будут. Если вдруг вопреки своим обещаниям займодавец не передаст заемщику обещанное имущество и договор не вступит в силу, такие расходы компенсироваться по общим правилам договорной ответственности не могут. Конечно, в данном контексте в ряде случаев возможно применение норм ст. 434.1 ГК РФ о преддоговорной ответственности за недобросовестное ведение переговоров (такая возможность прямо признана в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но было бы куда проще, если бы договор считался заключенным с момента достижения согласия сторон. В этом случае были бы возможны договорные иски о возмещении убытков в связи с непередачей имущества.
Более того, парадоксальность ситуации состоит в том, что российская судебная практика давно исключает возможность понуждения
кпередаче суммы банковского кредита, несмотря на то что такой договор однозначно является консенсуальным. Права заемщика ограничиваются взысканием убытков (неустойки). Иначе говоря, консенсуальность договора может вполне сочетаться с отсечением права одной из сторон требовать по суду осуществления «открывающего исполнения» (в данном случае – предоставления кредита). Эта позиция закреплена в п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ
106
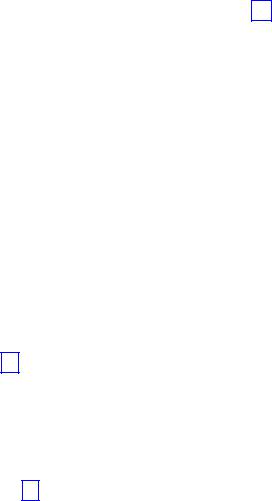
!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
от 29 декабря 2001 г. № 65 и п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. По сути, суды не говорят
отом, что у банка есть право на произвольный отказ от договора, обусловленное необходимостью возместить убытки, но результат получается схожий: заемщик может лишь требовать возмещения убытков. Адекватность отсечения права на понуждение к предоставлению кредита – вопрос дискуссионный (см. подп. «н» п. 3.1 комментария к настоящей статье). Но если иметь цель заблокировать такие иски в отношении займа, надо просто применять аналогичный подход, выработанный применительно к кредиту. Императивная же квалификация договора займа в качестве реального – реакция в любом случае непропорциональная.
По сути, все, к чему приводит императивная реальность договора займа, состоит в снижении надежности такого способа привлечения финансирования и формировании искусственных преимуществ для конструкции банковского кредитования. Вряд ли в такой дискриминации есть логика. Иначе говоря, если мы хотим отсечь возможность понуждения к предоставлению займа, это можно сделать без фиксации императивной реальности договора займа.
Остается лишь один последний аргумент в пользу императивной реальности договора займа: мол, если допустить консенсуальный заем, это разрушает стройность разграничения конструкций займа и кредита, ведь реальность займа в прежней редакции ГК РФ оказывалась чуть ли не единственным отличием правового регулирования займа от правового режима кредитного договора. Этот аргумент крайне слаб, ибо стройность каких-то таксономических построений и квалификаций договорных типов не может быть поводом для ограничения конституционного принципа свободы договора. Более того, как было показано в п. 1.5 комментария к настоящей статье, сама идея отделить банковский кредит и обычный заем с точки зрения их гражданско-правового режима не является обоснованной и имеет мало аналогов в зарубежном праве. Кредит – это обычный консенсуальный процентный денежный заем, предоставляемый коммерческим банком или иной кредитной организацией.
Наконец, следует отметить, что сама модель реального договора как таковая порождает множество практических проблем, разбор которых см. в п. 1.7 комментария к настоящей статье. В большинстве своем эти проблемы, конечно же, не являются неразрешимыми, и при определенном творческом подходе (применении аналогии закона, правил
опреддоговорной ответственности или принципа добросовестности) их можно разрешать, затрачивая определенные аналитические усилия.
107

!"#"$% 807 |
&.'. (#)#*+",- |
|
|
Но число таких проблем однозначно указывает на ошибочность самой идеи императивного навязывания займу неудобных оков модели реального договора.
В итоге есть все основания исходить из того, что для императивной реальности договора займа (впрочем, как и практически любого иного договора) нет серьезных оснований. В этих условиях норму п. 1 ст. 807 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 июня 2018 г., следовало признавать неудачной. Более того, на наш взгляд, имелись все основания толковать указанную норму не как императивную, а как диспозитивную. Иначе говоря, реальность займа при таком подходе рассматривалась бы, как правило, по умолчанию, от которого стороны были бы вольны отступить, прямо предусмотрев консенсуальный вариант займа. Такая интерпретация была до 2014 г. заблокирована de facto в силу того, что ранее все нормы ГК РФ о договорах и обязательствах, не содержащие прямого указания на право сторон согласовать иное, рассматривались как однозначно императивные. Но после 14 марта 2014 г., когда было опубликовано Постановление Пленума ВАС РФ № 16, как минимум арбитражные суды получили определенную свободу в толковании норм ГК РФ, определяющих права и обязанности сторон договора, и возможность на основе телеологического толкования приходить к выводу о диспозитивности подобных норм даже при отсутствии в них пресловутой оговорки о праве сторон согласовать иное (п. 2–4 данного Постановления). В то же время нельзя сказать, что за прошедшие несколько лет с момента принятия данного Постановления и до 1 июня 2018 г. диспозитивная квалификация данной нормы о реальности займа возобладала в практике. Слишком сильна была догматическая инерция воспринимать заем как строго реальный договор. В то же время нет никаких препятствий закрепить диспозитивную квалификацию этой нормы сейчас (как минимум в тех случаях, когда займодавцем является коммерсант), что может быть уместно в отношении договоров, заключенных до 1 июня 2018 г.
Иногда стороны на практике пытались обойти императивное прочтение указанной нормы за счет заключения предварительного договора займа. Таким образом они хотели обосновать возникновение
у заемщика права требовать от займодавца заключения основного договора займа, а в случае уклонения займодавца от заключения такого договора – право требовать возмещения убытков по правилам ст. 429 ГК РФ (естественно, на принуждение к заключению договора займа в форме передачи самого имущества в такой ситуации рассчитывать невозможно). Такой путь обхода догмы о реальности договора был изобретен достаточно давно (например, такая конструкция предусма-
108
