
- •Электронное оглавление
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •О СТРУКТУРЕ ПЕРВОГО ТОМА (Указания для читателей)
- •ВВЕДЕНИЕ. МЕЖДУ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИЕЙ КУЛЬТУРЫ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ
- •Энциклопедия теоретической культурологи как исследовательский проект
- •На перепутье
- •Философия культуры или постмодернистская культурология: оппозиция или альянс?
- •Научная объективность: угроза гуманизму или опора?
- •Кризис проекта «человека модерна»
- •Индивидуализм или коллективизм
- •Предмет теоретической культурологии
- •Культура как предмет
- •КОНЦЕПТЫ
- •ТЕМА I. B ГОРИЗОНТЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ИДЕИ КУЛЬТУРЫ
- •1. ГРАНИЦЫ КУЛЬТУРЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР (редактор — Румянцев O.K.)
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ПОЗИЦИЯ 1.1. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ — Черняк Л. С.
- •ОТКРЫТОСТЬ
- •1. Открытость человеческого бытия.
- •МЕСТО ЧЕЛОВЕКА (В КРУГЕ СУЩЕГО)
- •2. Космос как культура.
- •Библиография
- •ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КУЛЬТУРЫ
- •3. Внеэкологичность отношения Завета (бездомный человек и его Бог)
- •4. Полагание горизонта истории — второе снятие экологичности культуры
- •Библиография
- •ГРАНИЦЫ РАЗУМА
- •5. Третье снятие экологичности культуры
- •Библиография
- •ДИАЛОГИКА КУЛЬТУРЫ
- •1. Предварительные отграничения
- •2. Исходные определения
- •2.1. Культура как феномен
- •2.2. Троякое определение культуры
- •Библиография
- •ИСТОРИО-ЛОГИКА КУЛЬТУРЫ
- •3.1. Два образа исторической связи: наука и искусство
- •3.2. Драматический историзм культуры
- •3.3. Большое время культуры
- •Библиография
- •МОРФО-ЛОГИКА КУЛЬТУРЫ
- •4. Морфо-логика диалогической философии культуры
- •4.1. Двуполюсность культуры
- •4.2. Морфологический очерк трех европейских культур
- •а) Античность.
- •б) Средние века.
- •в) Новое время.
- •Библиография
- •ПРОИЗВЕДЕНИЕ
- •4.3. Культура как произведение произведений
- •Библиография
- •ДИАЛОГ КУЛЬТУР
- •5. Диалог культур и культурные интенции ХХ века
- •5.1. Кризис ХХ века и бытие в культуре ( 1 ).
- •5.2. Диалог культур — феномен современной культуры.
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 1.3. МАНЕРЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК ПРОЕКТЫ ВРЕМЕНИ КУЛЬТУРЫ — Румянцев O.K.
- •МАНЕРА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
- •Библиография
- •ДРУГОЙ/ЧУЖОЙ
- •Библиография
- •ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 1.4. ЗАМКНУТОСТЬ МИРОВ КУЛЬТУРЫ — Токмачев К. Ю. - Концепты: множественность ментальных миров, необратимые события
- •МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МЕНТАЛЬНЫХ МИРОВ
- •1. Трансцендентальный субъект: матрица жизненного мира.
- •2. Тождество мышления и бытия
- •3. Необратимые события
- •4. Жизненный мир: произвольный вымысел.
- •5. Инвариант культуры
- •Библиография
- •НЕОБРАТИМЫЕ СОБЫТИЯ
- •1. Феноменологическое описание
- •2. Порядок и хаос
- •3. Онтология предрассудка
- •4. Человек-программа
- •5. Культура и время
- •Библиография
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ПРОЕКТ
- •1. Понятие проекта
- •Библиография
- •КАНУН МОДЕРНА
- •2. Возникновение проекта модерна
- •Библиография
- •МОДЕРН
- •3. Универсальный проект Лейбница
- •4. Соотношение интеграции и дифференциации религии, эзотерики и науки.
- •Библиография
- •КРИЗИС ПРОЕКТА МОДЕРНА
- •5. Исчерпан ли проект модерна?
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 2.2. ЖИЗНЬ И ЦЕННОСТЬ (ОПЫТ НИЦШЕ) — Визгин В.П. - Концепты: жизнь, ценность, смысл
- •1. Тематизация жизни и ценности. Введение.
- •Библиография
- •ЖИЗНЬ
- •2. Проблема ценности жизни: исторический контекст
- •Библиография
- •ЦЕННОСТЬ
- •3. Жизнь и ценность
- •Библиография
- •СМЫСЛ
- •4. Эксперимент с высшими ценностями: урок Ницше
- •ПОЗИЦИЯ 2.3. ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕЯ КУЛЬТУРЫ - Межуев В. М. - Концепты: знание о культуре, культура как идея, открытие культуры, классическая модель культуры, свое и чужое в культуре
- •ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ
- •Библиография
- •КУЛЬТУРА КАК ИДЕЯ
- •Библиография
- •ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •СВОЕ И ЧУЖОЕ В КУЛЬТУРЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ПОЗИЦИЯ 3.1. КУЛЬТУРА КАК ПОРОЖДАЮЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА ОТНОШЕНИЕ — Михайлов Ф. Т. - Концепты: обращенность, эмпирия, теория, онтология (научной теории), постулат, основание
- •ОБРАЩЕННОСТЬ
- •1. Порождающее и воспроизводящее культуру отношение
- •Библиография
- •ЭМПИРИЯ
- •2. Логика эмпиризма и эмпирические теории культуры
- •Библиография
- •ТЕОРИЯ
- •3. Естественные и гуманитарные теории.
- •Библиография
- •ОНТОЛОГИЯ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ
- •4. Онтология научной теории — теории культуры в том числе
- •Библиография
- •ПОСТУЛАТ
- •5. Постулаты фундаментальной теории
- •Библиография
- •ОСНОВАНИЕ
- •6. Постулат как основание. Аксиоматика
- •Библиография:
- •Иные трактовки темы:
- •ПОЗИЦИЯ 3.2. КУЛЬТУРА КАК РЕФЛЕКСИВНАЯ СИСТЕМА — Сорви н К. В. - Концепты: рефлексия, рефлексивная онтология, рефлексивная методология
- •РЕФЛЕКСИЯ
- •1. Культура как рефлексивная система
- •2. Нерефлексивные подходы к теории культуры: их основания и границы
- •3. Рефлексия и неопределенность
- •Библиография
- •РЕФЛЕКСИВНАЯ ОНТОЛОГИЯ (ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ)
- •4. Рефлексия, не знающая себя
- •5. Рефлексивная природа знания. Объективность субъекта
- •7. Креативность как элемент рефлексивной системы. Самозамкнутость рефлексивных систем
- •8. Рефлексивная традиция в античной философии (выводы)
- •9. Свободная субъективность человека как элемент объективного бытия рефлексивной системы
- •10. Онтологическое доказательство как первая теоретическая форма самообоснования рефлексивной системы
- •11. Человек как основание бытия рефлексивной системы
- •12. Рефлексивная онтология культуры
- •Библиография
- •НЕРЕФЛЕКСИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ (в познании рефлексивных систем)
- •13. Экономическая теория и аксиоматика классического естествознания
- •14. «Энтропийная» аксиоматика экономики
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 3.3. ТЕХНИКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ -Воронин A.A.
- •КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
- •1. Культура как системное единство коммуникативных стратегий
- •Библиография
- •ТЕХНИКА
- •2. Техника как коммуникативная стратегия
- •3. Дилемма культуры и техники. Культурный феномен и технический феномен
- •Библиография
- •ОТЧУЖДЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
- •4. Отчуждение
- •5. Самореализация
- •Библиография
- •КРЕАТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
- •6. Креативная избыточность человека
- •Библиография
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ПОЗИЦИЯ 4.1. ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ И КУЛЬТУРА В ЦИВИЛИЗАЦИИ — Каган М.С. - Концепты: модальности культуры, архитектоника культуры, хроноструктура культуры
- •МОДАЛЬНОСТИ КУЛЬТУРЫ
- •1. Культура как форма бытия
- •Библиография
- •АРХИТЕКТОНИКА КУЛЬТУРЫ
- •2. Отношение цивилизации и культуры
- •Библиография
- •ХРОНОСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ
- •3. Исторический подход к проблеме
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 4.2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — Келле В.Ж. - Концепты: цивилизация, цивилизационные механизмы, культура, личность
- •ЦИВИЛИЗАЦИЯ
- •1. Генезис цивилизации и ее интегративная функция
- •Библиография
- •ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
- •2. Цивилизационные механизмы и культура
- •Библиография
- •КУЛЬТУРА
- •3. Культура как связующее начало цивилизации
- •Библиография
- •ЛИЧНОСТЬ
- •4. Человек в процессах глобализации и многообразии культур
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 4.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ — Гаман-Голутвина О. В. - Концепты: политическая культура, политическое сознание, культурная политика.
- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
- •1. Сущность и структура политической культуры
- •2. Типы, уровни, функции политических культур
- •3. Факторы, определяющие специфику политической культуры
- •Библиография
- •ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
- •Библиография
- •КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 4.4. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ — Межуев В. М.
- •ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ
- •Библиография
- •ГРАНИЦЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
- •Библиография
- •ДУША И ТЕЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ
- •Библиография
- •ОТКРЫТАЯ КУЛЬТУРА
- •ТЕМА II. НЕКЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ
- •5. ОТ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА К СЕМАНТИКЕ КУЛЬТУРЫ (редактор — Огурцов А.П.)
- •ВВЕДЕНИЕ
- •Первый принцип
- •второй принцип
- •ПОЗИЦИЯ 5.1. АРТИКУЛЯЦИЯ БЫТИЯ КУЛЬТУРЫ — Григорьев A.A. - Концепты: язык и речь, артикулированный звук, голос и интонация, молчание — пауза, ритм, музыка и речь.
- •ЯЗЫК И РЕЧЬ
- •1. Речевой статус концепта
- •Библиография
- •АРТИКУЛИРОВАННЫЙ ЗВУК
- •2. Субъектно-природное основание концепта
- •Библиография
- •ГОЛОС И ИНТОНАЦИЯ
- •3. Звукосмысловые репрезентанты концепта
- •Библиография
- •МОЛЧАНИЕ — ПАУЗА
- •4. Членяще-соединяющее основание концепта
- •Библиография
- •РИТМ
- •5. Музыкально-поэтическое основание речи
- •Библиография
- •МУЗЫКА И РЕЧЬ (СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТИ)
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 5.2. ЯЗЫК И РЕЧЬ — ВЕКТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ — Неретина С.С, Огурцов А. П.
- •ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
- •1 .Определение лингвокультурологии и ее границ
- •Библиография
- •УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ СЛОВЕСНОСТИ
- •2. Универсализация словесности в самоопределении и самопостижении культуры
- •Библиография
- •УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ РИТОРИКИ
- •3. Универсализация риторики как способ самоопределения и самопостижения культуры
- •Библиография
- •СИМВОЛИЗМ
- •4.1. Сакральная герменевтика или учение о понимании?
- •Библиография
- •4.2. Августин о понимании
- •Библиография
- •УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ГРАММАТИКИ
- •5. Универсализация грамматики при самоопределении и самопостижении культуры
- •Библиография
- •ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
- •6. Лексико-семантические модели β самоопределении культуры
- •Библиография
- •ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
- •7. Пропозициональный подход к определению смысла
- •Библиография
- •СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
- •8. Структурно-семиотические методы изучения архаических форм культуры
- •Библиография
- •НАРРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДИСКУРСА
- •9.1. Лингвистические модели в структурной поэтике нарратива
- •9.1.2. Нарративная грамматика А.-Ж. Греймаса
- •Библиография
- •9.3. Поэтика прозы Ц. Тодорова
- •Библиография
- •Заключение
- •ПОЗИЦИЯ 5.3. КОНЦЕПТ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ СМЫСЛА — Неретина С. С., Огурцов А. П. - Концепты: концепция, дискурс, смысл, речь, значение, эквивокация, интенция, статус, тропы.
- •ДИСКУРС
- •1. Многообразие лингвистических моделей анализа дискурса
- •Библиография
- •КОНЦЕПТ
- •2. Концепты и семантика культуры
- •3.1. Идея концепта как ядро концептуализма
- •3.2. Судьба идеи концепта в Новое время
- •3.3. Поворот к концепту в современной философии
- •Библиография
- •6. ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ И ИХ ДИНАМИКА (редактор — Шеманов А.Ю.)
- •ВВЕДЕНИЕ
- •СУБЪЕКТ
- •1. Формирование внутреннего пространства субъекта как задача самоидентификации
- •Библиография
- •РЕФЛЕКСИЯ
- •2. Условие самоидентификации — обретение оснований рефлексии в по вседневной жизни
- •Библиография
- •САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
- •3. Парадоксальность самоидентификации в условиях кризиса идентичности
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 6.2. ДИНАМИКА ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ: БЫТОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ — Чебанов С.В. - Концепты: Общая культурология. Бытовое. Профессиональное. Форма культуры.
- •ОБЩАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- •1. О возможности общей культурологии и ее предмете
- •Библиография
- •БЫТОВОЕ
- •2. Бытовые феномены соматической культуры
- •Библиография
- •ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
- •Библиография
- •ФОРМА КУЛЬТУРЫ
- •4. Подходы к анализу формы культуры по ее реализациям
- •Библиография
- •ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •МАССОВАЯ КУЛЬТУРА
- •Библиография
- •КОМПЕНСАЦИЯ
- •Библиография
- •СУБКУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 6.4. КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ — Межуев В. М. - Концепты: модернизация, глобализация, культура в глобальном мире
- •МОДЕРНИЗАЦИЯ
- •Библиография
- •ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
- •КУЛЬТУРА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
- •Библиография
- •ПОЗИЦИЯ 6.5.
- •КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДИКТАТУРЕ ПУБЛИЧНОСТИ — Тищенко П.Д. - Концепты: публичность, смерть, сопротивление публичности
- •ПУБЛИЧНОСТЬ
- •1. Власть публичности над бытием в культуре
- •СМЕРТЬ
- •2. Смерть в контексте публичности
- •СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ
- •3. Действительность и сопротивление публичности
- •ПОЗИЦИЯ 6.6. КУЛЬТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА — Попова Н. Т. - Концепты: культурная форма, культурный дефицит, субкультуры
- •КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА
- •Библиография
- •КУЛЬТУРНЫЙ ДЕФИЦИТ
- •Библиография
- •СУБКУЛЬТУРЫ
- •Библиография
- •ТЕРМИНЫ
- •1. ИСХОДНЫЕ НАЧАЛА КУЛЬТУРЫ
- •ВОСПИТАНИЕ (к позиции 3.1)
- •Библиография
- •ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (к позиции 4.1)
- •Библиография
- •ДИАЛЕКТИКА (к позиции 3.1)
- •1. Теоретическая деятельность как продуктивный диалог
- •2. Диалектика в механической картине мира
- •3. Диалектика как логика разрешения противоречий в содержании теоретического мышления
- •Библиография
- •ДИАЛОГ КУЛЬТУР (к позиции 1.2)
- •Библиография
- •ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ (к позиции 5.3)
- •Библиография
- •КОНЕЧНОСТЬ РАЗУМА (к позиции 1.1)
- •Библиография
- •КУЛЬТУРА (к позиции 4.1)
- •Библиография
- •КУЛЬТУРЫ ОНТО-ЛОГИКА (к позиции 1.2)
- •Библиография
- •МИКРОСОЦИУМ КУЛЬТУРЫ (к позиции 1.2)
- •Библиогрфия
- •МИР ПОВСЕДНЕВНОСТИ (к позиции 1.3)
- •Библиография
- •МИФ (к позиции 1.1)
- •Библиография
- •МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ (к позиции 3.2)
- •Мораль и нравственность.
- •Проблема объективности моральных и нравственных норм.
- •Проблема морального идеала
- •Библиография
- •МЫШЛЕНИЕ (к позиции 3.1)
- •Мышление теоретическое
- •Библиография
- •НООСФЕРА (к позиции 1.3)
- •Библиография
- •ПРОИЗВЕДЕНИЕ (к позиции 1.2)
- •Библиография
- •РАЗУМ ПОЗНАЮЩИЙ (к позиции 1.2)
- •1. Антиномия
- •2. Эксперимент
- •Библиография
- •РАЗУМ ПРИЧАЩАЮЩИЙ (к позиции 1.2)
- •Библиография
- •РАЗУМ ЭЙДЕТИЧЕСКИЙ (к позиции 1.2)
- •РЕФЛЕКСИЯ (к позиции 3.2)
- •Библиография
- •ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ (к позиции 1.1)
- •Библиография:
- •ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (к позиции 1.1)
- •Библиография
- •2. УНИВЕРСАЛИЗМ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ
- •ГЕНЕАЛОГИЯ (к позиции 2.2)
- •Библиография
- •ГУМАНИЗМ (к позиции 2.1.)
- •Библиография
- •ИСТОРИЧНОСТЬ (к позиции 2.1)
- •МЕНТАЛЬНОСТЬ (к позиции 2.1)
- •Библиография
- •МИР (к позиции 2.1)
- •Библиография
- •НИГИЛИЗМ (к позиции 2.2)
- •Библиография
- •РЕНЕССАНСНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ: ДЖ. БРУНО (к позиции 2.1)
- •Библиография
- •РЕСЕНТИМЕНТ (к позиции 2.2)
- •ЭПИСТЕМА (к позиции 2.2)
- •Библиография
- •ЯСНОСТЬ РАЗУМА: ДЕКАРТ (к позиции 2.1)
- •Библиография
- •3. КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
- •ГЕОПОЛИТИКА КУЛЬТУРЫ (к позиции 6.3)
- •Библиография
- •ГЛОКАЛИЗАЦИЯ (к позиции 6.4)
- •Библиография
- •«ДРУГОЙ МОДЕРН» (к позиции 6.5)
- •Рефлексивное онаучивание.
- •Библиография
- •«ЗАКАТ ЕВРОПЫ» (к позиции 4.4)
- •Библиография
- •ЛИЧНОСТЬ (к позиции 4.2)
- •Библиография
- •МАССЫ (ТОЛПЫ) (к позиции 6.5)
- •Библиография
- •НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (к позиции 4.4)
- •Библиография
- •ОБЩЕСТВО (к позиции 4.2)
- •Библиография
- •ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (к позиции 4.3)
- •Библиография
- •«РУССКАЯ ИДЕЯ» (к позиции 4.4)
- •Библиография
- •СОЦИАЛЬНОСТЬ (к позиции 4.2)
- •Библиография
- •ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР (к позиции 6.3)
- •1. Вертикальное и горизонтальное измерения культуры
- •2. Типология культур в перспективе культурологи
- •Библиография
- •ТОВАР (к позиции 3.2)
- •Библиография
- •ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ (к позиции 4.2)
- •Библиография
- •ЦИВИЛИЗАЦИЯ (к позиции 4.1)
- •Библиография
- •4. ДИНАМИКА ФОРМ КУЛЬТУРЫ
- •ИГРА (к позиции 6.5)
- •Библиография
- •ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ (к позиции 6.6)
- •1. Понятие интериоризации в контексте классической психологии
- •2. Судьба понятия «интериоризация» в современной культурной ситуации
- •Библиография
- •КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ (к позиции 3.3)
- •Библиография
- •КРЕАТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (к позиции 3.3)
- •Способность создавать и способность преобразовывать.
- •Культура как воспроизводство и как творчество
- •«Подлинность» жизни как уникально-всеобщее качество
- •Отчуждение и самореализация
- •Креативность человека — диалектическое единство отчуждения и самореализации
- •Библиография
- •МНИМОСТЬ КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ ОНТИКИ (к позиции 6.2)
- •Таблица 1. Соотношение критериев реальности по A.A. Любищеву и Ю.А. Шрейдеру
- •Библиография
- •РАЗНООБРАЗИЕ (к позиции 6.2)
- •Библиография
- •РИТМ (к позиции 6.2)
- •Библиография
- •САМОСТЬ (к позиции 6.1)
- •Библиография
- •СЛОЖНОСТЬ (к позиции 6.2)
- •Значения.
- •Библиография
- •ТЕХНИКА (к позиции 3.3)
- •Библиография
- •ФОРМА (к позиции 6.2)
- •Библиография
- •ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА (к позиции 6.3)
- •Библиография
- •5. КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
- •БУКВА (к позиции 5.1)
- •Библиография
- •ГОЛОС (к позиции 5.1)
- •1.Историко-философская эволюция представлений о голосе
- •Библиография
- •ИНТЕНЦИЯ (к позиции 5.3)
- •Intentio (intention) — замысел, намерение, напряжение, интенция.
- •INTENTIO PRIMA (first intention) — первая И., первичный смысл;
- •INTENTIO SECUNDA (second inention) — вторая И., вторичный смысл;
- •INTENTIA GENERALIS (general intention) — общая И.; смысл, которым обладают все вещи в силу простого факт
- •INTENTIONIS RES (thing of intention) — предмет ; вещь, существующая только в мышлении.
- •Библиография
- •ИНТОНАЦИЯ (к позиции 5.1)
- •Библиография
- •КОНЦЕПЦИЯ (к позиции 5.3)
- •Библиография
- •Лингвокультурология
- •Концепт
- •Смысл
- •Значение
- •Язык
- •Речь
- •Знаковая система
- •Символические формы
- •Дискурс
- •МОЛЧАНИЕ — ПАУЗА (к позиции 5.1)
- •Библиография
- •РИТМ (к позиции 5.1)
- •Библиография
- •СТАТУС (к позиции 5.3)
- •Библиография
- •ТРОПЫ (к позиции 5.3)
- •Библиография
- •ЭКВИВОКАЦИЯ (к позиции 5.3)
- •Библиография
- •АВТОРСКИЙ СПИСОК СТАТЕЙ
- •ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
- •ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
- •АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК КОНЦЕПТОВ И ТЕРМИНОВ
- •СОДЕРЖАНИЕ
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
360- |
15.Злобин Н.С., Туровский М.Б. Культура, личность, история // Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М., 1997.
16.Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.
17.История ментальностей, историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах
ирефератах. М., 1996.
18.Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
19.Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
20.Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.8, Т.42.
21.Михайлов Ф. T. Homo sapiens: культура и натура его бытия // От философии жизни к философии культуры. СПб., 2001.
22.Неретина С.С. Тропы и концепты. М., 1999.
23.Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. М., 1997.
24.Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 2002.
25.Румянцев O.K. Диалектическая телеология. М., 1998.
26.Сильвестров В.В. Принципы историзма в культурологии и естественно-научных концепциях развития // Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания. М., 1984.
27.Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
28.Туровский М.Б. Предыстория интеллекта. М., 2000.
29.Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М., 1997.
30.Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
31.Шеманов А.Ю. Судьбы образов иного в современной культуре (в печати).
32.Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М., 2003.
33.Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991.
34.Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. М., 2003.
35.Huxley f. Evolution. The modern synthesis. London, 1945.
36.Uexkull J. Theoretische Biologie. Frankfurt/M., 1973.
Румянцев O.K.
МИФ (к позиции 1.1)
Что такое М.? Этот вопрос может быть задан только мыслью, встретившейся с М. как феноменом. М. приобретает статус феномена только для мысли, движущейся внутри оппозиции «М. — логос». Сама же эта оппозиция артикулирует новую (т. е. появляющуюся лишь с рождением философии) структуру бытия, в которой центральным со-бытием становится акт осмысления. Точнее, в пределах этой оппозиции любое нечто осмысляется как нечто только в качестве со-бытийствующего с бытийствующим (т. е. себя артикулирующим) осмыслением — лишь постольку некое нечто заявляет о своем присутствии, поскольку это заявление исполняет роль рефлективной точки, относительно которой заявляет о себе в речевом акте сам акт осмысления этого нечто. Но это означает, что внутри оппозиции «М. — логос» осмысление выступает
(ог-
лашает себя, высказывает — и тем конституирует себя) как само-осмысление. Это высказывающее себя самоосмысление и есть собственно логос, или (что то же самое) бытие, — т. е. то, что наделяет сущее статусом сущего — статусом свидетельства своего со-присутствия логосу, своего на-личия. Следовательно, внутри оппозиции «М. — логос» М. есть сущее как со-присутствующее (со-бытийное) бытию — соприсутствующее само-осмыслению. (В свою очередь, логос, именно в качестве тематизированного адресата сущего, есть собирание сущего в единство).
Но оппозиция эта непосредственная — ничто третье не опосредует отношения осмысляемого и осмысления, М. и логоса. А потому полюса этой оппозиции так же непосредственно противостоят друг другу, как и непосредственно совпадают. Если М. выступает как осмысляемое, а логос как само-осмысление (осмысляющее себя как осмысление М.), то, с одной стороны, миф выступает именно как о-смысляемое (т. е. как то, что только актом осмысления наделяется смыслами), и, следовательно, источником самой смысловой «субстанции» М. оказывается противостоящее М. само-осмысление, т. е. противостоящее М. само-осмысление (логос) оказывается «внутри» М. как его, М., последнее «субстанциальное» основание. Но, с другой стороны, само-осмысление осмысляет себя и, следовательно, выступает для себя же самого как осмысляемое, т. е. как М. Логос, следовательно, видит М. как свое «содержание», как то, что он, логос, есть «внутри» себя. Логос, обнаруживая себя «внутри» М., обнаруживает М., «внутри» себя. Логос по самой своей сущности может и должен артикулировать себя, лишь осмысляя себя, и он может состояться как самоосмысление, лишь артикулируя себя. Но артикуляция себя самого и есть отличение себя от себя. Логос, следовательно, должен преднайти себя как осмысляемое, т. е. он должен встретиться с собой, как артикулированным, до всякой артикуляции и, следовательно, до всякого осмысления — он должен встретиться с собой как с М. М. — внутри оппозиции «М.— логос» — и есть сам же логос, но логос, выступающий для себя самого, как свой собственный «объект». В пределах этой оппозиции М. есть, по самой своей сущности, артикуляция смыслов, предпосланных всякой артикуляции само-осмысления, предпосланных всякой встрече М. с логосом. И в то же время этими смыслами наделяет его все то же самоосмысление, все тот же логос. М. предпослан логосу, но в то же время логос и есть внутренняя жизнь М. Логос есть внутренняя жизнь М., но логос преднаходит М. и как свое собственное содержание, и как свою
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-360 |

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
361- |
собственную жизненную стихию. М. оказывается одновременно и «первичнее» и «вторичнее» логоса.
378
Именно эта диалектика непосредственной оппозиции М. и логоса (не-опосредованность их противопоставления и различения, которая оборачивается непосредственностью их тождества и неразличенности) оправдывает ту характеристику античной философии как диалектики М., которую ей дал А.Ф. Лосев. В существе своем вся эта непосредственная диалектика М. есть то, что Гегель назвал
отрицательной диалектикой классической мысли (в противоположность положительной диалектике, т. е. в
противоположность диалектике, тематически сосредоточенной на положительном определении именно структуры опосредования). Это — диалектика непосредственного противопоставления и непосредственного отождествления одного и иного, единого и многого, покоя и движения, жизни и смерти, бытия и небытия. Каждая из этих оппозиций представляет собою лишь аспект в разворачивании базисной «диалектики М.», т. е. в разворачивании оппозиции «М. — логос».
Поэтому гегелевская характеристика Платоновой диалектики как отрицательной сама является отрицательной характеристикой: Гегель точно указал на то, что в этой диалектике отсутствует (а именно
— тематизация структуры опосредования), но не смог указать, чем же, взамен отсутствующей скрепы, она удерживается. Ведь не отсутствием же! Но и не мог великий мыслитель Просвещения указать на эту диалектику как на внутренний смысл и внутреннюю жизнь М., и на то, что М. есть не только ее аутентичное и максимальное выражение, но и ее единственная точка опоры. Соверши Гегель такой шаг, он должен был бы не просто ограничиться имманентной критикой Канта, а заявить вопреки очевидности о своей радикальной независимости от Кантовой традиции и даже объявить Канта своим философским антиподом. Другими словами, он должен был бы стать Алексеем Федоровичем Лосевым, или уж по крайней мере — т. е. при сохранении минимального пиетета к Кантовой эстетике — он должен был бы объявить себя Ф.В. Шеллингом. И дело не только в «исторической ограниченности» Гегеля. Ведь и сама лосевская философия М. (возможно, самая глубокая и детально разработанная теория М. в философии ХХ века — во всяком случае, по тщательности своей философской продуманности никак не уступающая философии М. Кассирера, с которой она, впрочем, имеет немало сходного) выстраивается не на какой иной, но на этой же платонической основе — на диалектике непосредственной оппозиции — и вполне этой диалектикой ограничена. И это несмотря на то, что Лосев привлекает к обоснованию и выстраиванию всю философскую технологию, разработанную именно немецкой мыслью (Гегель, Шеллинг, Гуссерль, Герман
Коген, Кассирер), т. е. мыслью, полностью сосредоточенной на структурах опосредования — будь то задача снятия (т. е. опосредования) непосредственности или задача «прорыва» из опосредования в непосредственность. Если гегелевское понимание античной мысли ограничено установками Просвещения, то Лосев пытается ограничить Просвещение базисными установками античной мысли.
Сама историческая эволюция значения слов и λόγος отражает становление этой диалектики непосредственной оппозиции. Тождественность значений слов
и λόγος отражает становление этой диалектики непосредственной оппозиции. Тождественность значений слов  и λόγος («слово, речь» и «все, что артикулировано словом») выступает в этой эволюции как подчеркивающая их коннотационную противоположность и взаимный обмен их ролей в передаче этой кон-нотационной противоположности.
и λόγος («слово, речь» и «все, что артикулировано словом») выступает в этой эволюции как подчеркивающая их коннотационную противоположность и взаимный обмен их ролей в передаче этой кон-нотационной противоположности.
В гомеровских «Илиаде» и «Одиссее» основное значение слова «М.» ( ) — «слово» или «речь». Это может быть «слово» или «речь» в смысле «публичное выступление» {Одиссея I, 358). Но это слово
) — «слово» или «речь». Это может быть «слово» или «речь» в смысле «публичное выступление» {Одиссея I, 358). Но это слово
может означать и «извинение» (Одиссея XXI, 71), «разговор» (Одиссея IV, 214), «факт» (Одиссея IV, 744), «угроза, » «приказ» (Илиада I, 388), «задача» (Илиада IX, 625), «совет» (Илиада VII, 358), «намерение» или
«план» (Илиада I, 545; Одиссея IV, 676), «разум» (Одиссея III, 140), и «история» или «сказание» (Одиссея
III, 94).
У Софокла встречается  в значении «сообщения», «известия» ( Трахинянки, 67). У Геродота
в значении «сообщения», «известия» ( Трахинянки, 67). У Геродота  может означать «предание» (История. II, 45).
может означать «предание» (История. II, 45).
Слово λόγος у Гомера встречается редко. И хотя обозначает λόγος то же самое, что и  и
и  , т. е., «слово», «речь», но имеет оно, скорее, коннотацию (множественное число — λόγοι) слов отвлекающих, развлекающих или ложных, льстивых (ср. тютчевское — «Мысль изреченная есть ложь»).
, т. е., «слово», «речь», но имеет оно, скорее, коннотацию (множественное число — λόγοι) слов отвлекающих, развлекающих или ложных, льстивых (ср. тютчевское — «Мысль изреченная есть ложь»).
Единственное место Илиады (Il. 15.393), где появляется λόγος, сообщает, что Патрокл, врачуя болящую рану Еврепила, «веселил [Еврепила] словами» ( λόγοις). В единственном месте Одиссеи, где появляется λόγοις (Od. 1. 56), Одиссея, «лиющего слезы, [Калипсо] держит волшебством коварноласкательных слов (
λόγοις). В единственном месте Одиссеи, где появляется λόγοις (Od. 1. 56), Одиссея, «лиющего слезы, [Калипсо] держит волшебством коварноласкательных слов (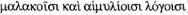 )», стремясь истребить
)», стремясь истребить
в нем память об Итаке. Так же и у Гесиода ( Theog. 229): ненавистный Раздор рождает, среди прочих персонализированных неприятностей, и Лживые Слова (τε 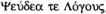 ); и в другом месте у Гесиода (Theog. 890) Зевс словами хитрыми или коварно-ласкательными (
); и в другом месте у Гесиода (Theog. 890) Зевс словами хитрыми или коварно-ласкательными (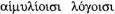 ), т. е., как и Калипсо Одиссея, обманывает Метиду.
), т. е., как и Калипсо Одиссея, обманывает Метиду.
Но со временем это отношение переворачивается: λόγος, как истинное слово, как «отчет» (то есть утверждающее тематически свою ответственность за свою
379
достоверность, а потому слово само-утверждающее, само-раскрывающееся) начинает противопоставляться слову rnиyow, обозначающему «придуманную историю», «поэтическое творение», нечто «всего лишь» переданное кем-то (Платон, Протагор 320с, 324d, Горгий 524а, Федон 61b, Тимей 22с, и
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-361 |

|
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
362- |
||
особенно |
Тимей 26е, где Сократ противопоставляет |
в одном предложении |
«вымышленный |
V/» |
( |
) и «правдивое слово (отчет, сказание, |
сказание как отчет)» ( |
) |
— |
И в то же время такая снижающая коннотация слова |
отражает лишь одну сторону его эволюции |
|||
внутри оппозиции «М. — логос»: оценку логосом претензий мифа на независимость от логоса. Другая сторона этого же процесса— возвеличивание мифа над логосом, превращение М. («диахронически») и в неизбывную предпосылку логоса, как само-осмысления, и («синхронически») в выраженость, в полноту исполненности смысла, где о-смысление (как наделение смыслом) совпадает со смыслом (как предпосылкой осмысления). В этом двуедином статусе М. оказывается сущим смыслом, или — что то же самое — М. оказывается живой иконой логоса. Именно в этом двуедином статусе М. живет в диалогах Платона, находя максимальное осуществление в самой личности Сократа.
Похвальные речи Эросу-богу, произносимые участниками Платонова Пира, являют собой, по-видимому, чистые образцы М. как предания. С одной стороны, как предания (орфические по преимуществу), они, казалось бы, служат лишь поводом и прологом речи Сократа — всего лишь тем контрастным фоном, на котором логосу еще предстоит заявить о себе в подобающей ему диалогической форме: не повествованием или гимном, а тематизацией самоосмысления, конституирующего себя как открытость иному — как тематизираванный адресат собеседника. Но эти «досократические» речи-монологи Платонова Пира не ищут опоры в слове собеседника, и в своей декларативности они не озабочены самообоснованием как тематизированным самоосмыслением. В отличие же от этих речей-монологов, именно с поиска такой опоры начинает Сократ: он начинает не с гимна и декларации, но с выстраивания своего диалога внутри — подготовленной для него Платоном — большой диалогической композиции Пира. И он озабочен прежде всего самообоснованием своего слова — он сам и есть воплощение тематизированного (его майевтическим искусством) самоосмысления («познай самого себя»). С началом речи Сократа логос, казалось бы, полностью «снимает» М. Но, с другой стороны, тотчас же и оказывается, что не логос «снимает» М., а М. (причем М. именно орфический, М., заявителями и предвестниками которого и были эти «до-
сократические» речи) «снимает» логос. Свою энергию и свой смысл этот обстоятельно и осмотрительно артикулирующий себя, т. е. сосредоточенный на себе самом, логос черпает из рассказа Диотимы — из орфического М. об Эросе-демоне, о сыне Пении и Пороса, о жизни как экстатическом усилии, как той могучей, трагической, жертвенной связи земли и неба, которая только и просветляет хтоническую тьму. И в то же время и этот М. (казалось бы, артикулирующий последний, наиболее глубокий экзистенциальный слой) содержит внутри себя нечто еще более глубокое. В своей последней глубине он есть опять же логос, хотя теперь логос воплощен не в Сократе непосредственно, но в речи обращающейся к Сократу Диотимы. Но ведь речь Диотимы и есть внутренний, т. е. мифологический, голос Сократа, она и есть его тайна — та тайна, которую он теперь открывает своим собеседникам. И вот сама Диотима разворачивает свою речь по законам Сократовой майевтики, обстоятельно и осмотрительно, пугающе холодно заставляет она собеседника принять дионисийскую тайну экстатически-жертвенной сути бытия. Поскольку логос обосновывает эту тайну, он, следовательно, и есть тайна тайны. Но ведь и это не все. За речью Сократа следует заключающая (и тем самым — резюмирующая) Пир речь Алкивиада, уже изрядно причастившегося «крови Диониса» и тем самым как бы пребывающего в том остраненно-комическом состоянии, когда (казалось бы, по самому смыслу жанра «пир») речь человеческая становится и высокой, и богооткровенной. И из речи Алкивиада делается очевидным, что Сократ, это чистое воплощение логоса, является таковым именно потому, что он сам же и есть живая икона космического Эроса. Логос как внутренняя жизнь М.,
логос как тайна тайны М. может исполнить эту роль только в качестве живой иконы М. |
|
|
||||||
«Разум в нас — Дионисов — скажет Прокл, — и он есть образ ( |
— слава, затем — статуя в честь |
|||||||
божества, |
и |
затем |
более |
общо |
— |
образ) |
Диониса» |
( |
|
|
|
|
Διονύσου |
(Прокл, Комментарии на Платонова |
|||
Кратила, LXXXII).
С объективизацией логоса в личности Сократа смысл элеатского противопоставления «мира-по-истине» (т. е. мира само-осмысляющего слова, логоса) и «мира по-мнению» (т. е. мира предания, мифа) радикально преобразуется. Это уже не просто отношение «знания» (эпистемы) к «мнению» (доксе), не просто отношение (параллельно сосуществующих и взаимно независимых) сфер высшего бытия и бытия низшего, или, точнее, сферы бытия и сферы не-совсем-бытия; но теперь это отношение фундаментально диалогичес-
380
кое, или, точнее, телеологическое. Хотя слово «предания» (слово «мнения») теперь узаконено в своем статусе предпосылочности, и без него слово-логос не может состояться как логос; слово «предания» тем не менее само оказывается состоятельным только в той степени, в которой оно звучит как ответ на вопрос, приходящий из будущего, — вопрос, заданный словом-логосом. Предание служит тому, чего в нем самом не было и нет — объективизации своего адресата как себя тематизирующей открытости.
Будучи рассмотренными в отношении неокантианской гносеологии (сложившейся в XIX веке) и подстилающей ее концепции абсолютной субъектности (концепции, унаследованной Новым временем от поздне-средневековой мысли), хайдеггеровские понятия пред-понимания и понимания (как герменевтического круга, разворачивающегося из пред-понимания) знаменуют радикальную новацию. Но в
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-362 |
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
363- |
отношении мысли Платона эти понятия представляют собой не более чем экспликацию все той же телеологической смысловой структуры Сократовых диалогов с их оппозицией логоса и М. Логос как понимание есть само-осмысление и потому — круг. Но этот круг не есть беспредпосылочная самозамкнутость и самодостаточность абсолютного субъекта поздней схоластики и науки Нового времени
— субъекта созерцания, не аффицируемого созерцаемым и не втягиваемого в созерцаемую им сферу. Напротив, сам этот круг есть форма само-осуществления (то есть само-артикуляции) логоса как пребывания в стихии предания, где само «пребывание» осуществляется как нескончаемое усилие вхождения в предание, «вписывания» себя в предание. Круг этот есть собственный модус бытия (собственный модус артикуляции) логоса как открытости преданию. И (поскольку в этом круге логос утверждает себя как адресат предания) круг этот оказывается и формулой непрерывности самого предания — формулой предания как преемственности. Само же предание выступает как собственно пред-понимание — как отождествление с голосом сущего, заявляющего о своем требовании быть понятым, заявляющего о своей необоснованной, но предвечной наполненности смыслом — наполненности смыслом до того, как о-смысление наделило смыслом о-смысляемое.
М. как феномен и есть артикуляция сферы сущего (точнее, сферы до-сущностной) как сферы предпонимания, той сферы исполненности смысла, которая предпосылается само-осмыслению логоса, а, следовательно, и тому различению смысла и его выражения, которое и конституирует сферу сущего как сущего. М. как феномен — это сфера смыслов, спрятанных своей полнейшей выраженностью. Не смыслов, спрятанных за выражениями, за таинственными и неразгаданными зна-
ками, но смыслов, спрятанных именно своей неотличенностью от своих выражений, их непосредственной ясностью, смыслов, утаенных их непосредственными непроблематизированным тождеством с их выраженностью. Или, что то же самое, М. как феномен есть та сфера выраженных смыслов, в которой не выражен адресат этих выражений, то есть не выражена та инстанция, которая только и может отвечать за опосредование (а значит, и за проблематизацию тождества) смысла и его выражения, за расщепление сущего на смысл и его выражение, или, точнее, за формирование сущего как сущего — за проблематизированное единство смысла и его выражения. Само-осмысление логоса и есть встраивание логосом себя в сферу смыслов, утаенных их непосредственной выраженностью. Но этим же встраиванием себя логос преобразует миф (как эту сферу утаенных смыслов) в сферу сущего (как сферу смыслов, само-адресующихся логосу).
Этим преобразованием и определяется вся трудность ответа на вопрос — «Что есть М.?» Так и возникает своего рода «мифо-логический» принцип неопределенности. Вне контекста, заданного оппозицией «М. — логос», нет М.а как феномена, нет самого вопроса: «Что есть М.?» Но в пределах этой оппозиции М. преобразуется в сферу смыслов, чья само-адресованность логосу очевидна, — т. е. в пределах этой оппозиции нет М. как М.
Но, впрочем, вопрос: «Что есть М. как М., т. е. что есть М. сам по себе?» — не мог и возникнуть, пока европейская мысль не сформулировала для себя своей радикальной историчности, т. е. историчности, утверждающей ответственность мысли за детерминацию своих предпосылок и своего основания. Выявление этой радикальной историчности — и тема и содержание всей европейской культуры на рубеже XVIII и XIX вв. Именно этот период характеризуется максимальной тематической сосредоточенностью европейской культуры на овладении своим собственным историческим началом. Это начало — греческий космос, живущий оппозицией «М. — логос», и, соответственно, — греческая мифология как глубинная основа этой жизни. Но тематическая сосредоточенность на овладении своим собственным историческим началом является и тематически выраженным отстранением от него. Раз жизнь культуры свершается как ушлые освоения своего начала, начало это не принадлежит культуре, «естественно», безусильно. Прошлое культуры оказывается ее будущим (т. е. тем, что еще только предстоит освоить) и, следовательно, «потусторонним» в отношении самой культуры, которая, в свою очередь, осуществляет себя как некий непрерывно длящийся экстатический выход в эту «потусторонность» своего
381
прошедшего будущего. Именно такая диспозиция диктует императив заглядывания за пределы, положенные традиционным европейским контекстом оппозиции «М. — логос». Мысль обращается к «ненашей» мифологии, к Востоку и к архаике. Уже у романтиков М.-как-М. становится одной из основных тем, одной из центральных проблем.
Но такое заглядывание само по себе совсем не означает, что оппозиция «М. — логос» становится иррелевантной ответу на вопрос: «Что есть М.?» Оно также не означает, что греческой космос, как начало европейской культуры (а с ним и тот мифологический контекст, в котором этот космос выстроен), должен теперь потерять свой статус ее жизненного истока как неизбывно соприсутствующего прошедшего будущего.
Отношение к М. меняется радикально лишь с утверждением «научного реализма», гордящегося своей свободой лишь на том основании, что он представляет собой мысль, неспособную заподозрить себя в зависимости от своей собственной метафизической генеалогии. Та радикальная историзация мысли, которая начиная с конца XVIII и в течение всего XIX в. определяет всю историю философии и науки, зачастую сопровождается раздвоением научного сознания и утверждением научного само-сознания как радикально внеисторичного. Для такого самосознания объект — это не то, что поставлено перед ним усилием культуры,
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-363 |
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
364- |
т. е. историей самого же этого сознания, но то, что дано ему беспредпосылочно, бесплатно и непосредственно. Для такого самосознания нет вопроса, как вот этот объект дан, но только вопрос, как устроен данный объект. Именно такая метафизическая ситуация складывается к середине XIX в., когда М. становится одним из объектов научного исследования. Разумеется, и в этой ситуации логос остается сам для себя в качестве того предполагаемого контекста, в котором только и возможно адресоваться к феномену М. Но в своем самоосмыслении логос редуцирует себя здесь до некоторой усредненной новоевропейской метафизики, которая, в свою очередь, принимается за нечто самоочевидное и естественное — за тот бесплатно данный медиум, которому бесплатно же даны объекты изучения. Такое соотнесение М. со «средне-европейской» метафизикой доминирует в научных изучениях мифа и в ХХ в. В той степени, в которой миф осмысливается в его противопоставлении усредненной европейской рациональности, он выступает как мышление алогическое, т. е. не совпадающее с усредненным логосом, нарушающим, например, закон исключенного третьего (Леви-Брюль). Но когда эта же усредненная метафизика напоминает себе о своей естественности, она надеется прозреть в М. единую для всех людей «морфологию ума» и склонна интерпретировать миф как бессознатель-
ный логический инструмент разрешения логических же противоречий (Леви-Стросс).
Но если логика есть строй мышления-логоса, то М., конечно же, алогичен, что, впрочем, совершенно не означает, что мышление, порождающее М. и осуществляющееся в М., абсурдно, или не соотнесено с реальностью (что бы слово «реальность» ни означало). Алогичность этого мышления также не означает, что оно в большей степени является порождением бессознательного (что бы это понятие ни означало — будь оно взято по Фрейду, или по Юнгу, или по любому другому натуралисту человеческих душ), чем сознание новоевропейское. Его алогичность заключается лишь в отсутствии того, что делает логику логикой — в отсутствии в М. тематизации структуры опосредования. В М., взятом в его диахронном аспекте, не тематизирован адресат повествования. В М., взятом в его синхронном аспекте, не тематизирована активность, претворяющая М. в наличную и непосредственно данную реальность. И ни в том ни в другом аспекте М. не представлена структура или активность, опосредующая эти два аспекта.
Вплане диахронном М. есть повествование (storytelling), в котором никакой персонаж повествования не выступает в качестве сиюминутного («вот этого») адресата повествования. В этом (диахронном) аспекте миф отличается не только от логоса, но и от сказания религий Завета как религий Книги (что, разумеется, не означает, что повествования религий Завета не включают в себя какие-то элементы сказаний-М.).
Логос (если рассматривать Платоновы диалоги как аутентичную форму логоса) артикулирует себя самого в той характерной диалогической форме, в которой он сам лишь постольку выступает в качестве персонажа, инициирующего диалог и этот диалог организующего, поскольку он сам же артикулирует себя как адресата выразительности (т. е. как адресата артикуляции), осуществления иного. Сократ, как он сам настаивает, не рождает истину. Его майевтическое искусство есть искусство «родовспоможения»: понуждая своих собеседников отвечать на его вопросы, он помогает родить истину своим собеседникам.
Вотличие от предания-М., но подобно Платоновым диалогам, библейское повествование также сосредоточено на отношении слова и его адресата. Как и слово-логос, библейское слово также рефлексивно
итакже тематически выражает свой собственный адресат. Библейское повествование есть письменно фиксированное избрание и откровение, включающее в себя историю и предысторию избрания и откровения (а значит, историю и предысторию избранников как адресата откровения) и даже историю, последующую моменту заверше-
382
ния Писания и его передачи адресату. Как и в Платоновых диалогах, эта тематическая выраженность в
слове его сосредоточенности на отношении к тому персонажу, к которому это слово обращено (и который, в ситуации Писания, именно этим словом вызван к жизни, к существованию в предании, в истории, вызван к стоянию перед лицом Вызвавшего его), является основным смыслоконституирующим фактором. Но и структурное отличие от Платоновых диалогов здесь очевидно. Не адресат Писания задает (артикулирует, выражает в слове) свой статус как статус адресата, и, соответственно, не адресат, как и не какой-либо его протагонист, является автором Писания. Адресат избран Адресующимся (в этом и заключается смысл понятия откровения, и статус избранничества есть статус адресата слова-Откровения). Не слово, в котором адресат сам же артикулирует себя как адресат, а слово, приходящее к нему из ниоткуда и приходящее именно как слово, тематически выражающее и подчеркивающее свою обращенность к нему, тематически наделяет его статусом адресата. Потому и естественно, что для опирающейся на Писание традиции Завета именно Избирающий и Открывающийся является Автором Писания.
Именно поэтому, по причине тематической сосредоточенности на адресате, для сознания, движущегося в горизонтах, заданных словом-логосом или/и словом религии Завета, непосредственно иное (т. е. та непосредственно данная стихия, в которой это сознание живет и от которой оно себя отличает и отталкивает) есть М. как такое предание, в котором адресат не тематизирован, или, точнее, в котором нет «своего собственного» адресата, т. е. отличного от адресата, тематически обозначенного словом-логосом или словом-Откровением.
Но это и означает, что миф, как предание (как передание, как со-общение) не тематизирует своей сообщительности. М., взятый только в его диахронном аспекте, т. е. в аспекте сказания, предполагает общение, которое в ткани самого сказания никак не тематизировано. Сообщительность, как и поскольку она
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-364 |
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru |
365- |
предполагается М. (как сказом), самим М. не высказывается. М. (как сказ) сам по себе никак не соотнесен с человеком, которому он адресован, и, соответственно, с окружением человека. Это и означает, что события мифического повествования отнесены не к «реальному», а к особому мифическому месту-времени. Та предполагаемая, но вербально не артикулируемая (т. е. умалчиваемая мифом) сообщительность, которая может соотнести человека и его окружение с М.-повествованием (и, соответственно, которая позволяет мифически о-значить, о-смыслить человека и его окружение, задать место человека в отношении сказания),
— эта сообщительность может осуществляться лишь как сообщительное, т. е. коллективное, действие, соотносящее
человека с М. как повествованием. Такое коллективное действие и есть ритуал.
В философии Канта продуктивное воображение есть одна из «познавательных способностей», а именно та, которая отвечает за априорную детерминацию пространственно-временных форм (трансцендентальный образ и трансцендентальную схему). Поскольку в отношении живого М. именно ритуальное действие детерминирует пространственно-временную организацию окружения человека (как адресата повествования), аналогия с Кантовым продуктивным воображением напрашивается сама собой. Ритуал и есть продуктивное воображение М. Ритуальное действие есть акт продуктивного воображения, но не как способности, спрятанной в природных (или сверхприродных) тайниках души индивида, а как «способности» коллектива, или, точнее, этот акт воображения есть публично разыгрываемое коллективное действие. Но, разумеется, в отличие от «продуктов» Кантовой способности воображения, пространственно-временные формы, устанавливаемые коллективным ритуальным действием, предстают не в виде алгеброгеометрических оснований природного (в смысле «Критики чистого разума») универсума, а в форме «матриц» непосредственной (в смысле — предпосылочной самому существованию адресата М.)
сообщительности. Ритуал устанавливает установленное, предпосылочное. Пространственно-временные формы, устанавливаемые ритуалом как коллективным действием, — это прежде всего формы предпосылочно зафиксированных (синхронно-диахронных) отношений родства — отношений общности, или, точнее, отношений общностей (в смысле — общин), и, соответственно, отношений своего и иного, нашего и чужого. Этими кровно-родственными отношениями (включая их отрицательное определение: иное
— чужое, не принадлежащее) как «априорными формами» пространства-времени (и потому непосредственными в том же смысле, в каком непосредственны Кантовы априорные формы созерцания) и организован окружающий человека «мир». Точнее, «мир» совпадает здесь с общностью, как в русском слове «мiръ», означающем и Вселенную (какие бы теологически-метафизически-научные коннотации «вселенная» ни несла), и общину, и общинную сходку. И общность эта (повторю еще раз — ритуал устанавливает установленное, предпосылочное), формируемая только ритуализированным вхождением в нее (брачные ритуалы, ритуалы инициации), является именно предпосылкой самого существования адресата М., — общность эта кровно-родственная. Такой «мир» не есть
383
универсум, но кровно-родственная группа (людей и вещей, где все вещи — люди, и все люди — вещи), соотнесенная с другими кровно-родственными группами, с другими «мирами».
Определяя место человека относительно М. как сказа, ритуал задает место человека в некоторой системе соотнесенных кровных общностей, или (в силу непосредственности этих отношений), что то же самое, ритуал задает некоторую систему общения относительно индивидов, вовлеченных в ритуальное действие. Но тем самым ритуал и подготавливает место для каждого участника окружения человека, позволяя такому участнику выступить в качестве персонажа М. Ритуал тем самым, т. е. задавая «матрицы» диахронносинхронных отношений, переводит М. из плана диахронного в план синхронный. Ритуал привязывает М. к
окружению человека, превращая это окружение в собственно человеческую экологию и в то же время наделяя сам миф экзистенциальной реальностью и экзистенциальным могуществом. В этом качестве распределителя и утвердителя ролей, предзаданных М., ритуал выступает как действие, детерминирующее субъектность, т. е. детерминирующее статус инициатора действия. В зависимости от своей направленности, ритуал награждает этим статусом либо тех, кто вовлечен в исполнение данного ритуального действия, либо тех, кому оно адресовано. Но детерминация субъектности (своей, или чужой, или и своей и чужой) есть детерминация детерминант поведения — того, что выступает как фактор, направляющий данный поведенческий акт. И в этом смысле детерминация субъектности представляет собой детерминацию целей. Не эмпирического выбора из желаемых объектов или состояний, но детерминацию самой диспозиции, которая награждает объект или состояние статусом желаемого объекта или желаемого состояния — статусом фактора, мотивирующего и направляющего мои действия. Ритуальная активность, как продуктивное воображение М., представляет собой, следовательно, аналог того, что Кант мог бы назвать трансцендентальным аспектом акта целеполагания (другими словами, говоря в терминах третьей Критики, ритуал есть «рефлективная способность суждения» М.).
Как всякая целеполагающая активность, ритуал может быть понят как неслиянное и нераздельное сплетение аспектов causa finalis (т. e. аспекта, в котором субъект действия выступает как собственный детерминант действия) и causa formal is (т. e. аспекта, в котором иное, например предмет, на который направлено действие, выступает как собственный детерминант действия). И все же вполне очевидно, что эти аспекты по-разному тематизированы в разных ситуациях. Напри-
мер, ритуалы инициации (как ритуалы посвящения! несут отчетливо выраженную характеристику
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с. |
-365 |
