
2815.Западная философия от истоков до наших дней. Книга 3. Новое время (От Ле
.pdfниях о хорошем вкусе в науках и искусстве" (1708) Муратори пишет: “Хороший вкус — это умение распознать, с одной стороны, несо вершенное или посредственное в науках и искусстве, чтобы его избежать, и совершенное, — чтобы стремиться к нему всеми сила ми”. За это Муратори ценит Декарта, имевшего мужество разрушить “дурной вкус” слепых последователей Аристотеля. Веря во всеобщий разум, Муратори как хороший историк реалистично относился к человеческим слабостям и коварству. Человеку необходима религи озная вера, а не только правильное использование разума, рождаю щее истину, и полезные дела. Но Муратори предостерегает от отождествления религии с занятиями теологией или схоластической философией: “Под религией я понимаю веру, поклонение, любовь и подчинение Богу в форме, предписанной нам Спасителем нашим Иисусом Христом”. Не отвергая созерцательной жизни, Муратори, однако, особо ценил активное использование разума. Бог дал чело веку разум, следовательно, он “должен сделать все возможное, чтобы усовершенствовать сей огромный дар, увеличивать знание, улучшать привычки и заботиться о своем непреходящем счастье в этой и другой жизни”. Желающим достигнуть цели Муратори дает следую щие советы: “Посвятить часть времени Богу, часть — управлению своим домом, если есть способности и призвание, заниматься на уками и искусством, или хотя бы читать полезные и хорошие книги”. Но Муратори не исключает и одиночества, и уединения, которые “похвальны, если служат занятиям наукой, размышлениям о добро детели и о собственных обязанностях и способствуют уклонению от пороков. Но бегство от мира не должно стать школой безделья. Однажды одна хитрая мышь сделала себе домик в большом куске сыра, и когда товарищи пришли звать ее на важный для мышиного государства совет, холодно ответила, что она удалилась от мира и пусть они сами думают о своих делах. Разве не очевидно, что одинокий ищет блага только для самого себя, а кто хочет принести благо обществу, тот ищет добра и себе, и другому, распространяя и на своего ближнего те сокровища, которые собрал для себя?”
2. ПРОСВЕТИТЕЛИ ЛОМБАРДИИ
Просветительское движение, пишет Geymonat, сформировалось в Италии значительно позже, чем в других европейских странах. Это было вызвано различными причинами, среди которых не в послед нюю очередь — контрреформация. Просветительское движение Италии, развитие которого пришлось на вторую половину XVIII в., “не имело того радикального и агрессивного характера, который оно
продемонстрировало во Франции” (М. Даль Пра). К середине века многие мыслители ознакомились с идеями Локка и Ньютона, позже возникли дискуссии по трудам Юма, Монтескье, Д’Аламбера, Дидро, Гельвеция и Вольтера, которые переводились на итальянский язык. Особо яростные споры вызывали идеи Руссо. Не следует забывать, что с 1758 до 1767 г. при пармском дворе находился Кондильяк. Как видим, “итальянское просветительское движение получило свои жизненные соки из последовательного восприятия (с годами становящегося все более быстрым) идей французских и английских просветителей” (L. Geymonat).
Самыми крупными центрами итальянского Просвещения во вто рой половине XVIII в. были Милан и Неаполь. При правлении Фирмиана в Ломбардии произошло обновление административных и судебных структур; отвергнут примат церкви в воспитании моло дежи; усилилось влияние университета Павии; интенсифицируются торговые отношения и растут культурные связи. Зимой 1761 г. по инициативе Пьетро Верри создается “Общество Кулаков” (“деи Пуньи”), которое пропагандирует полную свободу предложений, дискуссий и критики по политическим, этическим, юридическим, философским, научным и литературным вопросам. Членами обще ства являлись, среди прочих, Алессандро Верри, брат Пьетро, и Чезаре Беккариа. Печатным органом “Общества Кулаков” было периодическое издание “Кафе”. Вот как его характеризует Пьетро Верри: “Что такое «Кафе»? Листок бумаги, выходящий раз в десять дней. О чем говорится в нем? О самых разных вещах, ранее не упоминавшихся, принадлежащих разным авторам и направленных на общественную пользу. Хорошо, но в каком стиле написаны листки? В любом, кроме скучного. И до каких пор вы предполагаете выпускать их? До тех, пока они будут находить читателя. Если общественность станет проявлять к ним интерес, мы продолжим выпускать их еще год, а возможно, и больше. И в конце каждого года из тридцати шести листков получится скромненький томик. Если же люди перестанут читать их, наш труд явится бесполез ным, — мы остановимся на четвертом, даже на третьем. Ради какой цели возник этот проект? Ради цели приятного занятия для нас, цели творить доступное нам добро для нашей родины, распространять полезные знания среди наших граждан, развлекая их, как это уже делали и де Сталь, и Свифт, и Аддисон, и Попп, и другие”. Задуманное по модели английского “Зрителя”, “Кафе”, однако, имело короткую жизнь, оно выходило раз в десять дней, начиная с июня 1764 г. до мая 1766 г. Однако в нем звучал свежий голос, ожививший, угасший было интерес, оно обострило спорные вопро сы. Читая “Кафе”, общественность впитывала атмосферу француз ского и английского Просвещения. Главными темами были борьба
против культурной (и не только культурной) инерции, устаревших законов, безразличия, систематического неверия в будущее — в общем, против всего, что задерживало модернизацию страны.
2.1. Пьетро Верри: “Добро рождается из зла”
Пьетро Верри (1728—1797) философ и экономист, занимался вопросами налогов, был вице-президентом Главного экономическо го совета, президентом Совета казначейства; с 1783 по 1786 г. — “тайный государственный советник”. После смерти Марии Терезы, являясь противником реформ, задуманных Иосифом II, он на неко торое время отошел от дел. Позднее выступил в защиту Французской революции, хотя и критиковал ее якобинский исход. Его “Размыш ления о политической экономии ”(1771, в течение трех лет выдержали семь изданий и были переведены на французский и немецкий языки) представляют собой резкую и умную защиту либерализма.
Основной тезис “Рассуждения о природе удовольствия и боли”
(1781) следующий: “Все наши ощущения, приятные и болезненные, зависят только от трех причин: непосредственного воздействия на органы, надежды и страха. Первая причина вызывает физические ощущения, две другие — моральные ощущения”. “Все моральные удовольствия, которые рождаются из человеческой добродетели, не что иное, как толчок нашей души в будущее в предвидении ожида емых приятных ощущений”. “Итак, моральное удовольствие рожда ется из надежды. Что такое надежда? Вероятность лучшего сущест вования, чем нынешнее. Следовательно, надежда предполагает ощу щаемую нехватку добра. Значит, она предполагает в настоящем зло, нехватку счастья”. И поскольку бблыиая часть моральных страданий зависит от наших ошибок, “чем большего прогресса мы достигаем в истинной философии, тем больше мы освобождаемся от этих зол”. Природа удовольствия заключается в освобождении от них. Следо вательно, мы должны признать, что боль движет всеми действиями людей, избегающими ее: “Я не скажу, — пишет Пьетро Верри, — что боль сама по себе добро; но добро рождается из зла, скудость рождает изобилие, бедность — богатство, жгучая потребность заост ряет ум, высшая несправедливость порождает мужество, — одним словом, боль — главный двигатель всего человеческого рода; она — причина всех движений человека, который без нее был бы инертным и глупым животным и погиб вскоре после рождения; кровавый пот приводит к усовершенствованию ремесел, учит нас думать, рождает науку, искусства, оттачивает их; одним словом, страданию мы обязаны всем, потому что вечная Премудрость окружила нас им так, что оно стало началом жизни, души и действий человека”. Против-
ник пыток, как это видно из его “Наблюдений над пытками”(“Под именем пыток я не имею в виду наказание виновному, вынесенное судом, но мучительные поиски истины — пытка, жестокая сама по себе; поистине достойна дикости прежних темных времен злокоз ненная мораль, которой обучаются судьи от одного из наиболее классических авторов”), Пьетро Верри также автор “Размышления над ограничительными законами главным образом при продаже зерна ” (1797) и “Истории Милана”(1783).
2.2. Алессандро Верри: недоверие — “ласточка истины”
Алессандро Верри (1741—1816), человек по натуре беспокойный и критически настроенный, нашел наилучшее применение своим качествам в литературе. Из множества его статей в “Кафе” наиболее известна “Отказ нотариусу в Академии Круска ”. В ней автор восстает против формальной чистоты языка, в пользу непосредственной выразительности: “Английские мыслители с большой заботой пишут о порядке; французы — энергичными и краткими оборотами, пока зывая мысль в свободном полете; они не вводят закона, ограничи вающего развитие идей; не жертвуют гением ради метода, насыщен ностью стиля — ради стерильности. А мы, наоборот, кажется, имеем в наших сочинениях что-то робкое, искусственное. Кто из итальян цев смог бы писать в стиле «Духа законов»?” Критикуя прошлое, Алессандро Верри не обманывается мифом “света”: “Человек, — пишет он, — прилагает усилия, чтобы вскарабкаться на утес истины; шатаясь, добирается до ее вершины и иногда резвится там, наверху, как ребенок. Мы уважаем нашу культуру, утешаемся тем, что вышли из гражданского варварства, еще более пагубного, чем дикость; стараемся как можно позднее вновь впасть в варварство, но мы скромны и всегда имеем в нашем мозгу клеточку, предназначенную для ласточки истины — недоверия... И знаешь, почему? Потому что причина ошибок всегда в нас... Не стоит удивляться нашему долгому бреду: мы сотворены с самыми разнообразными маниями; ничего другого не остается, как постараться, чтобы они были краткими, редкими и не жестокими”.
Алессандро Верри после того, как прекратилось издание “Кафе”, переехал из Рима в Париж (вместе с Беккариа), а затем — в Лондон. Большой интерес представляет “Эпистолярий”Алессандро и Пьетро Верри. В нем мы находим портрет общества XVIII в., богатый примечаниями культурного, эстетического и политического харак тера. Вот, например, письмо Алессандро брату Пьетро из Лондона 21 Декабря 1766 г. Оно полно типичных для Просвещения тем:, восхщдение Англией, терпимостью, антиабсолютизмом. “Здесь уже
никто не говорит о религии. В Париже это происходит столь часто, что нагоняет тоску... В Париже огромнейший энтузиазм по отноше нию к философии, жар души следовать ее истинам — это порождает столкновения и бурные волнения, в них развиваются и проявляются великие качества, великий человек становится величайшим; во всем виден огонь философии, все возвышенно, страсти контрастны и гибки. А в Лондоне что может взволновать кровь? Вы не хотите ничему верить? Вы господин себе. Хотите немножко верить? Ваше право. Хотите верить определенным образом? Поступайте, как вам угодно. Хотите организовать секту? Пожалуйста. Хотите сказать, что король... — Вы абсолютно свободны в вашем выборе. Мой слуга говорит это по сто раз в день”. Здесь Алессандро Верри признается: “Когда я в Милане, мне так хочется повозмущатъся сенатом, маги стратами и т. д., здесь же у меня нет никакого желания делать это” Однако терпимость в правовых отношениях англичан вызывает и восхищение: “Терпимость к мнениям, о которой так кричат фило софы, здесь достояние всех, даже грузчиков, и достигает своего апогея в правительстве. Любой англичанин знает эту, в других местах недостижимую, но здесь тривиальнейшую истину: чтобы быть сво бодным, гражданин должен быть подчинен не человеку, а закону; поэтому каждый англичанин говорит: «Мой господин — закон»; и, чтобы узнать, допустимо то или иное действие, он выясняет, есть ли закон, который бы его запрещал. Если такого закона нет, он заклю чает, что действие разрешено, и это является системой. Эти две кардинальные и важнейшие максимы здесь имеют всеобщее распро странение. Из них вытекает много других истин, которые здесь также носят общий характер. Я уж не говорю о заслуживающих особого внимания политике и торговле”.
Позднее Пьетро Верри в письме младшему брату Алессандро от 9 февраля 1767 г. пишет о неизбежности триумфа гражданских свобод и философии, он предсказывает осуществление мечты Пла тона: “Сила государства на сегодняшний день определяется его военной мощью; последняя пропорциональна денежной массе; та, в свою очередь, — торговле; а эта — гражданской свободе. Следова тельно: или ослабнуть и быть подавленным внешними силами, или же дать гражданскую свободу народам — вот альтернатива, перед которой находятся европейские государства. Большой вклад в это изменение должна внести философия; в народные массы она никог да не проникает более, чем в виде проблесков, но когда достигнет зрелости будущее поколение, философы не только не принесут человечеству нечаянного зла, но и установят границы, чтобы оно не совершалось в будущем... все зависит от развития разума” Милан ская школа заслужила похвалу Вольтера (“Она делает большие успехи”). Пьетро Верри 10 апреля 1767 г. написал: “Я всегда буду
считать Д’Аламбера, Вольтера, Гельвеция, Руссо и Дэвида Юма людьми высшего порядка, память о которых останется в веках”.
2.3. Чезаре Беккариа: против пыток и смертной казни
Кроме братьев Верри к миланским просветителям с мировой известностью относится также Чезаре Беккариа (1738—1794). Его сочинение “О преступлениях и наказаниях” (1764) переводилось на разные языки, комментировалось и обсуждалось по всей Европе. Беккариа обратился к жгучей проблеме пыток и смертной казни. “Преступление или определено, или не определено; если определе но, для наказания достаточно стабильного закона и пытки не нужны, поскольку нет нужды в признании обвиняемого; если же оно не определено, то нельзя мучить невиновного, потому что, согласно закону, именно таковым является человек, чье преступление не доказано”. Но еще более важными были его аргументы против смертной казни. Беккариа исходит из принципа: человек — это личность, а не вещь; люди объединяются в общество на основе договора ради защиты и безопасности; преступления — ущерб об ществу, в том смысле, что они уменьшают его безопасность; нака зания законны только тогда, когда они препятствуют новым бедам, новому страху и опасности. На основании этих принципов милан ский просветитель заключил, что предпочтительнее предупреждать преступления, чем угрожать смертной казнью; а как только пред упрежденные меры оказались недостаточными и совершено пре ступление, соразмерное наказание должно последовать немедленно, без каких бы то ни было проволочек.
Смертная казнь, по мнению Беккариа, неприемлема по трем причинам: а) никто не имеет права лишать жизни и, тем более, отдавать жизнь на произвол судьи; жизнь — высшее благо, и ее насильственное прекращение вне компетенции общественного до говора; б) многовековой опыт говорит, что смертная казнь не устрашает никого и никого она еще не удержала от нанесения обществу ущерба; напротив, пример человека, в течение длительного времени лишенного свободы и вынужденного тяжко трудиться, удерживает от совершения преступлений, так как открывает пер спективу более мучительную, чем смерть, которая, хотя и насильст венна, но мгновенна; в) наконец, смерть в соответствии с законом — противоречие в действии. Законы не могут запрещать убийство и одновременно предусматривать его в виде наказания: “Мне кажется абсурдным, что законы как выражение общественной воли прези рают и осуждают убийство, но сами допускают его и для отвращения граждан от убийства назначают убийство публичное”. Несмотря на
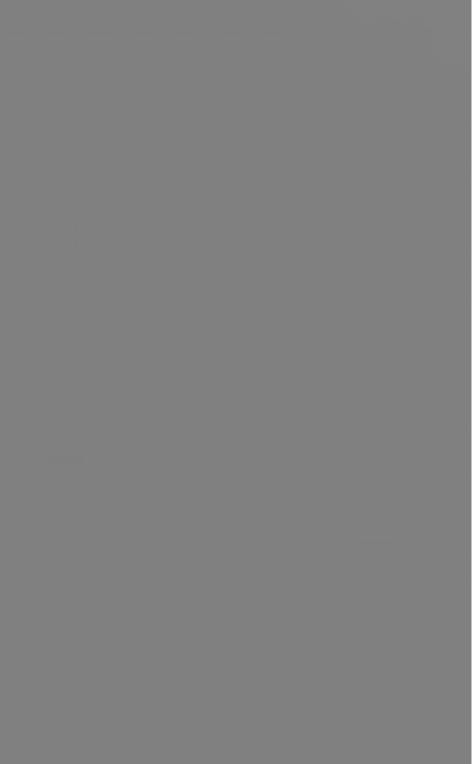
эти три аргумента, Беккариа признается, что, по крайней мере, в одном случае смертная казнь неизбежна: когда обвиняемый обладает такой мощью и связями, что может угрожать обществу, даже нахо дясь в заточении: “Смерть некоторых граждан необходима, когда нация теряет свою свободу, или в период анархии, когда беспорядки занимают место законов”. Беккариа воспроизводит древнейшее оп равдание убийства тирана.
2.4. Паоло Фризи: “первый, кто пробудил от сна Ломбардию”
Среди интеллектуалов группы “Кафе” следует упомянуть Паоло Фризи (1728—1784), который в молодости облачился в одежды барнабитов, но затем стал простым аббатом. Математик, физик и философ, Фризи много путешествовал: в Париже он посещал лекции энциклопедистов; в Лондоне познакомился с Юмом; в Вене сумел завоевать доверие министра Каунитца. Противник теории врожден ных идей, последователь философии Локка, Фризи познакомил Италию с теориями Ньютона. За свою работу “Disquisitio in causam physicam figurae et magnitudes telluris” (“Исследование физической причины формы и величины Земли”, 1751) он был избран членомкорреспондентом Парижской академии. Получив признание акаде мий Берлина, Лондона и Копенгагена, преподавал философию в Милане и Пизе, а затем математику в палатинских школах Милана. В “Кафе” опубликованы две его работы: в первой он выступал против некоторых идей относительно метеорологического влияния луны, вторая — “Очерк о Галилее”, в 1775 г. вышла отдельным изданием под названием “Похвальное слово Галилею ”. Среди научных работ Фризи следует упомянул»: “De motu diumo terrae”(“О дневном движении земли”, 1756), “De gravitate universali”(“О всеобщем тяготе нии”, 1768), “Навигационные каналы”(1770), “Основы механики, гидро статики, гидрометрии и статистической и гидравлической архитекту ры"’ (1777). Наиболее известная научная работа Фризи — “Космогра фия” в двух томах (1774—1775). В “Dissertationes variae” (“Различные рассуждения”, 1759) Фризи предложил космологию опытной природы, а не философской, как у схоластов. Среди философских сочинений:
“Похвальное слово кавалеру Исааку Ньютонуп(1778), “Похвальное слово Бонавентуре Кавальеры”(1779), “Похвальное слово господину Д ’Аламбе ру”, Вышедшее после его смерти, в 1786 г.; “Философские брошю ры” (1781); неизданным осталось “Рассуждение о временной власти правителей и о духовном авторитете церкви ”, которое Фризи написал по предложению министра Каунитца. В 1787 г. вышли “Воспомишния о жизни иработах господина Дон Паоло Фризи”, где говорится, что он первым пробудил от спячки Ломбардию.
Кпоколению, идущему вслед за группой “Кафе”, но связанному
сней многими философскими и политическими идеями, принадле жат Франческо Соаве, Мелькиорре Джойя и Джандоменико Романьози. О них речь впереди.
3.НЕАПОЛИТАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
3.1.Антонио Дженовези: первый итальянский профессор политической экономии
Во второй половине XVIII в. в Неаполе наиболее важные рефор мы осуществляются под управлением министра Бернардо Тануччи, пока король Фердинанд IV Бурбон был несовершеннолетним, и после изгнания иезуитов в 1767 г. Значительно обновился Неаполит анский университет, с широким разворотом к естественно-научным дисциплинам, а также к изучению права и экономики. Именно в Неаполитанском университете начал преподавать аббат Антонио Дженовези, который в этом же университете слушал лекции Джам баттиста Вико.
Антонио Дженовези родился в Кастильоне, в провинции Салер но, в 1713 г. (умер в Неаполе в 1769 г.). Ученик Вико, в 1748 г. он написал {{Начала теологии"о различии между церковной и светской властью. В них утверждается, что непогрешимость церкви ограни чена вопросами веры. Несогласный с антицерковным поведением просветителей (бесполезно пытаться “изгнать божественное и рели гию, если весь человеческий род, вся природа хочет этого, и не по капризу, а по чувству самой природы”), Дженовези твердо убежден, что свобода и независимость разума необходимы для общественного прогресса. Занимаясь метафизическими и этическими проблемами, он понял, что новой наукой, полезной для целей прогресса, станет политическая экономия. Возглавив кафедру политической эконо мии в Неаполитанском университете, созданную специально для него (первую в Европе!), он стал изучать возможности регулирования экономических отношений с помощью законов разума. 4 ноября 1754 г. Дженовези прочел вступительную лекцию: “Огромная толпа слушателей окружила кафедру. Интерес изо дня в день, из месяца в месяц рос, как и число людей, приобретавших книги по политичес кой экономии. Книгопродавцы не успевали заказывать их из-за границы” (Ф. Вентури). Экономическая теория Дженовези затраги вала суть проблемы, заостренной на природе цивилизации и куль туры, потребностей производительности труда и потребления. “Было бы хорошо, — пишет Дженовези в «Основах коммерции», —
чтобы не только люди науки и искусства, но и крестьяне и женщины знали бы кое-что о культуре. Это: 1) сделало бы цивилизацию более универсальной; 2) экономически упорядочило бы большую часть семей; 3) интеллектуально организовало бы многих людей для лучшего употребления талантов, которыми их наградил Господь; 4) усовершенствовало бы искусства, сделало бы их более свободны ми и более распространенными”.
Дженовези чувствовал себя воспитателем народа, скорбя, что большинство преподавателей — обманщики и воры и лишь немно гие — справедливы и знающи. В качестве модели он приводил англичан, изобретательных и отважных, противопоставляя их испан цам, вялым и тщеславным. Он советовал ученым положить конец словопрениям и обратиться к культуре дел, занявшись, к примеру, механикой или сельским хозяйством. Дженовези настаивает на бесполезности любого исследования того, что выше нас, обращая сарказм против метафизиков и диалектиков, “Дон Кихотов от науки”. Ему представляются “пространными и неопределенными” гипотезы Декарта, а Ньютона — “доказанными опытом или разу мом”. Бэкон, Галилей, Локк и Ньютон для Дженовези — идеал философа. Его интерес обращен не столько к субстанциям и сущ ностям, сколько “к нашим обычаям и потребностям” (“Люди пред ставляют собой скорее то, что они получили от воспитания, нежели то, что от рождения”). Дженовези — против теории Руссо. Науки и искусства, констатирует Дженовези, — “дети потребностей”. “Если наш философ [Руссо] называет потребности пороками и преступле ниями, он жесток; если считает, что не нужно думать об их удовле творении, он несправедлив; если верит, что можно свести науки и искусства только к пользе, удалив из них всю красоту, он груб; если же хочет исправить ложь, просочившуюся в них из-за непреодоли мых пороков человеческой натуры, он философ”. В “Уроках коммер ции” (1765—1767) Дженовези отмечает “слишком большое число адвокатов, врачей, церковных лиц, собственников-абсентеистов, слишком много живущих на ренту бездельников. Предположим, число жителей Неаполитанского королевства — четыре миллиона; сколько среди них тех, кого можно считать людьми производитель ного труда? Около четверти”. Дженовези — все в тех же “Уроках коммерции ” — предлагает следующую альтернативу: “Нужно просве щать и помогать тем, кто работает, чтобы они увеличивали доход быстрым и усердным трудом”; кроме того, нужно “довести до совершенства механику, удивительную помощницу искусств”. В “Уроках”исследуется также феномен денежного обращения, об щественного кредита, инфляции, денег, предоставленных взаймы под проценты; при изучении всех этих вопросов Дженовези проде монстрировал яркую способность рационализировать проблемы,
