
Экзамен зачет учебный год 2023 / Плеханов лекции-1
.pdf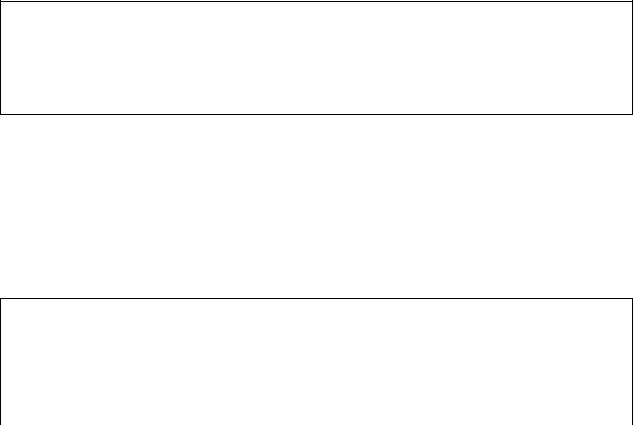
Статья 1192. Нормы непосредственного применения
1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы непосредственного применения).
Обратим внимание, как это сформулировано:
Важно, что правила раздела (коллизионные правила) не затрагивают действие императивных норм. То есть да, есть игра между разными правопорядками, выбор между ними, но она не может касаться действия вот этих норм.
Возникает вопрос, как определить, что это за нормы? 1192 ГК РФ говорит, что есть нормы, которые сами определяют, что они сверхимперативные. Но таких норм почти нет. Исключением является специальный антимонопольный закон «о стратегах», из которого четко прослеживается его применимость к трансграничным отношениям:
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом, и сфера его применения
5. Положения настоящего Федерального закона применяются также к сделкам, совершенным за пределами территории Российской Федерации, и к иным соглашениям, достигнутым за пределами территории Российской Федерации, если такие сделки и такие соглашения влекут за собой последствия, указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи.
Однако в целом таких норм в законодательстве, если и найти, будет полторы штуки. По факту 1192 ГК РФ оставляет правоприменителю право конструировать односторонние коллизионные нормы под эти специальные материальные нормы. Законодатель только указывает, что это должны быть такие нормы, которые «перехлестывают» постановку коллизионного вопроса
– когда речь идет о сверхимперативной норме, коллизионный вопрос, таким образом, вообще не должен ставиться.
То есть сверхимперативные нормы – это всегда унилатеральный подход. Мы говорим, что здесь мы делаем исключение из билатеральных норм, это наше право.
Почему это делается? Для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота. Ряд авторов и юристов говорят, что ст. 1192 ГК РФ предполагает, что это всегда должны быть нормы публичного права. Но с этим у меня есть серьезное несогласие. Как минимум, вопрос о том, что является публичным правом или частным правом – это вопрос схоластической методологии. Это как частный и публичный интерес, можно доказать очень легко публичный и частный интерес в любой ситуации, найдя публичный интерес в корпоративном праве и в иных частных нормах.
Понятно, почему авторы, которые говорят, что ст. 1192 ГК РФ – это про публичное право. Они боятся, пытаются сделать так, чтобы туда, не дай Бог, не засунули норму частного права. Они пытаются отпочковаться и закрыть этот риск, объявив, что сверхимперативные нормы – это только норма публичного права. На мой взгляд, нет.
Я приведу простой пример. Есть норма российского права о том, что нельзя заранее ограничить ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. На мой взгляд, это классический пример сверхимперативной нормы в российском праве. Является ли эта норма нормой публичного права? На мой взгляд, нет, потому что она не регулирует публичные отношения, а направлена на реализацию частного интереса. Государство просто огранчивает автономию воли в таком виде, но это не публичное ограничение, а проявление политики государства по возмещению вреда и здоровью – государство говорит, что у нас вред жизни и здоровью возмещается в полном объеме, и нельзя это ограничить договором.
Поэтому подумайте к следующему занятию над тем, как вообще можно определить сверхимперативные нормы на практике, и как бы вы их определяли, если бы вы были судьей.
111
Посмотрите разные подходы и теории сверхимперативных норм, чтобы обсудить, какие у вас будут вопросы в следующий раз. Если вам интересно, можете также посмотреть американские теории унилатерального подхода, мы закончим унилатеральный подход и перейдем к автономии воли в МЧП.
В постсоветских некоторых учебниках (Лунц, Марышева и пр.) четко прослеживается, что есть коллизионные нормы, а потом откуда-то появляется еще материально-правовой метод МЧП. То есть в МЧП якобы есть коллизионные и материальные нормы. А в чем заключается этот феномен и откуда это берется нет, просто вываливается на студентов как данность. Даже в кафедральном учебнике МГЮА это не очень читабельно – коллизионный метод и материальноправовой. По факту же МЧП – это некая практическая область с серьезной, проработанной теорией, но четко всегда выходящей на практику. Какие методы в МЧП, сколько их есть, почему это не соответствует императивному и диспозитивному методу, о котором вам говорят по другим областям права – эти вопросы имеют малое значение, хотя тут много ломается копий.
То есть у нас есть материальные нормы в МЧП, а есть сверхимперативные нормы в МЧП, которые тоже материальные нормы. Но между ними большая пропасть. Венская конвенция – это тоже материальные нормы в МЧП, но мы их можем исключить договором. Однако действие
сверхимперативных норм исключить договором нельзя.
Получается интересная штука: нам не нужно задаваться вопросом, что такое МЧП с точки зрения теории отраслей права. Если нам нужна теория и практика, мы видим просто МЧП как
некую сферу, в которой законодатель определил, что в некоторых случаях мы делаем большие послабления в законодательном регулировании – стороны могут выбрать применимые к договору иностранное право. Во внутреннем норме мы бьемся за то, чтобы появились диспозитивные нормы, Карапетов бьется за свободу договора, а в МЧП мы вообще даем возможность иностранное право выбирать. Несопоставимая автономия воли.
Такая свобода в МЧП влечет определенную специфику правового регулирования, его механизмов. Эти механизмы не такие простые, как представляются в большинстве случаев в учебниках, где пытаются преподнести, что якобы есть только два метода регулирования. На самом деле методов гораздо больше. То, как эти методы соотносятся и в какую систему выстраиваются, лучше всего понять через призму теории. Надо смотреть, как работает унилатеральный подход, как работает билатеральный подход, какие проявления одного и другого происходит. И мы видим, что наш законодатель сформулировал полный гибрид. Нельзя сказать, что это унилатеральный подход, но нельзя и сказать, что это чистый билетарализм – напротив, много элементов взято от унилатерализма.
Почему мы тогда задаемся вопросами методологии? Потому что через нее мы можем понять, как эти подходы смешиваются, и в дальнейшем видеть каждый раз, когда мы сталкиваемся с МЧП, где билатеральный, а где унилатеральный подход, но самое главное – как они между собой взаимодействуют и как системно можно объяснить те или иные феномены, а не просто принимать на веру правовые явления. А то нам сказали, что нельзя создавать вещные права договором – и все поверили, хотя реального обоснования не было. Тогда это не право, а духовная семинария, где один раз дают информацию на веру и передают из поколение в поколение.
Далее я планирую с вами обсуждать автономию воли и общую методологию, чтобы вы хорошо оперировали общей частью. Как только вы будете на «ты» обращаться с общей частью, вы сможете нормально рассуждать по конкретным вопросам. Я не гарантирую, что это приведет к тому, что вы сможете решить любой вопрос – с некоторыми коллизионными нормы я сам не сталкивался на практике, и в теории они были не особо мне интересны. Я не считаю, что человек должен быть специалистом во всех сферах МЧП. Поэтому я планирую закончить методологию, рассказать про последние тенденции, затем перейти к автономии воли и к публичному порядку, а также затронуть процесс (вопросы юрисдикции, признания и приведение в исполнение иностранных решений – это щекотливый, но интересный вопрос). В конце будет семинар 18+ по мотивам российской судебной практики. Если вам отдельные вопросы кажутся интересными, вы можете сказать.
Студент: трансграничное банкротство Плеханов: можно поговорить, но мне кажется, что это не совсем вопрос общей части МЧП.
Если вам интересно, можем поговорить.
112
Лекция № 11 (05.04.2019)
Сверхимперативные нормы.
Насколько мне известно Антон Владимирович исповедует вслед за немцами идею о том, что сверхимперативные нормы — это всегда нормы публичного права. На мой взгляд, иногда отграничить сложно. Я люблю дело ЮКОСа. После дела ЮКОСа право перестало существовать. В деле ЮКОСа государство преследовало частный интерес или публичный? Частный. Частный интерес под видом публичного. Тоже самое и с нормами. Говорить, что сверхимперативные нормы всегда публичные – критерий нечѐткий. На мой взгляд, здесь нет некого универсального критерия, однозначно говорящего что норма является сверхимперативной.
Какая цель была для института сверхоперативных норм? Студент: чтобы обойти применимый правопорядок…
Плеханов: не чтобы обойти, а настоять, что свой правопорядок применим.
Есть важный момент – когда мы говорим о сверхимперативных нормах, мы всегда говорим о lex fori. И поэтому мы говорим, что результат действия сверхимперативной нормы на коллизионном уровне все равно является либо содержащийся в самой норме унилатеральной (которая сама говорит, что действует на коллизионном уровне) либо, если мы берем материальную норму, например из деликтного права – нельзя исключить ответственность за вред, причинѐнный жизни и здоровью физического лица. Здесь нет никакой унилатеральной нормы. Если российский судья рассматривает такое дело, а там есть иностранный элемент, стороны выбрали иностранное право (ст. 1210 ГК), которое допускает исключение ответственности. Одна сторона за эту норму, другая за российское право, где нельзя исключить. Возник спор, возникли взаимоисключающие требования. Выбор иностранного права тут означает в силу действия
билатеральной коллизионной нормы, что императивные нормы какого-то правопорядка исключаются и применяются все нормы другого правопорядка. Нельзя нормально смешивать
(есть техника применения нескольких правопорядках, но о ней поговорим позже). Феномен в том, что когда в результате автономии воли или билатеральной нормы мы применяем иностранное право, значит действие собственных императивных норм исключается. В этом споре судья будет стоять перед выбором. У него нет инструментов, чтобы навязать действие нормы, которая запрещает исключать ответственность за вред, причиненный гражданину. Формально руки связаны, если нет института сверхимперативных норм.
Студент: а Вам не кажется, что с деликтным правом тут скорее публичный порядок, а не императивная норма?
Плеханов: Публичный порядок (если вы посмотрите на АПК, ГПК, ГК, СК) есть и в сфере процесса, и в сфере материального права. Мы отказываем в признании и приведении в действие какого-то иностранного решения либо применения нормы материального права в силу того, что оно противоречит публичному порядку. Есть такая теория (на мой взгляд она весьма состоятельна), что сами по себе сверхимперативные нормы являются позитивным выражением публичного порядка. Если мы посмотрим на публичный порядок, то увидим, что он сформулирован негативно – мы что-то не делаем. Перед судьей стоит вопрос о применении иностранного права. Он не может сказать, что он не применяет норму иностранного права. Он должен отказать в применении этой нормы, но может так получиться, что решение будет рассматриваться не на его территории.
Студент: просто мне кажется, что это проблема понимания сверхимперативных норм. У Асоскова и немцев оно другое. Там сверхимперативная норма – это норма, защищающая публичный интерес в первой степени. Например, защита прав потребителей. Она направлена в первую очередь на защиту частного интереса потребителей, а уже косвенно это влияет на публичный интерес, на государство. Когда мы говорим, что сверхимперативная норма – это норма, защищающая публичный интерес в первой степени, это означает, что государству надо регулировать экономику, оно пишет норму, которая нужна в первую очередь ему самому, как валютное или антимонопольное законодательство.
Плеханов: а почему нельзя сюда защиту прав потребителей? Зачем делить на степени? Студент: для разграничения.
113
Плеханов: но эти нормы все равно будут применяться судом для защиты прав потребителей, если суд увидит, что его потребитель вступает в отношения, которое нарушает его права.
Студент: это больше похоже на публичный порядок, когда по праву так нельзя. А сверхимперативная норма – это когда государство преследует какие-то интересы и волюнтаристски пишет нормы для этого.
Плеханов: понимаете, в чем проблема – волюнтаристские нормы можно увидеть и в какомнибудь запрете на виндикацию ворованного. Так можно в любой норме частного права увидеть, что государство не просто так ее написало. Тогда у вас в принципе между обычной внутренней императивной нормой и сверхимперативной нормой расплывается понимание. Если мы ставим критерием, что государство «чего-то хотело», то получается, что государство «чего-то хотело» и приняло ГК с обычными императивными нормами.
Студент: странно, что частное право вообще это регулирует, раньше такого не было… Плеханов: это потому что государства в таком виде, как оно есть сейчас (некий Левиафан),
не было. Государственные структуры не были такими. Мы сейчас находимся в таком переходном периоде, когда происходит смена порядка и балансирование: где-то усиливается роль государства, где-то наоборот, приватизация.
Студент: при этом если государство пишет в кодексе такую норму, то за этим всегда стоит даже не волюнтаризм, а какая-то логика. Явно, что основные решения в частном праве обсуждены, можно построить регулирование по-разному. А когда «просто я хочу, чтобы были пошлины» - тут нет никакой логики за этим решением.
Плеханов: но пошлина – это не сверхимперативная норма. Вы говорите «волюнтаризм». Но такие волюнтаристские решения могут же и в частном праве быть.
Студент: нет, в частном праве, даже если государство создает какую-то норму, за этим всегда есть логическое объяснение.
Плеханов: а в публичном праве не может быть логического объяснения? Вы отказываете ему в юридической аргументации?
Студент: а как еще обосновать, почему на рынке не может быть монополистов? Плеханов: это будет нарушать свободу других. Этим затрагивается и публичный и частный
интерес, потому что будет качество товаров, работ и услуг ухудшаться, ибо нет стимулов улучшать продукт и оптимизировать производство. Сама идея конкуренции в рыночной экономике преследует общее благо, как у Адама Смита пример с булочником (булочник преследует собственный интерес, но удовлетворяет и публичный интерес). Вы не можете сказать, что это неюридическая аргументация. Запрет на виндикацию ворованной вещи – какая юридическая аргументация?
Студент: потому что собственник не должен пострадать.
Плеханов: но это же волюнтаристское решение. Есть правопорядки (например, Италия), в которых это не допускается и остается частным правом. Там тоже будет своя аргументация в пользу добросовестного приобретателя. И чем одна аргументация лучше другой?
Студент: пример про виндикацию очень противоречивый. Защищают добросовестного приобретателя, потому что надо защищать оборот.
Плеханов: далеко не всегда. В некоторых правопорядках собственность выше. При этом мы остаемся в парадигме норм частного права. Нельзя смотреть на то, что в публичном и частном праве совсем по-разному аргументация строится. Там могут использоваться определенные небесспорные инструменты, другое дело что инструменты для частного права начинают использоваться для публичного права, когда в налоговом праве появляется такая фигура как «добросовестный налогоплательщик». По делу ЮКОСа ЮКОС говорил, что нельзя привлекать их к ответственности, что большая часть за пределами срока к ответственности. Судья написал, что это право распространяется только на добросовестного налогоплательщика. Если читать дальше, то получается, что недобросовестный налогоплательщик бесправен, по мнению этого судьи и государства. Мы живем не в XIX веке, когда можно было разделить стеной частное и публичное. Мы живем в мире, где существуют сложные системы, которые еще и между собой начинают конфликтовать (например, таможенное право с гражданским или когда налоговики начинают смотреть гражданское право). Публичное право всегда можно прикрутить к частному и ограничить свободу. Здесь нельзя так однозначно сказать, что тут интерес первого уровня, а здесь
– второго. У меня нет методологии, как разграничить первый уровень от второго. Студент: тут имеется в виду, на что направлена воля непосредственно.
114
Студент: да, С.В.Третьяков как раз писал в диссертации, что если норма незаменима с социально-экономической точки зрения в данном правопорядке, то ее. необходимо признавать сверхимперативной, и он как раз ссылался на какого-то французского исследователя МЧП. Там критиковалась позиция, которую поддерживали составители п.3 ст.162 ГК о письменной форме внешнеэкономической сделки, что она является сверхимперативной. И вот он говорит что вряд ли данную норму можно объективно признавать таковой, потому что нет никакого социальноэкономического интереса защищаемого правопорядком интереса.
Студент: это же как раз волюнтаризм, потому что невозможно обосновать.
Плеханов: может и можно обосновать, там таможенным оформлением. А вот отсутствие юридической защиты игр и пари – там тоже неюридическая аргументация? Вы просто берете «вот здесь волюнтаризм, а ГК – мир розовых единорогов, лишенный волюнтаризма законодателя». А принцип numerus clausus вам вообще кто-нибудь обосновывал? И много всего такого. Я уже не говорю о том, что строгая юридическая ответственность в деликтном праве вообще не имеет юридического обоснования. Это чистая экономика, распределение рисков. Строгая ответственность вообще юридического, частно-правового, не имеет. Нельзя смотреть на частное право глазами Кельзена, что оно чистое и без примесей. Много таких вещей и как расценивать такой волюнтаризм.
Студент: со строгой ответственностью просто нужно наказывать больше за причинение вреда…
Плеханов: нет, это способ распределения рисков. Студент: но он же не публичный?
Плеханов: почему? Это вопрос перераспределения рисков таким образом, чтобы например, стимулировать лицо к тому, чтобы он страховал, чтобы быстрее происходило возмещение вреда. Другой вопрос, что это будет неюридическая аргументация. Мы сразу попадаем в оценку поведения субъектов, некие утилитаристские теории, мол, так будет удобнее для потерпевшего, а если неудобно причинителю вреда – пусть страхуется. В праве сплошь и рядом с ответственностью, когда мы перераспределяем бремя доказывания, устанавливаем презумпции.
Студент: но это же делается для выгоды определенных участников гражданских правоотношений…
Плеханов: опять же, это не так, потому что формально это делается не для выгоды определенного участника, а для того, чтобы сбалансировать. Не «защитить слабую сторону», а чтобы экономически слабая сторона была юридически усилена и таким образом у них в отношений был достигнут паритет, когда вы некую экономическую или фактическую слабость субъекта компенсируете юридической защитой.
Есть взгляд на гражданское право как в XIX веке, что нормы частного права неполитизированы и поэтому они могут заменяться друг другом, это объяснение того, почему в классической савинианской модели возможны коллизии в сфере частного права, но не сфере публичного. В публичном праве коллизии принципиально (по рудиментарным теориям) невозможны, поскольку оно политизировано, а поскольку политика разных стран разная, это право не взаимозаменяемо и поэтому коллизии в сфере публичного права невозможны. Это была отправная точка. Но в современных реалиях так рассуждать не круто, так как очень сильно произошло смешение частного и публичного права. В некоторых вещах не всегда вы можете сказать какая эта норма – частного права или публичного, вы можете найти там и то, и другое. Поэтому концептуально со сверхимперативными нормами проблема – нельзя всегда сказать, что это норма публичного права или норма, преследующая публичный интерес. Например, в итальянском законе по реформе МЧП есть специальная норма о том, что развод подчиняется праву, которое применимо к браку, а дальше отдельный абзац о том, что если применимое право не допускает развод, то применяется итальянское право. Вот такой унилатеральный подход. С чем связана такая унилатеральная норма, что итальянское право будет применяться тогда, когда применимое право не разрешает развод? Это сверхимперативная норма, которая направлена на борьбу с запретом разводов, потому что для итальянского правопорядка это очень болезненная тема. В Италии разводы стали разрешены только с 1982 года. Итальянцы, чтобы защитить себя и своих субъектов от ситуации «одна жизнь – одна женщина» (Чем отличается женщина от грабителя? Грабитель требует кошелек или жизнь, женщина - и то, и другое. Данную шутку считаю несмешной и оскорбительной. Всячески порицаю подобный подход преподавателя к общению с аудиторией – прим. У.М.) сделали такую норму. Эта норма защищает публичный интерес или частный? Это будет определять судья. С
115

Со сверхимперативными нормами принципиальная проблема – по каким критериям их определять. Критерий частное или публичное право не работает. Критерий интереса, на мой взгляд, не будет срабатывать правильно в 100%. В некоторых случаях будет помогать конституционное право. В рассматриваемом примере (где стороны выбрали иностранное право допускающее исключение ответственности за причинения вреда жизни и здоровью и такой вред был причинен), российский судья, чтобы применить норму о запрете исключения ответственности, т.е. чтобы вмешаться в выбранный статут (иностранное право), должен будет вывести толкование под материальную норму запрета, вывести унилатеральную норму. И вывести он ее может из Конституции (поскольку высшей ценность является человек и гражданин, то продолжением, выражением этой нормы будет норма о запрете ограничения ответственности за вред). Кто-то скажет, что мы начинаем толковать материальную норму, но на самом деле мы придумываем унилатерательную норму, по каким вопросам и по какой сфере будут действовать наши нормы, несмотря на то, что формально существует коллизия, что в результате разрешения коллизии стороны выбрали применимое право, но мы все равно вмешаемся. Вы навязываете сферу действия своего права. Вопрос в том, это материальная норма или она может быть коллизионной нормой? Что мешает признать отдельные унилатеральные нормы сверхимперативными и сказать, что они нужны для того, чтобы осуществлять политику государства в какой-то сфере. Тем, кто верит в деполитизированность норм частного права, я советую прочитать критику legal studies. Левые обосновывают, что эти нормы точно так же политизированы.
Поэтому для защиты публичного и частного интереса был выработан этот институт. Не для того, чтобы обойти иностранное право, а для того, чтобы навязать применение своего права в тех случаях, когда применение иностранного права является нежелательным. Но это можно решить с помощью унилатеральных норм, объяснить, что по этому вопросу применяется только lex fori. Либо, чтобы устранить нежелательный результат с точки зрения публичного порядка, но публичного порядка в некоем позитивном ключе, когда есть четкие материальные нормы. Ведь загвоздка в чем? В том, что формально сверхимперативная норма, когда мы поднимаемся на коллизионный уровень, обладает такой же императивностью, как и обычная норма. Они там могут стоять в иерархии.
Проблема разграничения сверхимперативных норм возникает, когда мы поднимаемся на коллизионный уровень. На коллизионном уровне мы видим, что не все нормы одинаково императивны, потому что по общему правилу в результате применения билатеральной нормы или выбора сторон просто императивные нормы могут устраняться. И тут надо разграничивать сверхимперативные и императивные. Проблематика именно в этом состоит. Можно играться с разными критериями: интересом, частное-публичное, характер нормы, преследуемая цель (для чего государство вводит те или иные нормы) и через эту цель обосновать применение тех или иных материальных норм для конкретного правоотношения.
Сверхимперативные нормы третьего государства.
Сейчас большая часть исследователей считают, что это все же нормы публичного права. В связи с этим возникает вопрос: если судья рассматривает дело со своими нормами, то ему болееменее все понятно, но что будет если судья применяет иностранный правопорядок и возникает вопрос о применении сверхимперативных норм из того правопорядка. Вопрос общего табу на применение чужого публичного права. Общая концепция, которая сейчас смягчается, что публичное право другого государства применять нельзя. Сейчас это меняется, есть публичные нормы экстерриториального характера, табу о четкой территориальности публичного права отпало сейчас. Даже немцы иногда заговаривают о коллизионных публичных нормах. Даже Рубанов говорит о коллизиях в сфере и публичного права. Проблема в том, что если судья рассматривает вопрос о применении иностранной сверхимперативной нормы, то эта норма будет нормой публичного права и перед вами возникнет неудобный вопрос: что делать с этой нормой, ведь формально есть запрет на применение иностранного публичного права. Поэтому в п.2 ст.1192 ГК есть формулировка об этом.
Статья 1192 ГК РФ. Нормы непосредственного применения (действующая редакция)
1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы непосредственного применения).
116

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы являются нормами непосредственного применения. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или неприменения.
О чем этот пункт? Он об сверхимперативных нормах, которые в доктрине называются «сверхимперативные нормы третьего государства», которые не относятся к lex fori. Российский законодатель списал это с Римской конценции. Почему он использует такую формулировку: «суд может принять во внимание»? Обратите внимание: не «суд применяет», а «суд может принять во внимание»? Суть в том, что когда разработчики Римской конвенции столкнулись с тем, что нужно закрепить сверхимперативные нормы в конвенции, а они могут быть и третьего государства. Поскольку в доктрине существовало жесткое понимание того, что это нормы публичного права, а формально его применять нельзя, решили выкрутиться следующим образом (в Европе любят эту формулировку) – «taking into account» (не «apply»)– у суда нет прямой обязанности применять эти нормы, у него есть некая дискреция. Если говорить о собственных сверхимперативных нормах, то судья обязан их применять. А в отношении третьих государств – у него право, но не обязанность.
Должна быть тесная связь с отношением – это первый критерий для применения иностранных сверхимперативных норм. Если мы выбираем к договору к договору применимое право, вообще не связанное с договором, а потом возникает спор, и сторона говорит, что надо применять сверхимперативные нормы этого правопорядка, другая сторона может возразить, что нет связи между применимым правом и сверхимперативными нормами, поэтому они не подлежат применению. Это взято из американских унилатеральных теорий, что когда американский суд рассматривает дело, он может учитывать позитивный интерес (governmental interests analysis), а может смотреть на негативный интерес (что будет, если не применять какое-либо право)когда разрешает коллизию. Последнее предложение в пункте 2 статьи 1192 ГК именно об этом. Еще раз, в отношении своих сверхимперативных – обязанность, в отношении иностранных – дискреция. Тут возникает вопрос: какие все-таки должны приниматься во внимание критерии? С антимонопольным правом понятно, что затрагивается рынок, и если стороны осуществляют свою деятельность за рубежом или используют злостно кипрские компании в картельных соглашениях и применяют иностранное право, все равно правопорядок вмешивается, потому что затрагивается рынок. В антимонопольном законе и законе «о стратегах» эта идея довѐрнута до логического конца, указано не просто экстерриториальный характер норм.
Сверхимперативные нормы и международный арбитраж.
Студент: есть ли случаи, когда арбитраж применяет сверхимперативные нормы
Плеханов: да.
Смотрите, с арбитражем такая штука, для него lex fori – некая условность, потому что арбитраж -фикция, lex loci arbitri – конструкция фиктивная. Я не разделяю теорию lex loci arbitri и эту идею того, что решение МКА можно отменить по месту его вынесения, для меня вообще решение отменять нехорошо, это же не государственный суд.
Студент: А зачем тогда вообще появилась эта конструкция?
Плеханов: Исторически этот принцип нужен был, чтобы государственные суды могли наблюдать за деятельность МКА. После Второй Мировой войны, когда правопорядки пошли на то, чтобы дать некую основу для возникновения МКА, Нью-Йоркской конвенции, боялись карманных арбитражей. Когда происходила либерализация и закрепление роли МКА, пришли к компромиссу, что решение МКА может быть отменено в правопорядке по месту его вынесения. Привязали некие государственные суды, чтобы они помогали МКА и осуществляли за ними контроль. Но это глупо, с точки зрения того, что арбитраж сам рассматривает вопрос о своей компетенции, что у него нет вышестоящего органа. Отмена решений МКА - это юридическая фикция, потому что даже отмененное по месту вынесения решение вы можете исполнить за рубежом, убедив суд, приводящий решение МКА в исполнение, не признавать решение государственного суда, отменяющее решение МКА. Так было в свое время с ЮКОСом по решению МКАС на 13 млрд. руб. Арбитр МКАС рассматривал спор (хотя на него и давили, но репутация дороже) вынес решение против Роснефти. Роснефть в ВАСе добилась отмены этого решения на том основании, что у арбитра был конфликт интересов, так как он за 3 года до рассмотрения дела участвовал в научной конференции, в которой одним из спонсоров была дочерняя компания ЮКОСа. Другая сторона пошла и исполнила в Голландии, они компания
117
транснациональная, взяли и исполнили против Роснефти. Статья Плеханова и Усоскина «Признание и исполнение отменѐнных по месту вынесения решений МКА» - называется не так (см. вестник МКА за 2012 год, №1). Суд в таких делах должен смотреть на мотивы решения суда, отменившее решение арбитража. В свое время я высказал такое предложение, что институт исполнения отмененного по месту вынесения решения арбитража с т.з теории игр призван дисциплинировать правопорядки, которые выбиваются, сильно отклоняются в толковании публичного порядка от Нью-Йоркской конвенции. Ведь в чем смысл отменять, если другая сторона все равно пойдет и признает в другом правопорядке? Само осознание может быть будет в некоторых вещах останавливать.
Было дело с Сарбашом, обычный спор о взыскании долга по оплате акций. МКАС взыскал. История повторяется: начали решение отменять. Сарбаш написал, что это корпоративный спор и он был неарбитрабелен. Понятно, что по ГПК под «корпоративный спор» можно подогнать что угодно. Для МКА очень хороший был этот вопрос. Вопрос о сверхимперативных нормах очень актуален, также как и вопросы коррупции МКА в некоторых юрисдикциях. Формально, поскольку lex loci arbitri – некая фикция, то трибунал МКА стоит в очень странной позиции, потому что эта фикция и решения, которые он выносит, могут по факту исполняться вообще где угодно (например ICC или LCIA). Здесь арбитры должны руководствоваться следующим:
1.насколько применимое право связано со сторонами;
2.соотношение собственного решения и сверхимперативные нормы с той территорией, где будет исполняться или будет потенциально исполняться решение;
3.насколько те или иные завяленные сверхимперативные нормы (ведь они иногда содержат некий common sense, который часто отражается международном публичном праве).
У него здесь больше свободы, но он должен учитывать больше факторов. Арбитр, получая мандат от сторон на рассмотрение дела и начинает рассматривать дело по существу, его мандатом предусмотрено, что он обязан вынести не просто решение (как в МКАСе), а исполнимое решение, в том числе в месте его исполнения.
Студент: я правильно понимаю, что после того, как суд рассмотрит спор по существу, проверка решения на непротиворечие сверхимперативным нормам должна исходить от самого суда или стороны должны об этом заявить?
Плеханов: Смотрите. В России арбитр чуть больше, чем просто арбитр - он поэт. У меня есть знакомый арбитр, который пересчитывает неустойку за истцом. Но я считаю, что арбитр этого делать не должен. Главная задача – проверить надлежащее уведомление, если нет, то предпринять все действия для этого. В России вообще проблема с уведомлениями, и дело не в Почте России. Стороны часто убегают от уведомлений и доказать, что он был надлежащим образом уведомлен, очень сложно. МКА скорее как английский процесс, где вы не устанавливаете объективную истину. Болезнь государственного процесса в РФ унаследована у немцев – установление объективной истины. У нас судья арбитражного суда устанавливает объективную истину. МКА не должен устанавливать объективную истину, оценивать надо баланс вероятностей, кто был ближе к правде, кто был убедительнее. Есть исключение, когда арбитр может проявить себя не как наблюдатель, если он явно видит, что стороны хотят получить легитимацию какой-то схемы, тогда арбитр может вмешаться. В остальных случаях арбитр не должен за сторону что-то делать. Для арбитра МКА основным источником публичного порядка и сверхимперативных норм будет либо международное право либо право стороны, где будет исполняться решение. По lex loci arbitri он тоже должен учитывать, потому что никто еще не отменил нормы об отмене решения, и если эта норма будет сильно затрагивать lex loci arbitri, то могут и по lex loci arbitri, чтобы не отменили это решение.
Студент: а квалификация по lex loci arbitri происходит?
Плеханов: нет, автономная. Понимаете, у арбитра МКА нет прямой обязанности действовать по коллизионным нормам, поэтому у него здесь полная свобода в определении применимого права. Но как правило стороны определяют применимое право, когда идут в МКА, хотя не все. Чисто утилитарный подход. Другое дело – какие факторы они учитывают при выборе применимого права.
Студент: а можно еще раз про соотношение сверхимперативных норм с публичным порядком?
Плеханов: Есть позиция, что любая сверхимперативная норма есть позитивное выражение публичного порядка. Есть позиция, что есть сверхимперативные нормы, которые выражением
118
публичного порядка не являются. На мой взгляд нельзя представить, когда они разъединяются, когда норма является сверхимперативной, но не является при этом выражением публичного порядка.
Студент: а норма, которая запрещает привлекать перевозчика к ответственности свыше реального ущерба – это же не публичный порядок, но это сверхимперативная норма.
Плеханов: это кто сказал? Первый раз слышу. Если мы будем играться со сверхимперативными нормами вот таким вот образом, то тогда и ст.333 ГК в публичный порядок надо. А то придут к нам с punitive damages, а мы их 333-ей встретим. Но все-таки ее цель для внутреннего оборота и навязывать ее международному обороту было бы не очень круто.
Каждый правопорядок по своему решает вопрос о соразмерности юридической ответственности в гражданском праве, это всегда вопрос политики права. Например, взыскание неустойки в английском правопорядке все равно выльется в вопрос исследования реального ущерба. Есть некая концептуальная идея о том, что обогащение должно быть оправдано - justified. Каждый нащупывает свой баланс. У нас по факту так сложилось, что возмещение может быть больше, чем реальный ущерб, и это не будет противоречием публичному порядку. Другой вопрос про соразмерность, он все равно может встать, но он стоит в каждом правопорядке и везде поразному решается. Есть проблема с punitive damages (карательные убытки), особенно в Европе. В Германии даже несколько докторских было защищено, что не очень нам оно и надо. По факту понятно, что под видом гражданско-правовой ответственности допускаются меры из публичного права: наказать таким образом, чтобы ему и всем другим было неповадно. На мой взгляд в этом нет ничего плохого. За попыткой запретить штрафные убытки стоит банальная человеческая зависть, что очень свойственно немцам.
Студент: у нас вот punitive damages в интеллектуальном праве… Плеханов: но это все равно не те же punitive damages.
В общем судья в каждом случае определяет степень императивности сам, потому что ст.1192 ГК говорит, что норма является сверхимперативной только если она сама на это указывает или когда это можно вывести путем толкования. На самом деле путем того, что судья определяет ее пространственную и персональную сферу действия, для нее сформулирует унилатеральную норму.
119

Лекция №12 (17.04.2019)
После прошлого занятия остались какие-то вопросы?
Студент: По иностранному элементу. Третьяков говорит, что понятие «элемент» размывается. Можете пояснить?
Третьяков С. В. Понятие иностранного элемента в МЧП, 2003. Есть на диске.
В итоге анализа конструкции иностранного элемента в МЧП представляется необходимым сделать следующие выводы: 1) Понятие иностранного элемента является относительным, обладает различной степенью интенсивности и самостоятельно определяется в рамках каждой правовой системы; 2) Необходимо констатировать некоторое ослабление роли понятия «иностранный элемент» как характеристики отношений, регулируемых МЧП, которое проявилось в: а) появлении в МЧП сверхимперативных норм, сфера применения которых не зависит от наличия в соответствующем отношении иностранного элемента; б) концепции, постулирующей необходимость решения коллизионного вопроса при применении любой нормы национального права, т.е. независимо от наличия в соответствующем отношении иностранного элемента; 3) Появление новых методов правового регулирования в МЧП привело к тому, что наличие или отсутствие иностранного элемента определяется в рамках соответствующих методов самостоятельно.
Плеханов: Не вопрос. Вообще моя позиция в том что понятием «иностранный элемент» мы пытались в свое время решить лулз, взяв его у французов. Естественно, элементом это не является.
На мой взгляд, это какое-то свойство, что объект находится за границей, что субъекты принадлежат разным государствам. Это никакой не формальный элемент отношений. Это попытка объяснить, что эти отношения не попадают под группу внутренних отношений. Насколько это удачная попытка? На мой взгляд, поскольку МЧП у нас вообще особо не развито, то вопрос особой проблемы не вызывал.
Если вам нужно с контрагентом изменить подсудность (не хотите вы в российском суде судиться). Подавать будет не наша компания, а кипрская, например, из группы компаний, мы выведем под МКАС. Это может быть и российское лицо, но с иностранными инвестициями. Понятно, что в некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что иностранный элемент формально получается есть сплошь и рядом. Об этом как раз и теория Карри. Есть формальные отношения, которые создают коллизию права, но это коллизия мнимая. А есть настоящая (где выбор стоит «или или»).
Если вы открываете 6 раздел – вы прочитаете – правила применяются тогда, когда есть иностранный элемент. А если 6 раздел – то я могу и право выбрать применимое другое (1210 ГК РФ). И поэтому мы интуитивно понимаем, что этот иностранный элемент не является универсальным, он не всегда срабатывает.
Французы честно сказали, что никакого универсального характера нету, судья должен в
каждом конкретном случае определять, носят ли отношения внутренний характер или внешний.
Студент: Мне не очень понятен п.2 ст. 1190 ГК РФ. В одном из учебников указывалось, что обратная отсылка относится к материальным нормам, а п. 2 – исключение. Мой вопрос: как определяется применимое право в этом случае?
2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица.
Плеханов: По общему правилу обратная отсылка не допускается. Когда коллизионная норма указывает на применимое право, мы должны понимать это применимое право не как все право в целом, а только материальные нормы. Исключение – личный закон физического лица. Обратная отсылка может быть таким инструментом, который хромающее правоотношение выровняет в плоскость действительности. Например, право страны отсылает к материальным нормам какого-то государства, а нормы этого государства говорят – лицо не обладает правоспособностью. Но если мы применим обратную отсылку, может получиться так, что применимым оказывается то право страны, которое считает данное лицо правоспособным. Исключение для физических лиц делается в связи с наличием отдельных специфичных элементов правоспособности в государствах.
Студент: мы будем применять нормы публичного норма (например из Закона о рынке ценных бумаг) в арбитраже?
120
