
Islamskaya_mysl
.pdf
ДЖ. ПИНК ПОИСК НОВОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ КОРАНА В XVIII–XXI ВВ. |
261 |
Именно этот аспект учения ал-Хули воплотил в своей экзегетической практике его ученик Мухаммад Ахмад Халафалла (1916–1997), что вы- звало гнев улемов и привело к отвержению его докторской диссертации и отстранению от преподавания. Он утверждал, что для того, чтобы вы- полнить свою функцию воздействия на слушателей Корана, пророческие рассказы в Коране должны быть адаптированы к словарному запасу слу- шателей, повествовательным традициям и эмоциям. Таким образом, Бог избрал повествования, которые были знакомы древним арабам и в кото- рые они верили. Несущественно, были ли они исторически реальными или нет — а Халафалла склонен считать, что нет; их совершенство про- истекает из безупречного способа их адаптации к сознанию слушателей. Халафалла никогда не сомневался в божественном происхождении текста Корана, ноегоутверждение, чтоисториивКораненесоответствовалиили не полностью соответствовали историческим фактам, воспринималось как выпад против непогрешимости Корана, а значит, и Бога.
ʻАиша ʻАбдаррахман, известная как Бинт аш-Шати (1913–1998), сту- дентка, а позже супруга ал-Хули, также писала собственные экзегетические сочинения, основываясь на воспринятых в штыки теориях ее мужа, одна- ко ей удалось избежать подобной враждебности в отношении ее работ41. Она добилась этого, выбрав для своих разборов те части Корана, которые не содержали в себе противоречий с точки зрения догматики (что было бы невозможно в случае написания развернутого комментария к Корану в це- лом), и сосредоточившись на их стилистических особенностях. Хотя она и обращает внимание на ту функцию, которую конкретные темы Корана вы- полнялидляПророкаиегообщинывопределенноевремя, всежестарается неподчеркиватьэтодотакойстепени, чтобыпоставитьподсомнениеноми- нальнуюценностькораническихвысказываний. Ееработавцеломсосредо- точена на содействии изучению литературных структур Корана42.
Сторонники литературного подхода к изучению Корана сформулиро- вали ключевой герменевтический принцип, который в последние десяти- летия имел большое значение для реформистской экзегезы и применялся различными способами для самых разных целей, — это принцип истори- зации коранического текста. Он основан на предположении, что Коран — этонепростобожественное, трансцендентноепослание, одинаковопонят- ноеиимеющеепрактическийсмыслдлявсехлюдейвовсевремена, ночто его можно понять и правильно истолковать только на фоне конкретных
41Бинт aш-Шā╙иʾ A. [ʿA.] Aт-тафсӣр ал-байāнӣ ли ал-╒урʼāн ал-карӣм. Каир, 1962–1969.
42Wielandt R. Exegesis of the Qurʾān. P. 131–134.

262 |
III. КОРАНОВЕДЕНИЕ |
исторических обстоятельств его первой аудитории. Этот принцип, вероят- но, оказал гораздо большее влияние, чем чисто литературные анализы Ко- рана, выполненные Бинт аш-Шати и другими, потому что он оказывался более продуктивным для большинства модернистских экзегетов, которые
впервую очередь интересовались правом и этикой.
Кнаиболее выразительным примерам попыток понять Коран в его историческом контексте относят те комментарии к Корану, которые ин- терпретируют суры в порядке их ниспослания, как, например, коммента- рийпалестинскогонационалистаМухаммадаʻИззыДарвазы(1888–1984) «Ат-тафсӣр ал-╝адӣс: ас-сувар мура╙╙аба ╝асаб ан-нузӯл» (1962)43.
Дарваза был убежден, что Коран имеет решающее значение для воз- рождения арабского и исламского мира и что необходим новый подход к толкованию Корана для привлечения арабской молодежи, которая была чужда традиции тафсира. Он считает, что генезис коранического посла- ния тесно связан с жизнью Пророка и что чтение сур в их хронологиче- ском порядке помогает понять эволюцию их принципов. В то время этот подход был новаторским. Таким образом, Дарваза, не являясь алимом, посчитал разумным обратиться к факихам за фетвами, которые могли бы подтвердить его метод44. Аналогичный проект был предпринят ма- рокканским философом Мухаммадом ʻАбидом ал-Джабири (1936–2010)
вкомментариях к Корану «Фахм ал-╒урʼāн ал-╝акӣм» (2008–2009). Ни один из двух авторов не обсуждал сложность установления убедитель- ной внутренней хронологии Корана, а также не учитывал возможность наличия сур, содержащих разделы или айаты из разных периодов жизни Мухаммада. Выражая сильную озабоченность историческим аспектом Корана, они не использовали свой метод для разработки герменевтиче- ской теории, которая позволила бы им выявить то содержание, которое было непосредственно связано с эпохой Пророка и, возможно, утратило свою актуальность в настоящее время.
Впрочем, со второй половины ХХ в. именно это стало целью многих мусульманских теоретиков-герменевтов. Фазлур Рахман (1919–1988), вероятно, является наиболее влиятельным и широко цитируемым совре- менным мусульманским модернистом, особенно он популярен в Турции и Индонезии, а также в среде мусульманской диаспоры на Западе. Родив- шийсявПакистане, ФазлурРахманполучилуниверситетскоеобразование
43Дарваза M. Ат-тафсӣр ал-╝адӣс: ас-сувар мура╙╙аба ╝асаб ан-нузӯл. Каир, 1962.
44Poonawala I. K. ‘Muḥammad ʿIzzat Darwaza’s Principles of Modern Exegesis: A Contribution toward Quranic Hermeneutics // Hawting G. R., Shareef A. A. (eds.) Approaches to the Qurʾān. P. 225–246.

ДЖ. ПИНК ПОИСК НОВОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ КОРАНА В XVIII–XXI ВВ. |
263 |
в Оксфорде и далее продолжил свою преподавательскую карьеру в Вели- кобритании и Канаде. Наконец, после некоторого периода жизни в Паки- стане, где он столкнулся с грубым неприятием и даже угрозами убийства, он переехал в Чикаго, где ему суждено было провести оставшиеся двад- цать лет жизни и академической карьеры. В отличие от многих других реформистских герменевтических моделей, теории, которые он предста- вил в работе «Ислам и современность: трансформация интеллектуальной традиции» (1982)45, не сосредоточены лишь на Коране и не игнорируют пророческую Сунну, а учитывают оба источника. Он критиковал предше- ствующих реформистских мыслителей за отсутствие у них целостного герменевтического мировоззрения и за их методы ad hoc. Последователь- ный и непротиворечивый взгляд на кораническое послание возможен, по его мнению, только в том случае, если интерпретация Корана основана на стройной и связной концепции исламской метафизики. На фоне такого метафизического мировоззрения Коран следует читать как единое целое, а не разбирать его атомистически, как это принято обычно.
Фазлур Рахман считал Коран прежде всего этическим текстом и по- тому стремился разработать теорию коранической этики. То, каким обра- зом ранняя мусульманская община применяла эту этику, по его мнению, может быть весьма поучительно, но не в качестве той модели, которой нужно подражать по сей день; скорее, это может служить примером того, каккораническоепосланиеможетбытьадаптированокпотребностямкон- кретного общества. Такая адаптация Корана к конкретным историческим обстоятельствам является непрерывным процессом, не имеющим фикси- рованных, непреложных решений. Откровение самого текста Корана глу- боко укоренено в конкретной исторической ситуации и отражает обстоя- тельства и психическое состояние Мухаммада и его первых слушателей. Многое из того, что содержится в Коране, — например, частые отсылки к войне и правила ведения боевых действий, — носит контингентный ха- рактер и связано с конкретной исторической ситуацией, в которой все это происходило, в то время как на другом смысловом уровне Коран описыва- ет тот этический идеал, к реализации которого должны стремиться веру- ющие. И все же данный идеал едва ли может быть полностью достигнут в какой-либо конкретный исторический момент.
Таким образом, Фазлур Рахман выступил сторонником примене- ния историко-критических методов для того, чтобы различать в Коране контингентное и идеальное. В качестве примера можно привести такие
45 Rahman F. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago, 1982.

264 |
III. КОРАНОВЕДЕНИЕ |
гендерные темы, как полигамия или развод, которые Коран не одобряет на этическом уровне, однако допускает при определенных строгих ус- ловиях, следуя, по словам Рахмана, пониманию исторической необходи- мости для той общины, которой он был ниспослан. Вместо того чтобы пытаться применять условные, контингентные предписания Корана в современную эпоху, мусульмане должны сосредоточиться на выявле- нии универсальных моральных ценностей, содержащихся в Коране, и на разработке всеобъемлющей теории социальной этики. При этом следует учитывать и пророческую Сунну. Она органически переплетена с посла- нием Корана и не может быть отделена от него. Впрочем, бо́льшая часть пророческой Сунны состоит из примеров того, как надлежит переводить моральное послание Корана в действия, соответствующие конкретному историческому контексту; они не предназначены для повторения в более поздние времена. Сегодня, по мнению Рахмана, требуется извлечение общих этических ценностей из конкретных предписаний, содержащихся в Коране и — в меньшей степени — в Сунне, а на втором этапе — вы- ведение из этих этических ценностей конкретных правил, актуальных в нашей современной ситуации46.
Наср Хамид Абу Зайд пришел к схожим выводам, хотя и исходил из иных теоретических предустановок, в значительной мере вдохновленных литературоведческими концепциями. Абу Зайд в основном ссылался на теории коммуникации, которые описывают текст как сообщение, пере- даваемое отправителем получателю в известном последнему коде. Сле- довательно, Коран как текст не может быть понят без знания этого кода, который не принадлежит к трансцендентной сфере божественного, но является человеческим средством общения. Для того чтобы послание со- храняло свой смысл, код, который был тесно связан с конкретным истори- ческим сообществом и его языком, должен быть переведен в иной код, по- нятный нам сегодня. Любая попытка прочтения и интерпретации Корана является результатом такой переводческой, а следовательно, человеческой деятельности; невозможнополучитьпрямойдоступкчистому, внеистори- ческому, божественномусмыслубезучетачеловеческогоязыкаиистории. Абу Зайд пострадал от серьезных правовых последствий и социального резонанса, вызванного его взглядами, поскольку они задели тех улемов, которые восприняли их как угрозу собственным притязаниям на правиль- ное толкование Корана47.
46Saeed A. Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qurʾan // Taji-Farouki S. (ed.) Modern Muslim Intellectuals and the Qurʾan. P. 37–66.
47Wielandt R. Exegesis of the Qurʾān. P. 135–137.

ДЖ. ПИНК ПОИСК НОВОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ КОРАНА В XVIII–XXI ВВ. |
265 |
Гораздо менее эрудированный, но очень четкий подход к исторично- сти Корана был предложен Махмудом Мухаммадом Тахой (1909–1985), суданским реформатором со светским образованием и суфийскими взгля- дами. Его книга «Аp-pисāла аc-cāнийа мин ал-ʼислāм»48 была нацелена на то, чтобы привести Коран в соответствие с принципами прав человека, гендерного равенства и демократии путем проведения различия между мекканским и мединским посланиями Корана. Согласно Тахе, мекканское послание содержит вечные ценности ислама. Но поскольку арабское об- щество VII в. не было готово понимать и применять эти ценности, Бог предоставил мединское послание, которое состоит из ясных правил, вос- ходящих к стандартам мекканского Корана, но доступных пониманию его первых адресатов и призванных подготовить общество к полному приня- тию универсальных ценностей мекканского Корана на более позднем эта- пе. Эта стадия, по мнению Тахи, наступила в XX в., так что юридические предписания и другие коранические высказывания мединской стадии — «первого послания ислама» — устарели и настала пора реализации «вто- рого послания» мекканского Корана.
Тахабылобъявленвероотступникомзасвоивзглядывнесколькихфет- вах высокопоставленных богословов и казнен за вероотступничество в 1985 г.49 Его идеи стал развивать и распространять его ученик, Абдуллахи Ахмед ан-Наим, проживающий в США.
Насущной теоретической проблемой в модели Тахи является отсут- ствие четких критериев различия между мекканскими и мединскими айа- тами в Коране. В книге Тахи это разграничение проведено довольно про- извольно, в зависимости от того, содержит ли айат идеи, которые были предварительно определены как мекканские или мединские, что приводит к замкнутому кругу рассуждений. Подобные проблемы круговых рассуж- дений неизбежно возникают в большинстве тех реформистских герменев- тических моделей, которые пытаются провести границу между вечными ценностями и устаревшими юридическими предписаниями в Коране, — в основном для того, чтобы изолировать сегменты текста, считающиеся противоречащими современным этическим нормам.
В то время как вышеупомянутые подходы склонны рассматривать исторически-критическое прочтение Корана как способ прийти к осново- полагающей, вечной истине, каким бы минимальным ни было ее содер- жание, Мухаммад Шахрур предлагает радикально субъективный способ
48Taha M. M. The Second Message of Islam. Syracuse, 1987.
49Oevermann A. Die republikanischen Brüder im Sudan: Eine islamische Reformbewegung im zwanzigsten Jahrhundert. Frankfurt, 1993.

266 |
III. КОРАНОВЕДЕНИЕ |
историзации послания Корана. В своей работе «Ал-китāб ва-л-╒урʼāн: ║ирāʼа муʻā╕ира» (1990)50 он утверждает, что любое толкование Корана, включая и то, которое было дано его первой аудиторией, имеет ограничен- нуюактуальностьизависитотисторическихобстоятельствинтерпретато- ра. Таким образом, невозможно выяснить, что на самом деле подразумева- етсявКоране; можнолишьобнаружить, чтоонможетзначитьдляэкзегета и его эпохи. Человеческое понимание Божественного послания — посто- янно развивающийся процесс, который никогда не может быть закончен, потомучточеловеческоеобществоникогданедостигнетконечнойстадии, с которой оно не может развиваться дальше. Следовательно, ни одно тол- кование не является лучшим или более правильным, чем другое, суще- ствуют лишь интерпретации, более подходящие для данного конкретного общества, чемдругие. Обращениекпрежнимэкзегетическимавторитетам бессмысленно, так как им нечего предложить современному обществу. ДажепророкМухаммад, какутверждаетШахрур, былнеболеечемэкзеге- том, которыйдавалтолкованиеКорана, подходящеедляегосообщества, и, следовательно, оно не должно быть образцом подражания для более позд- них мусульман51. Разумеется, эти утверждения подверглись ожесточенной критике со стороны широкого круга улемов и интеллектуалов.
Примечательно, что ни один из упомянутых здесь сторонников исто- ризации Корана не получил традиционного религиозного образования, а некоторые из них даже не имели гуманитарного образования. Кроме того, ни один из них не написал комментарий к Корану или работу по практической экзегезе; их внимание было полностью сосредоточено на герменевтике.
Хотя историчность Корана является важным вопросом в современной мусульманской экзегезе, сама история его текста практически не обсу- ждалась. Вопросы, связанные с целостностью текста Корана, его аутен- тичностью и процессом канонизации, не рассматривались даже самыми смелыми учеными-реформистами. До сих пор в мусульманских кругах отсутствует ревизионистский дискурс о происхождении Корана. Коран в его нынешней текстовой форме, в основном в форме каирского Корана, принят в качестве аутентичного слова Божьего, и даже варианты ║ирāʼāт редко принимаются во внимание.
Еще одним важным подходом, который уже был предложен Амином ал-Хули и которого придерживались многие более поздние экзегеты, была
50Ша╝рӯр M. Ал-китāб ва ал-╒урʼāн: ║ирāʼа муʻā╕ира. Каир, 1992.
51Syamsuddin S. Die Koranhermeneutik Muḥammad Šaḥrūrs und ihre Beurteilung aus der Sicht muslimischer Autoren: Eine kritische Untersuchung. Würzburg, 2009. P. 55–61.

ДЖ. ПИНК ПОИСК НОВОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ КОРАНА В XVIII–XXI ВВ. |
267 |
тематическая, а не каноническая или хронологическая интерпретация Ко- рана. При должной скрупулезности тематический анализ позволяет де- тально рассмотреть проблемы, связанные с ключевыми теологическими или этическими вопросами, включая очевидные противоречия в тексте. Впрочем, такой подход также может быть способом избежать обсуждения проблемных айатов, поскольку их гораздо легче проигнорировать в тема- тическом комментарии, нежели в полном тексте тафсира.
Некоторые авторы представили свои «тематические комментарии» (тафсӣр мав┌ӯʻийй) к Корану, хотя их представления о том, что должен представлять собой тематический комментарий, различаются. Например, египетские ученые Махмуд Шальтут (1893–1963) и Мухаммад ал-Газали (1917–1996) предлагали «тематические комментарии», которые рассма- тривали Коран — или, по крайней мере, его части — сура за сурой, давая обзоросновныхтемкаждойсуры, нонеотходилиполностьюотканониче- ской структуры Корана, чтобы всесторонне исследовать избранные темы. Такой подход оказался очень привлекательным для многих экзегетов со- временности. Многие недавние комментарии Корана, даже если они ус- ловно структурированы, относятся к сурам как к целостным единицам, содержат введение в основные темы каждой суры и иногда приводят де- тальное исследование совершенной логики, лежащей в основе, казалось бы, бессистемной компоновки отдельных сур52.
Более амбициозный подход применяется в «Основных темах Корана» (1980)53 Фазлура Рахмана, который, вместо того чтобы анализировать Ко- ран по сегментам, пытается представить целостное ви´дение позиции Ко- рана по центральным, избранным темам: Бог, человек как индивидуум, человек в обществе, природа, пророчество и откровение, эсхатология, Са- тана и зло, возникновение мусульманской общины. Поскольку эти темы обсуждаются в общей сложности менее чем на 150 страницах, книга мо- жет дать лишь беглый взгляд на отдельные айаты и не углубляется в дета- лизацию конкретных экзегетических проблем.
Значительно более развернутая попытка тематического подхода к Ко- рану с акцентом на социальных и этических вопросах была предложена индонезийским ученым Мухаммадом Курайшем Шихабом (род. 1944) в его работе «Вавасан ал-Куран» (1996)54, где почти на 600 страницах об-
52Mir M. The Sūra as a Unity: A Twentieth Century Development in Qurʾān Exegesis // Hawting G. R., Shareef A. A. (eds.) Approaches to the Qurʾān. P. 211–212.
53Rahman F. Major Themes of the Qurʾān. Minneapolis, 1980.
54Shihab M. Q. Wawasan al-Qurʾan: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung, 1996.

268 |
III. КОРАНОВЕДЕНИЕ |
суждаются тридцать три различные темы, включая теологические пробле- мы, практические вопросы вроде питания и аспекты религиозного обряда. По всей видимости, автор не был знаком с творчеством Фазлура Рахмана, но вдохновлялся работой египетского ученого ʻАбд ал-Хаййа ал-Фарма-
ви (род. 1942) «Ал-бидāйа фӣ ат-тафсӣр ал-мав┌ӯʻийй» (1977), который предложил свою модель разработки тематического тафсира в семь этапов. Впрочем, Шихаб критически относится к некоторым аспектам теоретиче- ского подхода ал-Фармави. Например, он предлагает, чтобы определение
иобсуждение соответствующих тем мотивировалось и обосновывалось социальными обстоятельствами и потребностями экзегета, а не только са- мим текстом. Он также считает важным уделять пристальное внимание семантическим деталям и ʼасбāб ан-нузӯл, несмотря на то что акцент де- лается на комплексном тематическом подходе. В противовес ал-Фарахи и егоученикуал-Ислахи, Шихаботвергаетпредставлениеотом, чтотемати- ческийтафсир можетприйти кистинному, однозначномуи неоспоримому смыслуайата. Тафсирможетпредоставитьцелостныйисвязныйобзорко- ранического мировоззрения по конкретной тематике, но он не предлагает прояснения аналитических тонкостей, связанных с экзегезой отдельных айатов, и, таким образом, является лишь одним из возможных продуктив- ных способов интерпретации Корана; сам Шихаб опубликовал разверну- тыый тафсӣр мусалсал. По его мнению, тематический подход дополняет
иуточняетдругиеподходы. Онособенноэффективенвтом, чтобысделать Коран актуальным для современного общества, поскольку позволяет эк- зегету вывести из коранического текста руководство к действию вместо того, чтобы препарировать его в отстраненной академической манере, — такой подход был назван Шихабом «целеориентированной экзегезой»55.
VI. ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКЗЕГЕЗА
С тематической экзегезой Корана, еще более целеориентированной, чем вышеупомянутые экзегетические разработки, связаны те направле- ния экзегезы Корана, которые сосредотачивают свое внимание на одном конкретном вопросе. Наиболее ярким примером является вопрос о поло- жении женщин. Некоторые сторонники ревизионистского толкования ген- дерных ролей в Коране одобряют использование термина «феминистская экзегеза», в то время как другие считают проблематичным ссылаться на
55 Amin M., Kusmana. Purposive Exegesis: A Study of Quraish Shihab’s Thematic Interpretation of the Qurʾan // Saeed A. (ed.) Approaches to the Qurʾan in Contemporary Indonesia. Oxford, 2005. P. 67–84.

ДЖ. ПИНК ПОИСК НОВОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ КОРАНА В XVIII–XXI ВВ. |
269 |
западную традицию феминизма, которая, по их мнению, не представля- ет собственных интересов мусульманских женщин. Проблема, с которой борются экзегеты (в данном случае ими зачастую являются женщины), заключается в патриархальном взгляде на гендерные роли, который явля- ется частью как правовых предписаний Корана, так и пре-модернистской традиции тафсира, и который также заметен во многих модернистских комментариях к Корану. Многие из них ограничиваются теми же идеями, которые в конце XIX в. пропагандировал Касим Амин, что означает, что они, в сущности, одобряют идеал европейской буржуазной семьи. Этот идеал часто обосновывается псевдонаучными аргументами биологов56.
Многие экзегеты, которых ради краткости мы будем называть феми- нистками, живут в диаспоре, некоторые из них приняли ислам. Однако подобные тенденции наблюдаются во многих частях мусульманского мира как на академическом, так и на низовом уровне, например, в форме инициатив по защите прав мусульманок. Их активность имеет две общие черты: они сосредоточены на одном вопросе — гендерном — и интерпре- тируют Коран с заранее поставленной целью прочтения его как источника гендерного равенства. В то же время они утверждают, что вся экзегети- ческая традиция, причем зачастую бессознательно, двигалась в противо- положном направлении, вчитывая в Коран предвзятые патриархальные понятия. Задача, которую ставит перед собой подобная экзегеза, — отде- ление Корана от этого патриархального наследия.
Так, родившаяся в Пакистане американка Асма Барлас (род. 1950) в своей книге «“Верующие женщины” в исламе: искореняя патриархаль- ные интерпретации Корана» (2002)57 утверждала, что патриархальные смыслы просто приписываются Корану для оправдания существующих социальных структур и что Коран можно читать таким образом, чтобы поддерживатьидеюполногоравноправияполов. АминаВадуд(род. 1952), обратившаяся в ислам афроамериканка, писала в своей работе «Коран
иженщина: перечитывая Священный Текст с точки зрения женщины» (1992)58, что пол и гендер не являются значимыми категориями в Коране
ичто Коран не предполагает какой-либо концепции гендерной дифферен-
56Klausing K. Two Twentieth-Century Exegetes between Traditional Scholarship and Modern Thought: Gender Concepts in the tafsīrs of Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāʾīand al- Ṭāhir b. ʿĀshūr’ // Pink J., Görke A. (eds.) Tafsir and Islamic Intellectual History: Exploring the Boundaries of a Genre. P. 419–440.
57Barlas A. ‘Believing Women’ in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qurʾān. Austin, 2002.
58Wadud-Muhsin A. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. Oxford, 1992.
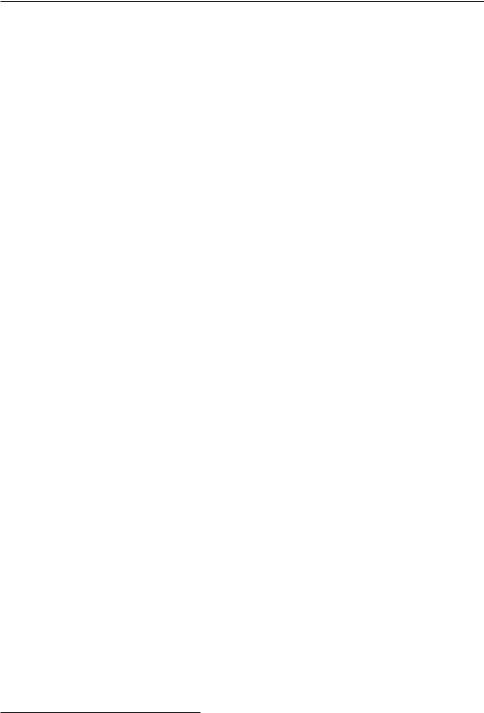
270 |
III. КОРАНОВЕДЕНИЕ |
циации. Это особенно ярко проявляется в рассказах о сотворении челове- ка, где ничего не сказано о превосходстве мужчины над женщиной или о присущей женщинам греховности.
Основываясьнаэтихпредположениях, обаэкзегетаперешликанализу конкретных коранических предписаний по таким вопросам, как развод, полигамия, супружеские права мужа и наследование. Методы, которые они использовали для этого, довольно эклектичны и явно подчинены цели обосновать вывод о том, что данные айаты не наделяют женщин положе- нием, которое было бы отлично от положения мужчин или предполагало необходимостьимподчиняться. Например, семантическийанализисполь- зуется для того, чтобы показать, что глагол ┌араба в К. 4: 34 интерпрети- руется как дающий мужчинам разрешение применять телесные наказания к своим женам лишь конвенционально, хотя сам он означает нечто иное, чем «наносить удар» или «бить». В других случаях грамматическая или синтаксическая структура айатов была интерпретирована иначе. Важную роль играют и телеологические аргументы: предоставив женщинам опре- деленные права, которыми они не обладали в доисламском обществе, Бог указал человечеству направление, в котором люди должны были разви- ваться дальше, двигаясь к повышению статуса женщин и в конечном сче- те — к достижению гендерного равенства.
Некоторое недовольство этими попытками переосмысления предпи- саний Корана, которые не всегда убедительны и иногда кажутся вынуж- денными, проявляется в работе Амины Вадуд «Гендерный джихад изну- три: женская реформа в исламе» (2006), в которой она обсудила вопрос К. 4: 34 и, в частности, проблему права мужчины на физическое наказа- ние своей жены. Указывая на усилия предыдущих экзегетов ограничить возможную суровость действий мужа или по-новому истолковать фор- мулировку айата или его намерение, она пришла к выводу, что сегодня пришло время просто отвергнуть понятие любой формы физического наказания в брачных отношениях; «то, что и как сказано в тексте, явля- ется просто неадекватным или неприемлемым, как бы много толкований ни принималось в связи с этим»59. В более поздней своей работе Вадуд также подвергла критике и свое собственное прежнее предположение о том, что в ее силах раскрыть истинный, непатриархальный смысл Кора- на, отмежевавшись от других субъективных прочтений. Итак, ее реше- ние «сказать “нет”» некоторым частям Корана представляет собой чрез- вычайно радикальный подход, которому рискнули бы последовать лишь немногие мусульманские экзегеты.
59 Wadud A. Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam. Oxford, 2006. P. 192.
