
Dukhovnaya_kultura_Kitaya_Tom_1_-_Filosofia
.pdf
Сыма Цянь, Сыма Цзы чжан. 145(?) до н.э., Сяян (к югу от совр. Ханьчэна пров. Шэньси), — 86(?) до н.э. Историк, литератор, мыслитель. Сын Сыма Таня, гл. историографа и астролога (тай ши лан) при дворе У ди, императора дин. Зап. Хань (140–87 до н.э.). Сыма Цянь учился у Дун Чжун шу и Кун Ань го.
В20 летнем возрасте начал путешествовать по стране для сбора историч. сведе ний, преданий, изучения нар. обычаев. Начал службу при дворе в должности лань чжун (чин дворцовой охраны). В 108 до н.э., через три года после смерти отца, унаследовал его пост и получил доступ к имп. архивам. Вместе с Тан Ду, Ло Ся хуном и др. учеными сановниками руководил работой по усовершенствова нию календаря, результатом к рой стал «Тай чу ли» («Календарь, [созданный в период правления под девизом] Тай чу»), обнародованный в 104 до н.э.
В99 до н.э. вступился за военачальника Ли Лина, потерпевшего поражение от сюнну (гуннов) и сдавшегося в плен, навлек на себя гнев императора, был заклю чен в тюрьму и подвергнут оскоплению. После освобождения занял должность гл. секретаря гос. канцелярии (чжун шу лан) и продолжил работу над первой в Китае историко биографич. энциклопедией, материалы для к рой начал соби рать его отец. Получив впоследствии назв. «Ши цзи» («Исторические записки») и став канонич. для кит. историографии, была завершена в 92 до н.э.
Пань Фу энь
Филос. взгляды Сыма Цяня складывались под воздействием идей разных школ: эклектич. конфуцианства, сильно повлиявшего на его философию истории и лит. теорию; эклектич. даосизма и легизма (ветви Шэнь Бу хая), определивших его общефилос., политич., социальные и экономич. взгляды; иньян цзя, наложив шей отпечаток на мысли Сыма Цяня о человеке, космосе и истории. Представ ления Сыма Цяня о задачах и приемах историографии во многом восходят к иде ям школы «Гунъян чжуань» (см. Цзин сюэ), особенно в интерпретации Дун Чжун шу. Сыма Цянь считал, что добрая воля человека, если ей помешали претвориться в действие, может воплотиться в лит. произв., к рое прославит своего автора. Моделью такой ситуации, с к рой Сыма Цянь соотносил и созда ние своего историч. труда, было для него написание Конфуцием летописи «Чунь цю», явившей «путь [истинного] царя» (ван дао) и, т.о., нереализованные потенции самого Конфуция. По Сыма Цяню, эта летопись «исправляет» мир, как гномон придает прямизну тени, к рую он отбрасывает: ее слова обладают магич. силой и устрашают нарушителей порядка. «Исправление» осуществляется посредст вом использования в «Чунь цю» особого языка. Так, по Сыма Цяню, называя двух правителей, присвоивших себе титул царя — вана [1], их княжескими титу лами, летопись тем самым порицает их; она умалчивает о нек рых историч. фак тах, если они представляют собой нарушение ритуала; прибегая к умолчаниям,
внеявной форме говорит о событиях, современных Конфуцию, и т.п. Так, со гласно учению Гунъяна, образцовый историк не только добросовестно записыва ет факты, но и «исправляет» историю во имя утверждения идеала мироустроения. Этот подход и особый язык школы Гунъяна повлияли на практику Сыма Цяня. Так, он «исправил» историч. материал, введя повествование о племенах сюнну
вразд. «Биографии», куда входили рассказы о подданных Хань, хотя правители сюнну тогда возглавляли независимое гос во. Но если Конфуция он считал твор цом — создателем «Чунь цю», то сам претендовал лишь на роль его продолжа теля, передающего дела прошлого и «упорядочивающего» предания. «Ши цзи» Сыма Цянь рассматривал как произведение теоретич. мысли, выясняющее зако номерности истории, соотношение между ее важнейшими силами — Небом (тянь [1]) и людьми, а совр. ему Китай — как итог предшествующей истории. Отмечал влияние древних правителей, перемещений столиц и переселений групп людей на образ жизни, нравы и обычаи. Делил мир на два района — ян [1] (см. Инь–ян), где живут «этические люди», китайцы, и инь [1], где обитают воин ственные, корыстные варвары и китайцы, отличающиеся воинственностью. Вслед за Дун Чжун шу считал, что правление каждой из предыдущих древних династий имело определенную нравств. специфику, соответствующую ступеням трехчленного историч. цикла (см. Сань цзяо, разд. 2). Кроме того, Сыма Цянь
СЫМА ЦЯНЬ
401

усматривал действие в истории двухфазного цикла: «природной сущности» (чжи [4]) и «утонченной формы», или «культуры» (вэнь).
Необходимость чередования чжи [4] и вэнь Сыма Цянь обосновал идеей неот вратимости «расцвета и упадка вещей», восходящей к даос. и общекультурным представлениям о поочередном расцвете противоположностей (см. Инь–ян).
Считая человеч. «природу» (син [1]) и «чувства» (цин [2]) неизменными, он исхо дил из существования единых законов нравственности для всех времен. Хотя
воснове желаний человека лежит корыстное «стремление к богатству», человек отличается от животных тем, что «лелеет в себе [природу, содержащую] пять неизменных добродетелей (у чан; см. Сань ган у чан)... таит в себе [чувства] любви и отвращения». Средства воспитания человека — «нормы поведения» (ли [2]) и ритуальная музыка. В целом разделяя мнение Дун Чжун шу о «постоянстве» «пути [истинного] царя» (ван дао), Сыма Цянь делал акцент не на подражании «древности», а на учете изменчивости историч. обстоятельств и на современно сти. Так, он доказывал необходимость брать за образец не древних правите лей, а государей «поздних времен» (идея Сюнь цзы, IV–III вв. до н.э.).
Важным историч. фактором Сыма Цянь считал воздаяние за добродетельные или дурные поступки. Оно может последовать и при жизни человека, и через много поколений. Заслуга предка становится источником благ для рода, обра зует запас его благодати (дэ [1]), к рая охраняет потомков, но этот запас посте пенно иссякает. «Путь» (дао) правящей семьи вследствие этого может прийти
вупадок, но мудрое и добродетельное правление способно восстановить благую силу дэ [1] (сю дэ). Однако воздаяние в истории совершается далеко не всегда: бывает, что дурные люди наслаждаются жизнью до глубокой старости. Закон воздаяния нормально проявляется в виде доброй или дурной славы, однако и это правило может не действовать, и долг историка — восстанавливать справедли вость по отношению к людям прошлого.
Сыма Цянь придерживался взгляда на мир, наиболее отчетливо выраженного
впостроениях Дун Чжун шу: Вселенная мыслилась как единый континуум,
вк ром мир людей и мир природы взаимосвязаны и подчинены всеобщим зако нам. Зависимость между миром небесных тел и об вом, делами управления, поведением государя, подданных и т.п. выражается в системе соответствий, под чиняющейся схемам взаимодействия сил инь–ян и «пяти элементов» (у син). Этими соответствиями Сыма Цянь объяснял различия в принципах гадания, существовавших в разных районах, особенности рельефа, определяющие черты нац. характера разных народов (напр., воинственность), судьбы истории, лично стей и династий. Движения планет могут влиять на урожай, определять судьбы войн: небесные знамения указывают, каким образом поступить правителю, и яв ляются реакцией Неба на поступки людей, прежде всего самих правителей. Сыма Цянь приводит и комментирует слова Сыма Таня о том, что школа иньян цзя предусматривает «великое [количество] предзнаменований», «множество табу и вещей, к рых следует остерегаться», а это «заставляет людей чувствовать себя связанными и многого бояться». С др. стороны, она же формулирует «вели кие [правила], как [людям] следовать четырем временам года», чего «нельзя упу стить». Эти «великие [правила]» выходят за рамки экономич. (аграрной) сферы и переносят законы природы, выраженные в универсальных системах соответст вий, на об во (см. Сяншучжи сюэ). Представления о законе воздаяния и о знаме ниях строились на идее взаимного влечения объектов «того же рода» (тун лэй): хорошее поведение (или правление) вызывает «того же рода» отклик со сторо ны Неба — счастье, награду; дурное поведение влечет отрицательную реак цию Неба и т.п. Сыма Цянь признавал вмешательство Неба в дела людей, объ ясняя «повелением Неба» (или «небесным предопределением» — тянь мин; см. Мин [1]) то, что не мог объяснить исходя из своих представлений о зако номерности, — смену династий, нарушения закона воздаяния, редкостное везе ние и т.п. Понятия «Небо» и «повеление Неба» у него внутренне противоречивы. С одной стороны, «путь Неба» — законосообразная связь, к рую необходимо учитывать людям, с другой — перед «повелением Неба» могут быть бесплодны всякие усилия человека.
402

При этом Сыма Цянь оставлял за человеком опред. сферу деятельности, в пре делах к рой необходимы сознательные усилия. Действия человека, прежде всего правителя, должны «удовлетворять» все вещи и существа мира, гибко приспо сабливаться к переменам обстоятельств, развитие к рых подчиняется всеобщим законам расцвета и увядания. Только так можно стать «повелителем всех вещей». В целом филос. взгляды Сыма Цяня эклектичны и отражают различные идео логич. тенденции его эпохи.
** Конрад Н.И. Полибий и Сыма Цянь // ВДИ. 1965, № 4 (то же: он же. Запад и Восток. М., 1972, с. 47–76); Кроль Ю.Л. Сыма Цянь — историк. М., 1970; он же. О влиянии «ассоциативного мышления» на «Записи историка» // Историко филологические исследования. М., 1974; он же. Литературная теория и литературная практика Сыма Цяня («Ши цзи» и представления школы Гунъян о воле) // История и культура Китая. М., 1974; он же. О любви Сыма Цяня к необыч ному // XIII НК ОГК. Ч. 1. М., 1982; он же. Некоторые наблюдения над нумерологическим аспектом ранних «образцовых историй» (чжэн ши) // ПП и ПИКНВ. Ч. 1. М., 1987; он же. К проблеме объ ективности древнекитайского. историка // ПП и ПИКНВ. Ч. 1. М., 1991; Ли Чан чжи. Сыма Цянь чжи жэньгэ юй фэнгэ (Личность и худо жественный стиль Сыма Цяня). Шанхай, 1949; Ми Чжэнь хуай. Сыма Цянь. Шанхай, 1955; Се Цзе минь. Сыма Цянь. Пекин, 1959; Сыма Цянь: сюань цзы «Хань шу» (О Сыма Цяне: извлечения из «Истории [династии] Хань»). Пекин, 1985; Сяо Ли. Сыма Цянь пин чжуань (Критическая биография Сыма Цяня). Тунляо, 1986; Чжэн Хао шэн. Сыма Цянь нянь у (Погодичная биография Сыма Цяня). Шанхай, 1956.
См. также лит ру к ст.: «Ши цзи».
Ю.Л. Кроль
Сы сян — «четыре символа». Нумеролого методологич. и онтолого космологич. термин кит. философии, восходящий к приписываемой Конфуцию, но ре ально сложившейся, вероятнее всего, в V–III вв. до н.э. комментирующей части «Чжоу и» — «Си цы чжуани» («Предание привязанных афоризмов»), где изложено учение о замкнутой, состоящей из 64 осн. ситуаций (гекса грамм — гуа [2]) структуре постоянно и циклически изменяющегося мира: «Перемены имеют Великий предел (тай цзи). Это рождает двоицу образцов (инь [1] и ян [1]; см. Инь–ян). Двоица образцов (лян и) рождает четыре сим вола (сы сян). Четыре символа рождают восемь триграмм (ба гуа)» («Си цы чжуань», I, 11).
В ицзинистике как центр. части методологич. «учения о символах и числах» (сяншучжи сюэ) сы сян имеет несколько образных и понятийных интерпре таций. Графически сы сян изображаются в виде всех четырех возможных сочетаний двух черт — прерванной и целой, представляющих силы инь–ян. Им соответствуют такие элементы «преднебесного» (сянь тянь — априорно го) расположения гексаграмм, как великая и малая инь [1], великий и ма лый ян [1] (Шао Юн), или инь [1] и ян [1], твердое и мягкое (Шао Юн), или мантич. термины «счастье» (цзи [9]) и «несчастье» (сюн), «раскаяние» (хуй [3]) и «сожаление» (линь) (Ван Фу чжи), или парные категории «счастье– несчастье», «изменение–превращение» (бянь хуа), «раскаяние–сожаление», «твердое–мягкое» (ган жоу) (Чжан Цзай), или четыре этапа гадательного процесса по гексаграммам (Хуй Дун, XVII–XVIII вв.). Согласно основному онтолого космологич. истолкованию, сы сян — это четыре времени года (Юй Фань, II–III вв.; Чжан Цзай), но также и четыре элемента из пяти (у син): металл, дерево, вода, огонь (Кун Ин да, VI–VII вв.).
** Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994; Чжоу Цзунхуа. Дао И Цзина. Киев, 2000, с. 23–26; Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1997, указ.
А.И. Кобзев
СЫ СЯН
403
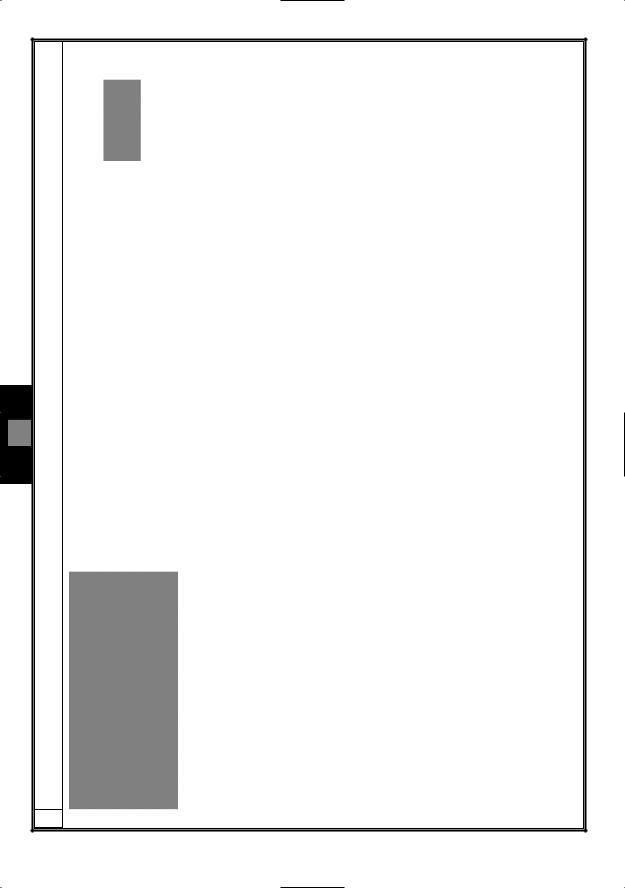
СЭН ЧЖАО
404
Сэн чжао. 384, г. Чанъань (совр. Сиань пров. Шэньси), — 414. Буд. мысли тель, монах. Биографич. данные содержатся в соч. Хуй цзяо (кон. V — VI в.) «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов», цз. 6). По причи не бедности семьи был вынужден зарабатывать на жизнь переписыванием книг, по к рым самостоятельно изучил историю и кит. канонич. произведе ния, особенно Лао цзы и Чжуан цзы. Под влиянием «Сутры о Вималакирти», к рую прочел в переводе, выполненном еще до Кумарадживы, вступил в мона шескую общину и начал изучать «Вайпулья сутры» (т.н. «Развернутые сутры», кит. фан дэн — общее назв. махаянских сутр) и Трипитаку («Сань цзан»). Узнав о Кумарадживе, направился в г. Гуцзан (в Лянчжоу, в IV–V вв. — цар ство на территории совр. пров. Ганьсу) и примкнул к его ученикам. Сопро вождал учителя до Чанъани, участвовал в его переводческой деятельности. Кумараджива высоко оценил соч. Сэн чжао «Божэ у [чжи] лунь» («Рассуж дения о непознаваемости праджни») в две с лишним тыс. знаков. Через Лю И миня, ученого мирянина, жившего на горе Лушань, с соч. Сэн чжао позна комился также один из ведущих буддистов того времени Хуй юань. В это же время Сэн чжао составил «Бу чжэнь кун лунь» («Суждения об отсутствии подлинной пустоты»; частичн. рус. пер.: К.Ю. Солонин, 1993), «У бу цянь лунь» («Суждения об отсутствии изменения вещей»), предисловия и коммен тарии к нескольким сутрам. После смерти Кумарадживы Сэн чжао написал «Суждения о безымянности нирваны» («Непань у мин лунь»). Др. соч.: «Цзун бэнь и» («Основание учения»; рус. пер.: К.Ю. Солонин, 1993), «Цзюмоло шэнь фа ши («Учитель Дхармы Кумараджива»), «Да Лю И минь шу» («Ответное письмо» Лю И миню»). На рубеже южн. династий Лян (502–557) и Чэнь (557–589) его произв. были объединены в сб. «Чжао лунь» («Суждения [Сэн ]чжао») (англ. пер.: W. Liebental, 1968).
Философ. взгляды Сэн чжао основываются на концепциях «пустоты» (кун [1]), «двух истин» (эр ди), «условности» (цзя [3]), смысл к рых постигается не посред ством логич. умозаключений, а благодаря праджне (божэ) — мудрости, рас крывающей подлинную основу мироздания. В «Божэ у [чжи] лунь», одном из первых кит. соч., посвященных буддизму махаяны, рассматриваются фунда ментальные идеи мадхьямики. Праджня — это священное знание, мудрость мудрых. С ее помощью постигается «подлинная истина» (санскр. парамартха сатья, кит. чжэнь ди), не познаваемая обычным путем, путем слов и знания. То, что освещается с помощью праджни, не имеет облика. Это непознаваемое, не имеющее облика, является «нереальностью сознания, реальностью отра жения». Сознание не обладает целостностью, и в силу этого оно не может познать истинную реальность. Потому оно «нереально», «пустотно» (сюй). Вещи отличаются внеш. разнообразием, но в их основе лежит пустая (кун [1]) собств. природа. Вследствие этого они лишены облика (у сян), совпадают с истинной реальностью и, следовательно, являются непознаваемыми.
Всоч. «У бу цянь лунь» рассматривается хинаянская идея «всеобщего непо стоянства». Сэн чжао понимает непостоянство как движение, единое с покоем. Ошибка последователей хинаяны, по мнению Сэн чжао, заключается в том, что они не осознали этого тождества. В учении Нагарджуны (II в.) это тожде ство выводится из теории «восьми отрицаний» (см. Ба бу чжун дао) в форме положения «не приход, не уход» (бу лай, бу цюй).
Втрактате «Бу чжэнь кун лунь» Сэн чжао указывает на связь понятий «непод линного» (бу чжэнь) и «условного» (цзя [3]). «Условные» имена — это своеоб разный щит, которым прикрываются «неподлинные» вещи. «Неподлинность» вещей проистекает из «пустоты» их собств. природы. Собств. природа «пус тоты» также «пуста», поэтому и она обладает качеством «неподлинности». Это утверждение о «неподлинности пустоты» (бу чжэнь кун) было новым для того времени и шло вразрез с пониманием «пустоты» (кун [1]) как простого «отсутствия» (у [1]) вещей. В связи с этим Сэн чжао анализирует соотношение таких фундамент. понятий, как «наличие» (ю [1]) и «отсутствие» (у [1]; см. Ю–у). «Наличие» и «отсутствие» — две стороны одного целого, взаимосвязанные величины. «Наличие» означает существование вещей как явлений, «отсутст
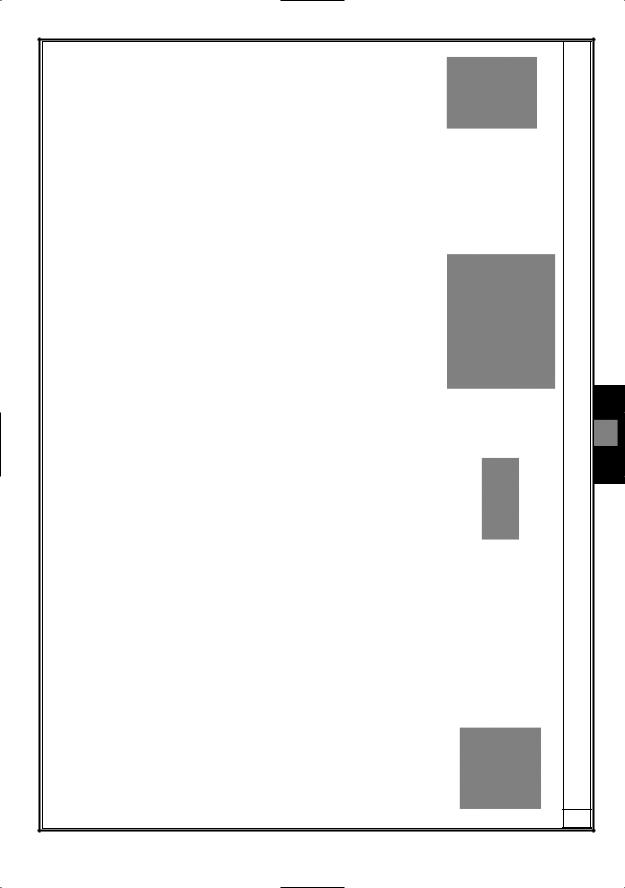
вие» указывает на отсутствие собств. природы вещей. В этом также суть «отсутствия подлинной пустоты». Сэн чжао критикует хинаяну за то, что она занимается «анализом категорий для понимания пустоты».
«Непань у мин лунь» посвящено нирване (см. Непань) и путям приближения к ней. Пути достижения просветления различны, так же как и пути к истине. Их невозможно выразить словами и представить. Продвижение к нирване включает в себя два этапа: первый — «постепенный» (цзянь [6]), второй — «внезапный» (дунь [2]; см. Дунь у).
Сэн чжао является одной из ярчайших фигур раннего кит. буддизма. В своей философии он соединил инд. буд. идеи, прежде всего мадхьямики, с традиц. кит. мышлением. Его соч. впоследствии неоднократно цитировались и комментирова лись. Сэн чжао оказал влияние фактически на все школы кит. буддизма. Счита ется одним из представителей школы саньлунь (см. Саньлунь цзун), его высказыва ния и отрывки из сочинений вошли также в чаньские сборники (см. Чань школа).
* Чжао лунь (Суждения Чжао) // ТСД. Т. 45, № 1858; Сэн чжао. Трактаты / Пер. К.Ю. Солонина // Буддизм в переводах: Альманах. Вып. 2. СПб., 1993; Религии Китая: Хрестоматия / Сост. Е.А.Торчинов. СПб., 2001; Хуай цзяо. Жизнеописания достойных монахов // Пер. М.Е. Ермакова. Т. II. СПб., 2005, с. 101–106; Liebental W. Chao Lun: The Treatises of Seng chao. Oxf., 1968; ** Фэн Ю лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998; Эйдлин А.И. Относительно аутентичности трактата Сэнчжао «О безымянности нирваны» // IX НК ОГК. Ч. 1. М., 1978; Тан Юн тун. Хань Вэй лян Цзинь Нань Бэй чао фо цзяо ши (История буддизма [в эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Северных и Южных династий). Пекин, 1983; Berman M. Time and Emptiness in the Chao Lun // Journal of Chinese Philosophy. Honolulu, 1997, vol. 24; Robinson R.Н. Early Madhyamika in India and China. L., 1967.
М.В. Анашина
Сюань сюэ — «учение о таинственном», «учение о сокровенном». Филос. течение III–IV вв., в зап. лит ре часто называемое «неодаосизмом» и пред ставляющее собой своеобразный синтез даосизма и конфуцианства, испытав ший также влияние протологич. методологии «школы имен» (мин цзя) и буд. метафизики (см. Буддизм).
Один из его основоположников Хэ Янь (кон. II – III в.) предлагал, «опираясь на Лао[ цзы], проникать в конфуцианство». Специфику учения определила разработка онтологич. проблематики, выделявшейся из традиц. для кит. фило софии погруженности в космологию, с одной стороны, и антропологию — с другой, что иногда квалифицируется как уход в «метафизику и мистику», а бином сюань сюэ понимается как «таинственное учение» и используется
всовр. яз. как термин «метафизика» или «мистика». Осуществлялось это гл. обр. в форме комментариев к конф. и даос. канонам (см. Цзин–вэй): «Чжоу и», «Лунь юй», «Дао дэ цзин», «Чжуан цзы» (см. Чжуан цзы), к рые впоследствии сами стали классическими. Трактаты «Чжоу и», «Дао дэ цзин» и «Чжуан цзы»
вэту эпоху назывались «тремя таинственными» (сань сюань).
Давшая название «учению о таинственном» категория сюань («тайна, таинст венное, сокровенное, непостижимое, мистическое») восходит к первому пара графу «Дао дэ цзина», в к ром она означает сверхъестеств. «единение» (тун [3]) «отсутствия/небытия» (у [1]) и «наличия/бытия» (ю [1]; см. Ю–у). В свя занном с даосизмом древнейшем медицинском трактате «Хуан ди нэй цзин» («Канон Желтого императора о внутреннем», III–I вв. до н.э.) подчеркнута процессуальность, входящая в понятие сюань: «Изменения и превращения суть деятельное проявление (юн [2]). В [сфере] небесного — это таинственное (сюань), в [сфере] человеческого — это дао, в [сфере] земного — это превращение (хуа). Превращение рождает пять вкусов, дао рождает разумность (чжи [1]), таин ственное рождает дух (шэнь [1])». В центр филос. авансцены категорию сюань выдвинул Ян Сюн, посвятивший ей свой гл. труд «Тай сюань цзин» («Канон Великой тайны»), к рый представляет собой альтернативное продолжение
СЮАНЬ СЮЭ
405
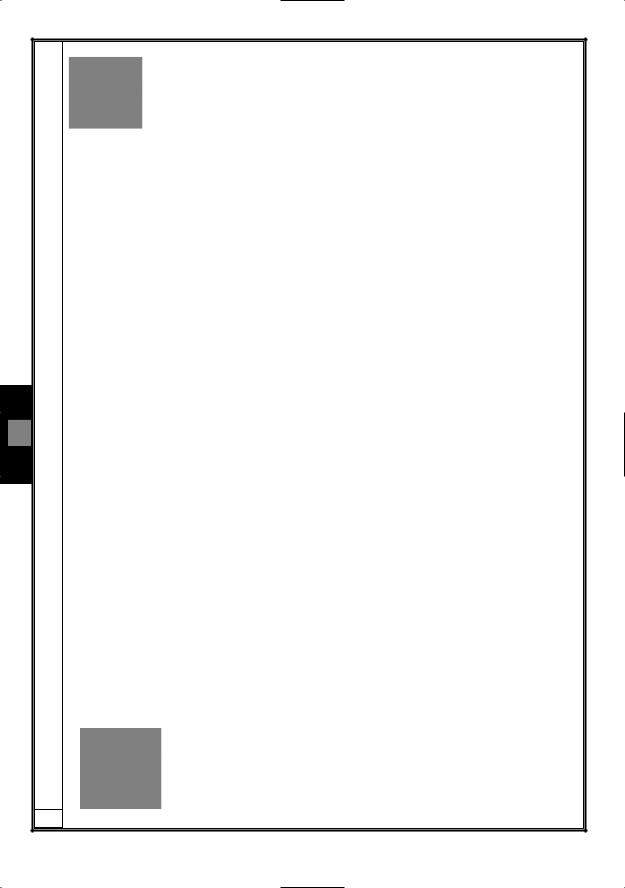
«Чжоу и», т.е. универсальную теорию мировых процессов, и трактует дао, «пустое по форме и определяющее путь (дао) вещей», в качестве ипостаси «тайны», понимаемой как «предел деятельного проявления» (юн чжи чжи). Как показывает история категории сюань, знаменуемая ею «тайна» обще мирового взаимодействия вещей конкретизируется в диалектике «наличия/ бытия» и «отсутствия/небытия», «телесной сущности» (ти [1]) и «деятель ного проявления» (юн [2]). Именно эти понятийные антиномии и оказа лись в центре внимания «учения о таинственном», в к ром, в свою очередь, произошла внутр. поляризация, обусловленная контроверзой «теории пре вознесения отсутствия/небытия» (гуй у лунь) и «теории почитания наличия/ бытия» (чун ю лунь).
Хэ Янь и Ван Би (III в. н.э.), исходя из определений дао и тезиса «наличие/ бытие рождается из отсутствия/небытия» в «Дао дэ цзине» (§ 40), осуществили прямое отождествление дао с «отсутствием/небытием», трактуемым как «еди ная» (и [2], гуа [1]), «центральная» (чжун [1]), «предельная» (цзи [2]) и «главен ствующая» (чжу [1], цзун [4]) «первосущность» (бэнь ти), в к рой совпадают друг с другом «телесная сущность» и ее «деятельное проявление».
Развивая тезис «Дао дэ цзина» (§ 11) об «отсутствии/небытии» как основе «деятельного проявления», т.е. «использования», всякого предмета, круп нейший представитель «учения о таинственном» Ван Би признал возмож ность для «отсутствия/небытия» выступать не только в качестве юн [2], но и в качестве ти [1], т.о. в комментарии к § 38 «Дао дэ цзина» он первым ввел
вфилос. оборот прямую категориальную оппозицию ти–юн. Его последова тель Хань Кан бо в комментарии к «Чжоу и» достроил до конца эту поня тийную конструкцию из двух пар коррелятивных категорий соотнесением «наличия/бытия» с юн [2].
Гл. теоретич. оппонент Ван Би — Пэй Вэй (III в.), в трактате «Чун ю лунь» («О почитании наличия/бытия») утверждавший онтологич. примат «наличия/ бытия» над «отсутствием/небытием», настаивал на том, что именно первое представляет собой ти [1] и все в мире возникает благодаря «самопорожде нию» (цзы шэн) из этой телесной сущности.
Сян Сю (III в.) и Го Сян (III–IV вв.) заняли компромиссную позицию призна ния тождественности дао с «отсутствием/небытием»: «Дао везде, и везде оно ничто», но отрицали исходное порождение «наличия/бытия» из «отсутствия/ небытия». Более того, «не только отсутствие/небытие не может стать наличием/ бытием, но и наличие/бытие не может стать отсутствием/небытием». Подоб ная позиция устраняла возможность креационно деистической трактовки дао. Согласно Го Сяну, вечно и постоянно существующее «наличие/бытие» представляет собой естественно и спонтанно гармонизированное множество «самодовлеющих» (цзы дэ) «вещей» (у [3]), к рые, обладая «собств. приро дой» (цзы син; см. Син [1]), «самопорождаются» и «самостоятельно превра щаются» (ду хуа).
В зависимости от признания всепроникающей мощи «отсутствия/небытия»
в«теории превознесения отсутствия/небытия» или трактовки порождения «наличия/бытия» лишь как «самопорождения» вещей в «теории почитания наличия/бытия» «совершенномудрие» сводилось к воплощению в его носителе (желательно государе) «отсутствия/небытия» в качестве собств. телесной сущ ности (ти у) или к «недеянному» (у вэй), т.е. безынициативному, и «непредна меренному» (у синь), т.е. безустановочному, следованию вещам в согласии с их «естественным» (цзы жань) самодвижением.
«Учение о таинственном», развивавшееся в аристократич. кругах, было связано с диалогич. традицией умозрительных спекуляций — «чистых бесед» (цин тань) и эстетизированным культурным стилем «ветра и потока» (фэн лю), оказавшим значительное влияние на поэзию и живопись. В обл. филосо фии сыграло роль понятийно терминологич. моста, по к рому буддизм про ник в недра традиц. кит. культуры. Это взаимодействие привело к упадку «учения о таинственном» и расцвету буддизма, к рый также мог называться
406

сюань сюэ. В дальнейшем «учение о таинственном» оказало существ. влия ние и на неоконфуцианство.
** Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1983; он же. Се Линъюнь. |
||
М., 1980; Малявин В.В. Даосизм как философия и поэзия в раннесредне |
||
вековом Китае // Государство и общество в Китае. М., 1978; он же. Жуань |
||
Цзи. М., 1978; Петров А.А. Ван Би (226–249) // Из истории китайской |
||
философии. М.–Л., 1936; Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко религи |
||
озного описания. СПб., 1998; Фэн Ю лань. Краткая история китайской |
||
философии. СПб., 1998; Тан Юн тун. Вэй Цзинь сюань сюэ луньгао |
||
(Очерк сюань сюэ [периодов] Вэй и Цзинь). Пекин, 1962; Balazs E. Entre |
||
rеvolte nihiliste et еvasion mystique: Les courants intellectuals en Chine au III |
||
siеcle |
|
P., 1968, p. 108–135; |
de notre еre // Balazs Е. La Bureaucratie cеleste. |
||
Holzman D. Les Sept sages du bosquet de bambous et la sociеtе chinoise de leur |
||
temps // T’P. 1956, № 44, p. 317–346. |
|
|
|
|
А.И. Кобзев |
Сюй — «пустота», также «пустое», «нереальное», «ложное». Категория кит. |
|
СЮЙ |
|
|
|
философии, выражающая понятие абс. вместимости в онтологич. и гносео |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
психологич. смысле. Составляет стандартную оппозицию с понятием ши [2] — |
|
|
|
|
|
«наполненность, полнота», также «реальность, основательность». Первона |
|
|
|
|
|
чально понятие сюй разрабатывалось гл. обр. в протодаос. трактатах. «Дао дэ |
|
|
|
|
|
цзин» (IV в. до н.э.) представляет сюй как атрибут дао, корреспондирующий |
|
|
|
|
|
с понятием «покой» (цзин [2]; см. Дун–цзин) и определяемый как «постоянство |
|
|
|
|
|
знания» или «знание постоянства» (чжи чан; § 16). У Чжуан цзы (IV–III вв. |
|
|
|
|
|
до н.э.) «пустота» как прообраз целостности мироздания означает гл. обр. зна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менующее присутствие дао в человеч. сознании состояние разума и психики — |
|
|
|
|
|
полную отрешенность («сердечное воздержание»). В «Чжуан цзы» впервые |
|
|
|
|
|
прозвучала ставшая впоследствии популярной в даосизме формула «пустотное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещение порождает белизну/свет» (сюй ши шэн бай), подразумевающая |
|
|
|
|
|
духовное постижение «света» дао «опустошенным» (безгранично вместимым) |
|
|
|
|
|
«сердцем» (синь [1]) (гл. 4). Там же впервые появляется популярный впослед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ствии термин тай сюй («Великая пустота»), служащий метафорой пространст |
|
|
|
|
|
венно временной безграничности (гл. 22). Понятие тай сюй было конкрети |
|
|
|
|
|
зировано уже в III–II вв. до н.э. в древнейшем медицинском трактате «Хуан |
|
|
|
|
|
ди нэй цзин» («Канон Желтого императора о внутреннем»), обозначив некое |
|
|
|
|
|
пространство между человеком и Землей как онтологич. уровнями. Это услов |
|
|
|
|
|
ное пространственно временное «уединенное вместилище Великой пустоты» |
|
|
|
|
|
(тай сюй ляо го) служит «субстанциальным началом (цзы чу) тьмы вещей» и одно |
|
|
|
|
|
временно — «итогом пяти трансформаций (у юнь; см. У син)», завершающих |
|
|
|
|
|
бытие высшего природного начала — Неба (тянь [1]). |
|
|
|
|
|
В«Гуань цзы» (IV–III вв. до н.э.; см. Цза цзя) сюй — выражение Неба и суб станциальное «начало тьмы вещей». Там же понятие сюй входит в определение дао — «пустотное и не имеющее форм» (сюй у син; см. Син [2]).
Так же в энцикл. памятнике цза цзя «Люй ши чунь цю» (III в. до н.э.) сюй оз начает «чистоту и проясненность [ума]» (цин мин), благодаря к рым «недея ние» (у вэй) становится равным продуктивной активности — «отсутствию не должного действия» (у бу вэй).
Втрактате хуанлао сюпэпай «Цзин фа» (V–III вв. до н.э.) сюй — это изна чально нерасчлененное «одно» (и [2]), некая «пелена мрака» (ду мин), из к рой «рождается тьма вещей». «Пустота» парадоксальным образом «реальна», «напол ненна» (ши [2]); «познание реальности пустоты» адекватно состоянию «Вели кой пустотности» (да сюй), к рое отождествлено с «пронизывающим Небо и Землю семенем (цзин [3])» — всепорождающим началом. Даже казалось бы «видимое и познанное дао» на самом деле «пустотно, и в нем отсутствует присутствие [чего либо]» (сюй у ю; см. Ю–у). Становление «форм и имен» (син мин) в ходе космо и социогенеза не препятствует такому осуществлению дао в социальной жизни, к рое заключается лишь в «наблюдении за Поднебесной»
407

и«невмешательстве [ни во что]» (у чжи), «[неприсутствии] нигде» (у чу), «не деянии» (у вэй), «отсутствии эгоистичной [заинтересованности]» (у сы). Т.о., государь соединяет функции управления с функциями и характером дейст вия дао, реализуя его «пустотность» (сюй) в отсутствие любой произвольной активности, не сообразной дао.
Вконф. мысли (см. Конфуцианство) категория сюй нашла место, начиная с трак тата «Сюнь цзы» (IV–III вв. до н.э.; см. Сюнь цзы). «Пустотность» определяется в нем как один из атрибутов сознания и психики «сердца», делающих возмож ным познание дао. Познание осуществляется благодаря тому, что «сердце» достигает «пустотного единства и [т.о.] покоя» (сюй и эр цзин) (гл. 22). «Пустот ность» здесь подразумевает также отсутствие разделения сознания, психики
иобъекта, а «покой» — выход за границы обычного способа мышления с его бес порядочными ассоциациями, хаотичной сменой мыслительных конструкций
исубъективными умозаключениями. Достижение «пустотного единства и покоя» означает приведение разума в состояние «великой чистоты и просветленности» (да цин мин). Сюй обеспечивает усвоение новых знаний т.о., что ему не препятст вуют уже имеющиеся знания (там же). Дун Чжун шу (II в. до н.э.) подразумевал под сюй гл. обр. «рафинированную (семенную) утонченность» (цзин вэй) универ сальной субстанции — «пневмы» (ци [1]). Историограф Сыма Тань (II в. до н.э.) определял сюй как «постоянство (чан [2]) дао» («Ши цзи», цз. 130) — коренное отличие дао от любых других сущностей.
ВVII в. даос. мыслитель Чэн Сюань ин предвосхитил преимуществ. корреля цию понятия «Великая пустота» в неоконфуцианстве, определив тай сюй как «принцип (ли [1]) глубинной сокровенности», т.е. структурообразующее начало, соотносящееся с высшим онтологич. уровнем. Один из гл. создателей неокон фуцианства Чэн И (XI–XII вв.) сопрягал понятие тай сюй с категорией «прин цип», имея в виду логич. первичность «принципа» по отношению ко всему сущему: «В Поднебесной пустота и наполненность исходят из принципа» («И шу», цз. 3). Особо важную роль понятия сюй и тай сюй играли в построениях другого основоположника «учения о принципе» (ли сюэ) — Чжан Цзая (XI в.). Он усма тривал в сюй исходное состояние «пневмы» — «глубочайшую единую бесфор менность». Понятию «Великая пустота» Чжан Цзай однозначно придал высший онтологич. статус как «отсутствию [даже] отсутствия/небытия» (у у; «Чжэн мэн», гл. «Тай хэ»), «исконной телесности пневмы» (ци чжи бэнь ти), «[высшей] реаль ности Неба» (тянь чжи ши). В то же время «Великая пустота» есть «высшая реаль ность» сознания и психики «сердца», а как природная сфера и порождающее начало тождественна Небу. Тай сюй у Чжан Цзая в равной степени субстанция («Великая пустота») и функция («Великая пустотность»): она проявляется как «чистота» (цин [1]), означающая «отсутствие преград» (у ай) между чем либо в ней (ср. учение буд. школы хуаянь; см. Хуаянь цзун) и тем самым свидетельст вующая о своей «духовной» (шэнь [1]) природе («Чжан цзы юй лу»). В развитие учения Чжан Цзая в нач. XVI в. Ван Тин сян распространил доктрину «Великой пустоты» на сферу антропологии, определяя тай сюй как «коренное начало ин дивид. природы» (син чжи бэнь чу; см. Син [1]) («Шэнь янь», гл. «Дао ти пянь»). Крупнейший представитель неоконф. «учения о сердце» (синь сюэ) Ван Ян мин (кон. XV – нач. XVI в.) акцентировал гносеологич. «всеохватность» сюй как универсального вместилища разума: благодаря сюй индивид. сознание спо собно вместить все, что может увидеть, услышать, представить и помыслить человек. Врожденное интуитивное «благое знание» (лян чжи) Ван Ян мин опре делял через сравнение с тай сюй и дефиницию сюй в § 16 «Дао дэ цзина» — «постоянство знания» («знание постоянства»). Не Бао, ученик Ван Ян мина, усматривал в сюй синоним «безмятежности» (ань [1]) как средства «проникно вения в восприятие всей Поднебесной» и «покоя» (см. Дун–цзин), главенство к рого (в гигиене сознания и психики) позволяет «овладеть движением Под небесной», т.е. постичь тайны правильного использования и регулирования природных и социальных процессов.
Тяготевший к материализму Ван Фу чжи (XVII в.) определял сюй как «естест венность» (цзы жань), действующую в пространстве «двух реальностей», т.е.
408

субстантивированных в общекосмич. «пневме» дуальных космич. сил инь–ян («Лао цзы янь», чжан 16, коммент.). «Пустотность» (сюй) и «наполненность» (ши [2]) он толковал как разные состояния «пневмы»: «наполненность не пре пятствует пустотности», к рая остается всеобъемлющей, а «познание пустот ности» есть подлинное «всеобъемлющее наполнение [разума]» (цзе ши) («Сы вэнь лу», гл. «Нэй пянь»). В «Великой пустоте» Ван Фу чжи усматривал изнач. субстанцию, определяющую возможность гармоничных и регулярных «пнев менных» (ци [1]) трансформаций, именуя ее «коренной телесностью гармо ничной циркуляции пневмы». В то же время понятие тай сюй у него имеет психогносеологич. измерение — «дух (шэнь [1]), наполняющий сердце» («Чжан цзы чжэн мэн чжу», гл. «Тай хэ пянь»).
В построениях кит. мыслителей буддистов применялись термины сюй кун (или кун сюй; см. Кун [1]) — «абс. пустота», основание спонтанного постиже ния собственно «природы будды» (см. Хуй нэн), а также сюй лин — «чистый ум», выражающий идею отсутствия индивид. «я», или индивид. души.
Оппозиция сюй — ши [2] играла важную роль в традиц. кит. науке и сохраняет свое значение в теории кит. медицины как одна из базовых характеристик психич. и физиологич. процессов и состояний.
** Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII в. Ван Чуаньшаня. М., 1976, с. 103; Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и клас сическая китайская философия. М., 1983; Малявин В.В. Чжуан цзы. М., 1985; Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве («Хуайнаньцзы» — II в. до н.э.). М., 1979, с. 117, 121, 140–142, 167.
А.Г. Юркевич
Сюй Фу гуань. 1903, Сишуй пров. Хубэй, — 1982, Сянган. Историк кит. филос. и общественно политич. мысли, представитель нового конфуцианства. В 1920 поступил в педагогич. ин т в Учане. В 1926 присоединился к 7 й Народно революц. армии, участвовавшей в Сев. походе. В 1928–1931 жил в Японии, изу чал экономику, затем прошел курс военного училища. Вернувшись на родину в 1931, служил в гоминьдановских войсках, был командиром полка, командо вал округом. После ухода в 1947 в отставку возглавил в Нанкине ежемесячник «Сюэ юань» («Истоки учения»). После отъезда из Китая в мае 1949 создал в Сян гане (Гонконге) журн. «Миньчжу пинлунь» («Демократическое обозрение»), выходивший до авг. 1966. В журн., пропагандировавшем возрождение кит. куль туры и «нац. самоидентичности», печатались многие представители нового конфуцианства. В 50 х гг. преподавал в Сельскохозяйств. академии в Тайчжуне (Тайвань), был проф. и деканом ф та кит. яз. Ун та Дунхай. После выхода на пенсию в 1969 преподавал в Кит. ун те и Ин те Новой Азии (Сянган).
Сюй Фу гуань не пытался построить собств. культурно филос. систему, поставив своей целью совр. прочтение кит. традиц. культуры. Значительное внимание Сюй Фу гуаня к критич. осмыслению традиции авторитарной политич. власти императора дает основания охарактеризовать его как пред ставителя либерального крыла в новом конфуцианстве. Сам Сюй Фу гуань определял свою позицию как «гуманитарный либерализм» (жэньвэньчжуи ды цзыючжи). Он полемизировал с Цянь My, представлявшим традиц. импер скую систему как своего рода просвещенный абсолютизм, неотъемлемый от историч. достижений Китая в сфере культуры. Вместе с тем Сюй Фу гуань подчеркнуто отмежевывался от либерального «движения за новую культуру», распространявшего критику монархии на конф. традицию в целом.
Особый интерес Сюй Фу гуань проявлял к исследованию кит. мысли доцинь ского периода (до 221 до н.э.) и эпохи Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.). Как и др. новые конфуцианцы, усматривал выражение конф. «протодемократич.» идеа лов в доциньских и неоконф. учениях о природе человека (см. Син [1]). Считал, что идущая от Мэн цзы (IV–III вв. до н.э.) демократич. ориентация конф. мысли
СЮЙ ФУ ГУАНЬ
409
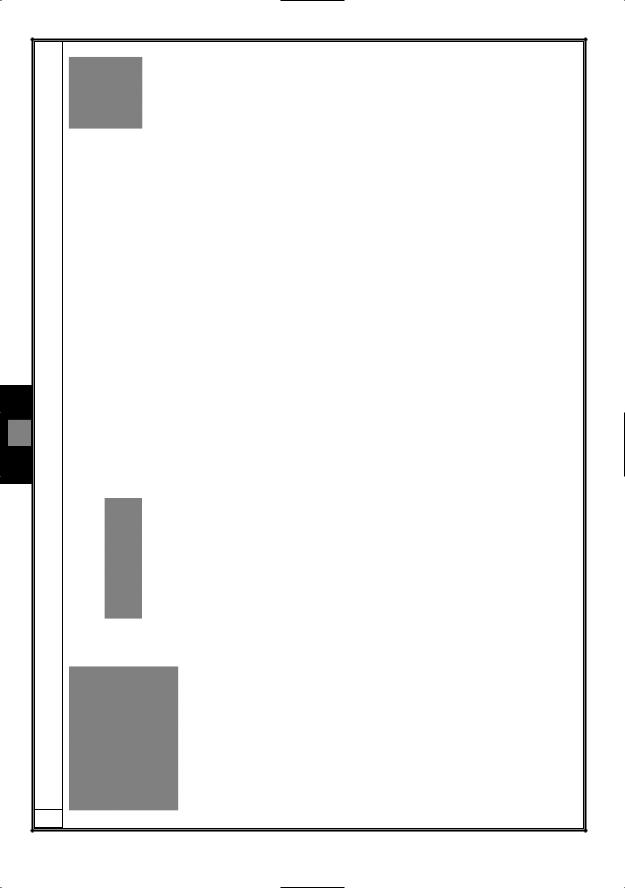
СЮН ШИ ЛИ
410
была извращена давлением политич. власти, призывал к восстановлению «изнач. демократич. духа» кит. культуры. Подобно Тан Цзюнь и, Сюй Фу гуань усматривал возможность идеальной мировоззренч. опоры в «горестно стра дающем сознании», понимаемом как специфич. особенность традиц. кит. менталитета, коренящаяся в чувстве ответственности и корреспондирующая с психологич. состоянием «преодоления трудностей». В 1958 совместно с Тан Цзюнь и, Моу Цзун санем и Чжан Цзюнь маем опубликовал «Манифест китайской культуры людям мира», выражающий позицию нового конфуциан ства относительно взаимодействия кит. и мировой культур.
Осн. соч. Сюй Фу гуаня — «Лян Хань сысян ши» («История мысли эпохи двух Хань»), дополнения к нему — «Чжунго цзин сюэ ши ды цзичу» («Основы истории изучения канонов в Китае»), «Чжунго сысян ши луньцзи» («Сборник статей по истории китайской мысли»).
* Сюй Фу гуань. Сян шань сюэхэн (Ученость [Лу] Сян шаня). Сянган, 1955; он же. Сюэшу юй чжэнчжи чжи цзянь (Между ученостью и полити кой). Тайчжун, 1957; он же. Чжунго сысян ши луньцзи (Сборник статей по истории китайской мысли). Тайчжун, 1959; он же. Чжунго ишу цзиншэнь (Дух китайского искусства). Тайчжун, 1966; Сюй Фу гуань луньвэнь лу (Сборник статей Сюй Фу гуаня). Т. 1–4. Тайбэй, 1971; он же. Чжоу Цинь Хань чжэнчжи шэхуэй цзегоу чжи яньцзю (Исследование политических и социальных структур династий Чжоу, Цинь и Хань). Сянган, 1972; он же. Лян Хань сысян ши (История мысли эпохи двух Хань). Сянган, 1975; он же. Сянь Цинь пянь (Доциньский период) // Чжунго жэньсин лунь ши (История китайских учений о природе человека). Тайбэй, 1987; ** Вэй Чжэн тун. И чуаньтунчжуи вэй дао, и цзыючжуи лунь чжэн (С позиции традиции защищая учение, с позиции либерализма рассуждая о поли тике) // Чжунго луньтан. Тайбэй, 10.10.1986; Чжэн Цзя дун. Сяньдай синь жу сюэ гайлунь (Очерк современного конфуцианства). Наньнин, 1990; Ni Peimin. Practical Humanism of Xu Fuguan // Contemporary Chinese Philosophy. Malden (Mass.) – Oxford, 2002, p. 281–304.
А.В. Ломанов
Сюн Ши ли, Сюн Шэн хэн, Сюн Цзы чжэн. 04.01.1885, Хуанпу пров. Хубэй, — 23.05.1968, Шанхай. Философ, представитель нового конфуцианства, буддолог, обществ. деятель. В 1905 поступил в пехотное училище (пров. Хубэй), примк нул к революц. кругам. Принимал участие в Учанском восстании, Синьхай ской революции 1911. В 1918 в Гуанчжоу поддержал деятельность Сунь Ят сена по «защите конституции», после провала этого движения обратился к изуче нию буддизма. В 1920 стал учеником известного ученого буддиста Оуян Цзин у. В 1922 начал преподавать в Пекинском ун те учение буд. школы вэйши (см. Вэйши цзун). На основании идей вэйши и традиц. конф. мысли создал свою филос. систему — «новое учение о только сознании» (синь вэйши лунь, известно также как «новая йогачара»). В период Войны сопротивления Японии (1937–1945) вел исследовательскую и преподавательскую работу. В 1946 по распоряжению Чан Кай ши получил за книгу «Ду цзин ши яо» («Основные наставления в чтении канонов») премию в 2 млн. юаней, к рую пожертвовал на нужды образования. После образования КНР был членом НПКСК 2, 3 и 4 го созывов, в последние годы жизни подвергался политич. нападкам.
Система синь вэйши лунь ориентирована прежде всего на проблемы онтологии. Помимо доктрин буддизма махаяны она вобрала идеи «Чжоу и» и неоконфуциан ства эпохи Сун (X–XIII вв.). Заметно также влияние Бергсона, Канта и Гегеля (хотя Сюн Ши ли был знаком с зап. философией лишь в переводах). Следуя буд. традиции, он считал внеш. мир — «среду» (цзин [7]) и человеч. «сознание» (ши [4]) неразрывными, как неразрывны «дух» («сердце» — синь [1]) и чувственно воспринимаемые объекты. В основе мира лежит бытие — «изначальная субстан ция» («коренная телесность» — бэнь ти), основание всех изменений, происходя щих во Вселенной. Она абсолютна, единственна, неделима, пребывает вне про странства и времени. Идущая в бэнь ти трансформация сводится к двум осн.
