
Dukhovnaya_kultura_Kitaya_Tom_1_-_Filosofia
.pdf
втом случае, если люди продолжают упорствовать в нарушении общекосмич. законов, социум приходит к гибели. Устроение же жизни об ва гармонизирует мир, и все природные процессы протекают нормально. В целом, согласно Дун Чжун шу, в Небе «находит свой исток дао» (в конф. смысле — как благой ход общественных событий и человеч. жизни).
Основоположники неоконфуцианства XI–XII вв. развивали преимущественно концепцию Неба, выраженную в «Мэн цзы» и «Чжун юне» в русле доктрины «совпадающего единства». По Чжан Цзаю (XI в.), пространство Неба и Земли, ограниченное небесной сферой («крышкой» — гай), есть «мое и их (т.е. Неба, Земли и „тьмы вещей“. — А.Ю.) тело», а «моя и их природа (син [1])» находятся «под водительством Неба». По мнению Чжан Цзая, «совпадающее единство Неба и человека» выражается в том, что «просветленный [разум]» дает воз можность «ученому мужу» (жу) достичь «искренности» (чэн [1]) (главного условия должного контакта с людьми и природными силами), а последняя,
всвою очередь, обусловливает «просветленность [разума]» («Чжэн мэн», гл. «Цянь чэн»). Чэн И и Чэн Хао солидаризировались в том, что Небо и человек «исконно недвойственны» и это вообще избавляет от необходимости говорить о каком либо их «совпадении» (хэ [2]) («И шу», цз. 6). «Небо, Земля и человек суть единое дао», но различаются ипостасями: напр., ипостась («деятель ное проявление» — вэй [1]) Неба — «предопределение» (мин [1]), человека — «индивидуальная природа» (син [1]). Обе ипостаси соединяются через управ ляющий ими центр, принадлежащий одновременно внутр. и внеш. природе, — «сердце» (синь [1]), а их общей «реальностью» (ши [2]) является дао (там же, цз. 18). Философы, в нек рых классификациях относимые к материалистам, акцентировали гл. обр. субстанциальный аспект «совпадающего единства». Напр., Ван Фу чжи (XVII в.) определял Небо как «подъем и опускание, взлет и колыхание пневмы (ци [1])»; эта субстанциальная активность «не действуя» (у вэй), тем не менее является «материальным началом» (цзы чу) «тьмы вещей». «Совершенномудрые» (шэн [1]) древности, говоря о «совпадающем единстве Неба и человека», не смешивали эти понятия, но лишь имели в виду, что «принципы» (ли [1]) Неба и человека имеют «общий исток», а со смертью человека его субстанции полностью возвращаются в «Великую пустоту» (тай сюй) («Чжан цзы чжэн мэн чжу», гл. «Тай хэ пянь»).
Тезис о функциональном «разграничении Неба и человека» был предложен Сюнь Куаном (Сюнь цзы, IV–III вв.). К «прерогативе» Неба он относил «совер шающееся помимо [человеч.] деяний и получающееся помимо [человеч.] уст ремлений». Осн. аргумент Сюнь Куана — «постоянство небесного движения», т.е. астрономич. и природных циклов независимо от человеч. деяний; процвета ние и беды социума зависят от самих людей («Сюнь цзы», гл. «Ван чжи»).
Наиболее отчетливо тезис Сюнь Куана, подразумевающий относительную автономность природных процессов и социальной практики, был развит в уче нии Лю Юй си (кон. VIII — IX в.). Он определил Небо и человека как два про тивостоящих начала, обладающих разными «возможностями» (нэн). Лю Юй си постулировал «телесную оформленность» (син [1]) и Неба, и человека («совер шеннейшего из существ»). Совокупная «возможность» Неба — порождение «тьмы вещей», «возможность» человека — управление этими вещами. Небо и человек конкурируют, «одерживая победы» друг над другом. Условием «одержа ния победы» над внеморальным Небом служит человеч. искренность (чэн [1]) — предельная открытость мирозданию и людям, позволяющая прозревать вселен ские законы, а средством достижения такой «победы» — юридич. законы, с помо щью к рых можно упорядочить социум и «управлять вещами», рожденными Небом. При несовершенстве законов «вещи» могут выйти из под контроля.
По Лю Цзун юаню (VIII–IX вв.), «Небо и человек не вмешиваются [в дела] друг друга» (тянь жэнь бу сян юй). «Процветание (природы) и засухи» — пре рогатива Неба, «законность и смуты» — человека.
В неоконфуцианской мысли тезисы о «совпадающем единстве», «взаимном отклике» и «разграничении» обычно не рассматривались как взаимоисключа ющие. Возможность воздействия Неба и человека друг на друга объяснялась
381
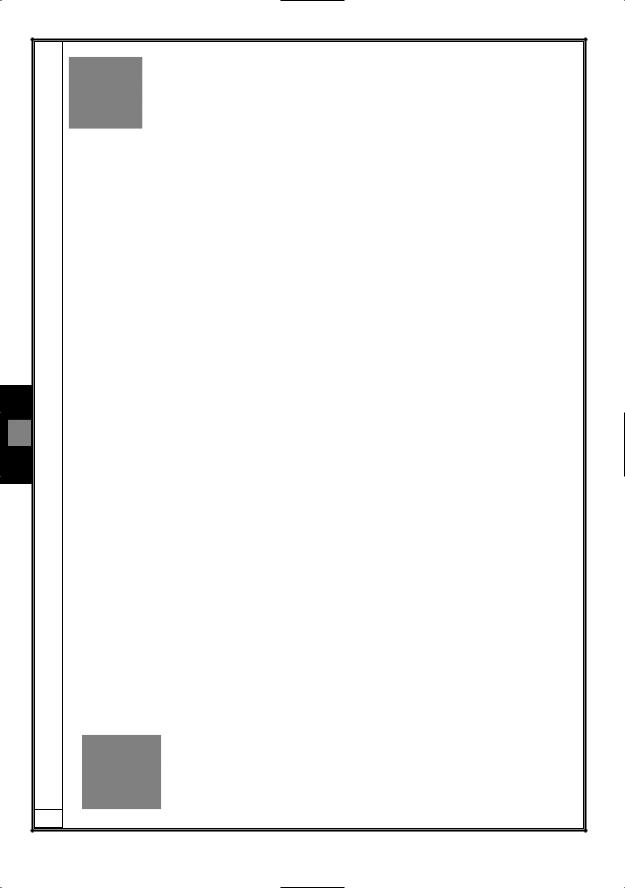
их субстанциальным единством и подчиненностью единой системе законо мерностей, имеющей нумерологич. выражение, а проблема «разграничения» касалась прежде всего уточнения сферы компетенции человека, вмешательство к рого в прерогативы Неба могло быть бесполезным и даже пагубным. Обос нованием сужения или расширения полномочий человека по отношению к Небу стало то или иное толкование соотношения «небесного принципа» (тянь ли) и «человеч. страстей» (жэнь юй). Последние в целом понимались как выражение индивидуального человеч. произвола, противостоящего безлич ной регулярности общеприродного «принципа». Формулировка проблемы восходит к «Ли цзи», где безграничное пристрастие человека к вещам объяв лено признаком того, что он «безмерно возлюбил зло» и сам «превращается в вещь» (хуа у). Это толковалось как «уничтожение [в человеке] небесного принципа и беспредельность человеч. страстей» (гл. 19).
Идея противостояния упорядочивающего «небесного принципа», воплощен ного в этич. нормах, «человеч. страстям» отчетливо выражена в построениях представителей разных течений неоконфуцианства. Чэн И категорически требовал «умаления страстей» (сунь юй) как единственного средства «восста новления небесного принципа» («И шу», цз. 25). Чжу Си (XII в.) еще резче акцентировал их несовместимость: «победа человеч. страстей означает унич тожение небесного принципа» («Чжу цзы юй лэй», цз. 25). Ван Ян мин отож дествил с «небесным принципом» врожденное интуитивное знание — «благо смыслие» («благое знание» —– лян чжи). «Достижение благосмыслия» означает устранение «человеч. страстей»: древние «совершенномудрые» (шэн [1]) были таковыми потому, что «в их сердцах присутствовал только чистый небесный принцип и не было человеч. страстей» («Чуань си лу»).
Ряд мыслителей решал проблему соотношения «небесного принципа» и «чело веч. страстей» в русле концепции «совпадающего единства». Напр., Ху Хун (XII в.) сближал понятия тянь [1] и «[индивидуальная] природа» (син [1]), счи тал, что у «небесного принципа» и «человеч. страстей» «общее тело („субстан ция“ — ти [1]) и разные функции („применения“ — юн [2], см. Ти–юн)». «Рас цвет человеч. страстей означает замутнение небесного принципа» («Чжи янь»), но для упорядочения «страстей» и служит «принцип», который тожде ствен нормам ритуальной «благопристойности» (ли [2]). Ло Цинь шунь (XV–XVI вв.) акцентировал естественность «человеч. страстей», отрицая лишь «разгул чувственности и порабощение страстями» («Кунь чжи цзи»). Ван Фу чжи считал «принцип» и «страсти» неразрывно связанными, полагал воз можным в человеч. «страстях» узреть «принцип» и резко возражал против концепции их взаимоисключения («Ду сы шу да цюань шо», цз. 8). Дай Чжэнь (XVIII в.), отождествляя «страсти» и «чувства» (цин [2]), постулировал зависи мость самого «принципа» применительно к человеку от наличия «чувств» (психоэмоциональной сферы). Он подверг критике «мертвящую» трактовку этой проблемы чжусианцами, считая, что они «посредством принципа убивают человека» («Мэн цзы цзы и шу чжэн», гл. «Ли»).
Существенным коррелятом категории тянь [1] является понятие мин [1] («предопределение»). Коррелятивная связь между ними раскрывает представ ления кит. философов о свободе воли и принципиальных ограничителях человеч. вмешательства в сферу действия «небесных» провиденциальных сил, т.е. важ ную грань проблемы соотношения трех составляющих сань цай — «небесного», «земного» и «человеческого».
* Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972, с. 18–25; ** Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002; Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М., 1985; Гэ Жун цзинь. Чжунго чжэсюэ фаньчоу ши (История категорий китайской философии). Харбин, 1987, с. 163–183; Чжунго чжэсюэ ши цзюань (Том по истории китайской философии) // Чжэсюэ да цыдянь (Боль шой философский словарь). Шанхай, 1985, с. 76–91; Чжэсюэ (Филосо фия) // Чжунго да байкэ цюаньшу (Большая китайская энциклопедия).
Т. 2. Пекин, 1987, с. 870–877.
А.Г. Юркевич
382

Сань цзяо — 1) «три учения»; 2) «три вида наставлений». |
САНЬ ЦЗЯО |
1)«Три учения». Обозначение конфуцианства, даосизма и буддизма, подразу мевающее их сопоставимую доктринальную и мировоззренческую ценность. Эта идея восходит к первым попыткам соединения даосизма и буддизма (см. Сунь Чо; Хуй линь) и отражает стихийное складывание религ. синкретизма при отсутствии единой офиц. религии, а также сознательные усилия буд. про поведников к адаптации своего учения в Китае и естеств. взаимопроникнове ние различных филос. доктрин. Кроме того, идея сань цзяо отражает традиц. представления об имп. власти, к рая мыслилась зависимой от горних сфер (Неба и духов предков; см. Тянь [1]), но не от к. л. доктрин. Поэтому текущий статус буддизма и даосизма в гос ве мог определяться субъективными симпа тиями двора.
Учение о «единстве трех религий» (сань цзяо и, сань цзяо вэй и) в III–VI вв. означало единство буддизма и собственно кит. традиции. В XII–XIII вв. тезис «три религии пребывают в единстве» провозгласила своим принципом даос. школа цюаньчжэнь цзяо, а назв. ее подшкол включали словосочетание сань цзяо (напр., саньцзяо цзиньлянь хуй — «Об во золотого лотоса трех религий»).
Вих пантеоне уживались даос. «бессмертные» (см. Сянь сюэ), будды и бодхи саттвы. В XIV в. оформилась даос. школа саньцзяо гуйи («соединение трех религий»). Она подразделялась на «школу вост. направления» (дун пай), или «школу будд бессмертных» (сяньфо пай), и «школу Трех пиков» (саньфэн пай), по имени даоса Чжан Сань фэна (XIV–XV вв.). Особое развитие «школа трех религий» получила в кон. XVI — нач. XVII в. благодаря проповеднику «внутр. алхимии» (нэй дань) У Чун сюю.
Вто же время идеология сань цзяо лишь в отд. периоды получала нечто вроде офиц. признания, напр. в эпоху Тан (VII–X вв.), в нач. эпохи Мин при импе раторе Тай цзу (Чжу Юань чжан), при нек рых императорах маньчж. дин. Цин (1644–1911). В наиболее развитой форме она выражена в учении Линь Чжао эня (XVI в.), основанном на доктрине сань цзяо хэ и («три учения соединяются в одно»). Различные версии этой доктрины характерны для народных религ. сект. Храмы «религии трех учений» (саньцзяо[чжэн] цзун) Линь Чжао эня сохранились в нек рых странах Юго Вост. Азии, напр. в Син гапуре и Малайзии.
**Мартынов А.С. Доктрина императорской власти и ее место в офици альной идеологии императорского Китая // Всемирная история и Вос ток. М., 1989; Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1993, с. 247, 256, 264–265 и сл.; Franke W. Some Remarks on the Three in One Doctrine and It’s Manifestation in Singapore and Malaya // Oriens extremus. 1972, № 1–2.
См. также лит ру к ст.: Линь Чжао энь.
2)«Три вида наставлений». Учение, получившее распространение в эпоху Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.), начиная с Дун Чжун шу (II в. до н.э.), и отра зившее холистич. взгляд на мир как единое целое, как на пространственно временной континуум (см. Юй чжоу). Утверждает, что каждая из «трех [древ них] династий» (сань дай) — Ся (XXIII–XVI вв.), Шан Инь (XVI–XI вв.) и Чжоу (XI в. — 256 до н.э.) — воспитывала у людей особые положительные личные свойства, к рые отличали государей и, под их влиянием, «благород ных мужей» (цзюнь цзы). При Ся доминировала «искренность», или «предан ность» (чжун [2]; см. Чжун шу), при Шан Инь — «почитание», или «почти тельность» (цзин [4]), при Чжоу — «цивилизованность» («культура», или «утонченная форма» — вэнь). Каждый вид «наставлений» был призван вернуть народ, живший в конце предшествующей дин. в условиях смуты, на истинный путь. В то же время каждый из них имел негативную оборотную сторону — «изъян», состоявший в том, что при этом виде «наставлений» у «низких людей» развивались определенные отрицательные свойства: при Ся — «дикость», или «неотесанность» (е [2]), при Шан Инь — «суеверное поклонение духам (гуй [1])», при Чжоу — «неискренность» (бао [3], сы [1]). Установка на воспитание того или иного положительного свойства менялась от династии к династии: каждой
383
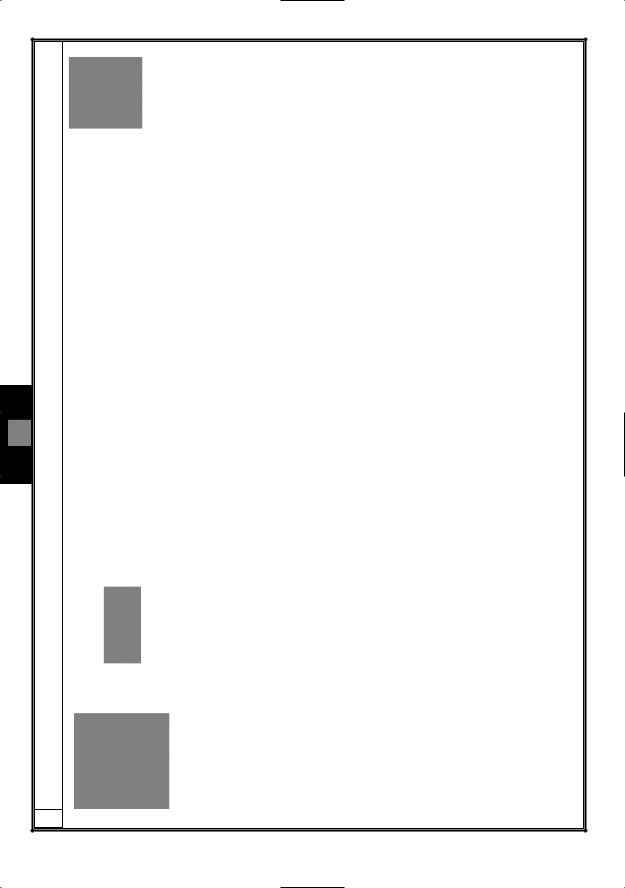
САНЬ ШЭН
384
следующей предстояло исправить «изъян», развившийся при ее предшествен нице. В эпоху Хань считалось, что воспитанная в людях при Чжоу «утончен ная форма» привела к развитию «неискренности», к рая в следующий историч. период должна быть преодолена «искренностью», чего не сумела добиться дин. Цинь (221–207 до н.э.) и чего достигнет Хань: т.о., пройдя три фазы, цикл сань цзяо завершался и начинался снова. В нумерологич. (см. Сяншучжи сюэ) схемах «три вида наставлений» занимали определенное место в серии парал лельных числовых рядов с тремя компонентами: «три династии»; «три исправ ления» (сань чжэн) — термин, отражавший представления о цикле изменений начального месяца года в календарях «трех династий»; «три царствования» (сань тун); «три материала», или «три начала» — Небо, Земля, человек (сань цай) и т.д.
Есть связь между циклом сань цзяо и двучленным циклом «природная сущ ность (чжи [4]) — утонченная форма (вэнь)» (или «природа — культура»). По словам Конфуция, преобладание в этой связке «природной сущности» делает человека «диким» (е [2]), а доминирование «утонченной формы» — «[неис кренним, как] писец»; только «правильное сочетание» этих качеств делает человека «благородным мужем» — цзюнь цзы («Лунь юй», VI, 18). Первый и последний принципы управления в учении о сань цзяо образуют оппозицию «искренность — утонченная форма», причем отмечалось, что под влиянием наставления «искренности» «низкие люди» при дин. Ся стали «дикими». Т.о., «искренность» («преданность» — чжун [2]) в учении о сань цзяо замещает «природную сущность» (чжи [4]) в изречении Конфуция, а трехчленный цикл сань цзяо предстает развитием двучленного цикла «природная сущность — утонченная форма» применительно к истории.
* Лунь хэн цзяо ши (Критические суждения и оценки. Сверенный [текст] с пояснениями [Хуан Хуя]). Тайбэй, 1964, гл. 56, с. 809; Сыма Цянь. Исто рические записки (Ши цзи) / Пер. и коммент. Р.В. Вяткина и B.C. Тас кина. Т. 2. М., 1972, с. 199, 442, примеч. 235; Древнекитайская философия: Эпоха Хань. М., 1990, с. 130, 150–151; ** Конрад Н.И. Полибий и Сыма Цянь // ВДИ. 1965, № 4; Кроль Ю.Л. Сыма Цянь — историк. М., 1970, с. 85–89, 100; он же. Конфуцианская и легистская концепции в «Янь те луне» (I в. до н.э.) // Конфуцианство в Китае: проблемы теории и прак тики. М., 1981, с. 56, 82, примеч. 3; он же. Проблема времени в китайской культуре и «Рассуждения о соли и железе» Хуань Куаня // Из истории тра диционной китайской идеологии. М., 1984, с. 82–83, 92.
Ю.Л. Кроль
Сань шэн (санскр. трияна) — «три колесницы». Используемый буддизмом махаяны (да шэн — «великая колесница») термин, обозначающий степени проникновения в глубины буд. учения.
Под «первой (низшей) колесницей» понимается уровень шраваков («слушаю щие голос», кит. шэн вэнь — «[воспринимающие] звуки [мудрости ]культуры»), как первоначально именовались ученики Будды Шакьямуни, а позднее — приверженцы хинаяны (сяо шэн — «малая колесница»). «Слушающие голос» признают осн. заповеди и гл. положения буддизма — всеобщность страдания, непостоянство сущего, отсутствие индивид. субстанциального «я» (см. У во), однако еще не готовы к принятию учения махаяны. «Вторая (средняя) колес ница» — «колесница пратьекабудд» (юань цзюэ фо, пи чжи фо — «самостоя тельно ставшие буддами»), т.е. аскетов, достигающих высшей цели буддизма — просветленного состояния (санскр. бодхи, кит. пути) и нирваны (см. Непань) самостоятельно, без участия наставника, и отказывающихся от проповеди учения. Как и шраваки, они считались последователями хинаяны. Выделя лось два типа пратьекабудд: первые обретали просветление в присутствии будды, хотя и не становились его учениками, а вторые — исключительно в результате самостоятельных размышлений над бренностью и непостоянством сущего. «Третья (высшая) колесница» — «колесница бодхисаттв», т.е. собственно уче
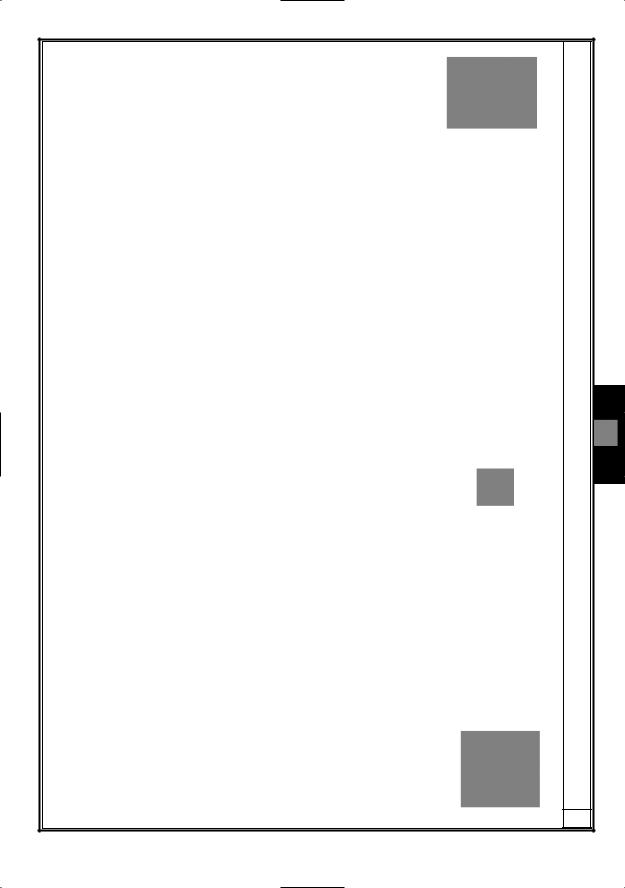
ние махаяны. Первоначально под бодхисаттвой (кит. путисадо, пуса) пони мался будущий будда, позднее — любой человек, стремящийся к достижению полного «просветления», признающий учение махаяны и практикующий «шесть парамит» (кит. боломи, боломидо, ду) — «совершенств», «подобно плоту перевозящих на др. берег существования», т.е. в нирвану. К числу «шести парамит» относились: терпение, подаяние, нравственность (соблюдение буд. заповедей), мужество, медитация (созерцание), мудрость. В «классич.» маха яне бодхисаттва воспринимался как наделенный сверхъестеств. способнос тями святой, обладающий высшей премудростью и великим состраданием, в силу к рого он отказывается от нирваны во имя «спасения всех живых существ». Бодхисаттва наделен полным пониманием учения махаяны, прежде всего — доктрины пустотности (шунья, кит. кун [1], син кун), или относитель ности всего сущего.
Помимо учения о «трех колесницах», окончательно оформившегося в системе взглядов школы тяньтай (см. Тяньтай цзун) в VI в., в махаяне существовала доктрина «единой колесницы» (и шэн), характерная для ряда течений кит. буд дизма, прежде всего для школы хуаянь (см. Хуаянь цзун). Под «единой колесни цей» понималось наивысшее учение, трактуемое как «четвертая колесница» — предельная степень проникновения в мудрость буддизма, либо как доктрина, включающая в себя достоинства всех остальных и потому их заменяющая.
** Игнатович А.Н. Буддистские толкования путей спасения (на при мере Лотосовой Сутры) // XI НК ОГК. Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1980; он же. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987, с. 229–230; Мялль Л.Э. К буддистской персонологии // Труды по знако вым системам. Вып. V. Тарту, 1971; Сутра о Бесчисленных Значениях... / Пер. А.Н. Игнатовича. М., 1998, с. 339–343.
Е.А. Торчинов
Син [1] — «[индивидуальная] природа» («качество», «характер», «натураль ность», «пол»). Категория традиц. кит. философии и культуры. Этимология иероглифа син [1] (знаки «сердце, центр» и «жизнь, рождение») обнаруживает идею витального центра или психосоматич. основы живого существа. В древ нейших текстах мог означать желания и потребности простого народа. Син [1] обозначает природные качества каждой отд. вещи, в особенности человека (без спец. определения — обычно человеч. «природу»). В филос. построениях категория син [1], как правило, фигурировала в соотношении с понятиями «добро» и «зло» (шань [2], э), «сердце» (синь [1]), «предопределение» (мин [1]), «чувства, чувственность» (цин [2]), «принцип» (ли [1]). В буд. текстах (см. Буд дизм) соответствовала терминам «свабхава», «пракрити», «прадхана».
Конфуций (VI–V вв. до н.э.) постулировал единство человеч. «природы» и ее исходную нейтральность по отношению к морали: «По природе [люди] близки друг к другу, а по привычкам далеки друг от друга» («Лунь юй»). Его последо ватели стремились либо универсализировать различие человеч. качеств, пре вращая его в различие «природы» людей, либо его сгладить.
Мэн цзы (IV–III вв. до н.э.) определил «природу» человека как изначально «добрую»; ее суть — «соболезнующее и сострадающее сердце»; «исчерпав собств. сердце», можно «познать собственную природу». «Чувства» единосущны с «природой» и потому «добры»; «предопределение» не связано с «природой» непосредственно: предполагается, что оно может быть познано и «утверждено» либо «устранено», т.е. возможно познание самого Неба (тянь [1]) посредством «знания своей природы». Гао цзы, оппонент Мэн цзы, утверждал, что «при рода человека безразлична к добру и злу»; добрыми или злыми могут быть лишь формы, в к рых она реализуется; т.о., подразумевалось, что она потен циально «добра» и «зла».
Согласно Сюнь цзы (IV–III вв. до н.э.), «человеч. природа — зла; то, что она добра, — искусственное приобретение»; «чувства» вторичны по отношению
СИН [1]
385

к природе: «природа — то, что я не способен сотворить, но могу изменить...
чувственность — то, чем я не обладаю [изначально], но могу сотворить».
Дун Чжун шу (II в. до н.э.) первым отчетливо выделил идею «доброты» син [1] как ее потенциального состояния, подчеркнув невозможность отождествления «добра» и «природы»: «[Человеч.] природа подобна рису на корню, добро — рису
взерне». «Тело/личность» (шэнь [2]) состоит из одинаково врожденных добро творной «природы» и злотворной «чувственности», к рые соотносятся с каче ствами ян [1] и инь [1] соответственно (см. Инь–ян), человеч. «природа» в целом может считаться «доброй» по отношению к «природе птиц и зверей», но не «природе совершенномудрых (шэн [1])». Лю Сян (I в. до н.э.) выделил проблему соотношения «природы» и «чувственности», определив первую как «внутр.» свойства, вторую — как «внеш.» способность «соприкасаться с вещами», т.е. кон тактировать с объективной действительностью. Согласно Ван Чуну (I в. н.э.), Лю Сян в противоположность Дун Чжун шу сопоставлял «природу» с качест вом инь [1], а «чувственность» — с ян [1], считая открытым вопрос об их соот ношении с «добром» или «злом».
Ян Сюн (I в. до н.э. — I в. н.э.) акцентировал амбивалентный характер син [1]: «добро» и «зло» в ней перемешаны и оба качества могут быть развиты (сю [1]). Исходя из положения Конфуция о неизменности «высшей мудрости» и «низшей глупости», он определил все высшие по сравнению с низшим уровнем разряды человеч. «природы» как «добрые», а все стоящие ниже высшего уровня — как «злые» относительно него. Ван Чун в отличие от Лю Сяна полагал, что «природа», как и «чувственность», «соприкасается с вещами»: напр., «[способность] отказы вать [себе] и уступать [другому] является проявлением природы». «Природа и чув ственность совместно получаются из [сил] инь–ян», поэтому они могут быть «изо бильны и скудны» или, подобно яшме, «чисты либо пестры» и не могут быть исключительно «добрыми». Ван Чун принципиально преодолел идею сущност ного единства «природы» людей, заявив, что высказывания Конфуция об их «вза имной близости по природе» относятся к «средним людям», а слова о неизменно сти «высшей мудрости» и «низшей глупости» — к носителям предельного (цзи [2]) «добра» и «зла». Понятия «природы» и «предопределения» у Ван Чуна максималь но сближены: они рождаются одновременно с человеком, одинаково «наделены природной пневмой (ци [1])» и подчиняются естеств. закономерностям инь–ян.
Предтеча неоконфуцианства Хань Юй (VIII — нач. IX в.) вернулся к трактовке син [1] Сюнь цзы: «Природа человека — это то, что дано ему от рождения, а чувственность — то, что порождается соприкосновением с вещами». Он выде лил «три категории» (сань пинь) человеч. «природы»: высшая (шан пинь) — «добро», средняя (чжун пинь) — «добро» и «зло», низшая (ся пинь) — «зло», и «пять качеств» (у цай), «делающих природу тем, что она есть»: «гуманность» (жэнь [2]), «благопристойность» (ли [2]), «благонадежность» (синь [2]), «долж ная справедливость» (и [1]), «разумность» (чжи [1]). У высшей категории «пять качеств» присутствуют полностью, у низшей — отсутствуют, у средней воз можно их частичное присутствие или отсутствие.
Связанная с категорией син [1] проблематика неоконфуцианства была во мно гом подготовлена филос. построениями буддизма, преимущественно чань школы — тезис о прозрении в собств. «сердце» сущностной, принадлежащей всем существам «природы будды» (фо син), и школы (дхармической) природы (фасин цзун), отождествлявшей «природу» и «сердце», а также даосизма, в к ром
вI тыс. активно разрабатывалась проблема соотношения син [1] и мин [1] как обусловленного природными силами «[жизненного] предопределения», к рое предполагалось возможным скорректировать вплоть до «обращения вспять» пути от рождения к могиле. Законченную форму этот тезис приобрел в учении Чжан Бо дуаня (IX в.) об «одновременном совершенствовании природы и [жиз ненного] предопределения» (син мин шуан сю). Син [1] и мин [1] рассматрива лись даосами в качестве «пневмы» (ци [1]), причем «природа» соотносилась с «изначальным духом», т.е. разумным и психич. началом, а «[жизненное] предо пределение» мыслилось как соматич. процессы, непосредственно не связан ные с мышлением и психикой. В ряде течений даосизма син [1] предполага лось не «совершенствовать», а «преодолевать».
386

Подобные концепции оказали влияние на тезис Чжан Цзая и Чэн И (XI в.) о «преодолении» «природы пневменной материи» (ци чжи чжи син) с целью самосовершенствования и возвращения к «природе Неба и Земли» — тянь ди чжи син (Чжан Цзай), или «предельно коренной, совершенно изначальной природе» — цзи бэнь цюн юань чжи син (Чэн И).
Чэн И и Чжу Си (XII в.) подвергли критике буд. отождествление «сердца» (сознания) и «природы», подчеркнув онтологич. первичность син [1]. Чжу Си воспринял проведенное Чжан Цзаем и Чэн И различение двух видов син [1], окончательно сформулировав концепцию изначально общей «доброй природы», обладающей вторичными конкретными модусами. Син [1], по Чжу Си, есть универсальный «принцип» (ли [1]), «к рый не может иметь недоброго», но «пневменная материя (ци чжи, т.е. вторичные модусы) не может не разли чаться». Чжу Си также ввел различение между «добром» и «злом» с онтологич.
иантропологич. точки зрения: «В плане Неба и Земли добро — предшествую щее, а природа — последующее... в человеч. плане природа — предшествую щее, а добро — последующее» (т.е. проявление син [1]).
Лу Цзю юань (XII в.) отождествил «сердце», «чувства» и «природу», что дало повод для его обвинений в приверженности чань буддизму. Ван Ян мин (кон. XV — нач. XVI в.) принципиально отказался от различения «природы»
и«пневмы», доказывая сущностное тождество син [1] с «сердцем» и «принци пом», но разграничил абс. добро, или «высшее благо» (чжи шань), и добро, соотносительное со злом; «высшее благо» есть «первосущность сердца» (синь чжи бэнь ти) и «небесный принцип» (тянь ли).
В XVII в. Ван Фу чжи и в XVIII в. Дай Чжэнь сделали акцент на естеств. харак тере син [1], определяемом взаимодействием сил инь–ян. По Дай Чжэню, син [1] — это «реальная телесная сущность и реальное дело» (ши ти ши ши), или совокупность телесных и духовных качеств, соотносящихся с «предопре делением», как индивид. «[телесная] оформленность» (син [2]) — с тем, что «рассеяно в дао» (т.е. содержится в структуре мироздания, — с закономернос тями инь–ян и «пяти элементов» (у син).
* Древнекитайская философия. Т. 1–2. М., 1972–1973, указ.; Древнекитай ская философия. Эпоха Хань. М., 1990, указ.; Чжу Си. Син. Жэнь у чжи син (Природа син. Природа син человека и вещей) // Человек как фило софская проблема: Восток–Запад. М., 1991, с. 217–239; Ван Тин сян. Раз говор о природе / Пер. Е.Г. Калкаева // Человек и духовная культура Вос тока. М., 2003, с. 106–110; ** Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыс лителя XVII в. Ван Чуаньшаня. М., 1976, с. 140–144; Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983, указ.; он же. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002, с. 249–286, указ.; Краснов А.Б. Учение Чжу Си о природе человека // Конфуцианство в Китае. М., 1982, с. 126–148; Феоктистов В.Ф. Философские и общест венно политические взгляды Сюнь цзы (Исследование и перевод). М., 1976, с. 120–135; Фэн Ю лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998, с. 218–220; Гэ Жун цзинь. Чжунго чжэсюэ фаньчоу ши (Исто рия категорий китайской философии). Харбин, 1987, с. 279–308; Сюй Фу гуань.Чжунго жэнь син лунь ши — сянь Цинь пянь (История концеп ций человеч. природы в Китае — до [эпохи] Цинь). Тайбэй, 1984; Ames R.T. The Mencian Conception of Ren Xing: Does It Mean “Human Nature” // Chinese Texts and Philosophical Contexts. La Salle, 1991, p. 143–175; Chan Wing tsit. The Neo Confucian Solution of the Problem of Evil // The Bulletin
of the Institute of History.. and Philology, Academia Sinica. 1957, vol. 28; Dubs H.H. Mencius and Hsundze on Human Nature // PEW. 1956, vol. 6, № 3;
Graham A.C. Disputers of the Tao. La Salle, 1989 (index); idem. The Background of the Mencian Theory of Human Nature // idem. Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature. Albany, 1990; Hwang P. Ho. What is Mencious Theory of Human Nature? // PEW. 1979, vol. 29, № 2; Munro D.J. The Concept of Man in Early China. Stanf., 1969; idem. The Concept of Man in Contemporary China. Ann Arbor, 1979; Human “Nature” in Chinese Philosophy // PEW. 1997, vol. 47, № 1; Scarpiri M. La concеzione della natura umana in Confucio e Mencio. Venеzia, 1991.
А.И. Кобзев
387

СИН [2]
388
Син [2] — «форма», «тело», «плоть», «фигура». Категория кит. философии, означающая «телесно оформленную» вещь. В отличие от зап. филос. понятия «форма» син [2] не может быть истолкована как порождающая структура, противопоставляемая порождаемой вещи. Осн. корреляты син [2] — мин [2] («имя/понятие») и шэнь [1] («дух»).
В филос. контексте впервые встречается в «Мо цзы» (V–III вв. до н.э.), в ком ментарии к «Чжоу и» («Си цы чжуань», IV в. до н.э.), а также у Чжуан цзы (IV–III вв. до н.э.). В «Мо цзы» син [2] сопряжено с понятием шэн [2] («жизнь/рождение»): оно определяется как «совмещение формы и [со]знания», т.е. единство плоти и способности к восприятию. Согласно «Чжуан цзы», син [2] — атрибут «вещи» (у [3]), «уже образованной» и «оформленной принци пом (ли [1])». Совокупность «формы» и «имени» здесь определяется как при знак «наличия/бытия» (ю [1]; см. Ю–у) (гл. «Тянь дао»), а син [2] и «дух» нахо дят единство в дао: «эссенциальное семя» (цзин [3]) и «дух» порождаются дао, а уже из собственно «эссенциального семени» рождается «оформленная телесность» (син ти; см. Ти юн) (гл. «Чжи бэй ю»). В «Си цы чжуани» впервые в качестве онтологич. уровней выделены «надформенное» (син эр шан), опреде ляемое как собственно дао, и «подформенное» (син эр ся), квалифицируемое как «орудия» (ци [2]) (I, 12).
Прозвучавшая в «Чжуан цзы» проблема соотношения «форм» и «имен» отра зилась также в «Инь Вэнь цзы» (см. Инь Вэнь) и «Гунсунь Лун цзы» (IV–III вв. до н.э.). В «Инь Вэнь цзы» проведено различение слова и обозначенной им вещи: если «имеющее форму обязательно имеет имя», то «имеющее имя» не обязательно должно обладать «формой». Вместе с тем отмечается контрольная функция «имени» по отношению к «форме» — «оформленным» вещам: они «устанавливают имена», давая им основание, но «поверяются именами», т.е. должны качественно и функционально соответствовать тем понятиям, к рыми обозначены. В то же время соотношение «имен» и «дел» (ши [3] — «деяние», «функция», «сфера деятельности»; см. Вэй [1]) зеркально противо положно: «посредством имен устанавливаются дела, а посредством дел пове ряются имена».
Особую роль проблема син [2] — мин [2] играла в построениях легистов (см. Легизм), где она интерпретировалась в русле их политич. учения. Син [2] истол ковывалось как «речи и поступки», «имена» — как социальные роли, прежде всего официальные чины. Хань Фэй выдвинул положение о «проникающем тождестве форм и имен» (син мин цань тун). Согласно ему, государь может управлять посредством «недеяния» (у вэй) при том условии, что он сумел добиться указанного «проникающего тождества», правильно пользуясь награ дами и наказаниями после сопоставления поведения («формы») должностного лица и обязанностей, определенных его статусом («именем»). Поскольку в легист ских и раннеконф. текстах понятие син [2] могло заменяться омонимом син [4], имеющим также значение «наказание», проблема син [2] — мин [2] пересека лась с вопросом о соотношении «наказаний» (син [4]), т.е. административно юридич. сферы, и «благодати/добродетели» (дэ [1]) — сферы морали.
Начиная с III в. до н.э. из филос. проблем, затрагивающих категорию син [2], на первый план выдвинулась проблема соотношения «формы» и «духа» (шэнь [1]). Начало ее разработке в конф. мысли положил Сюнь цзы, сформули ровавший положение о зависимости психич. и духовной сферы от физиологич. функций «[телесной] формы»: «форма наличествует — дух рождается» (син цзюй [эр] шэнь шэн) («Сюнь цзы», гл. «Тянь лунь»). В древнейшем медицин ском трактате «Хуан ди нэй цзин» («Канон Желтого императора о внутреннем», III–I вв. до н.э.) упорядоченность жизни связывается с «объединением формы и духа», т.о. достигается долголетие. Это положение легло в основу средневеко вых даос. теоретич. построений на тему физич. бессмертия и продления жизни. Тяготеющий к крайнему натурализму Хуань Тань сопоставлял «семя и дух» (цзин шэнь) с огнем свечи, где свеча — «оформленное тело» (син ти). Ван Чун (I в. н.э.) полагал, что син [2] невозможно без «пневмы» (ци [1]); в свою очередь, без

«[телесной] формы» немыслима функция познания: «бестелесная автономно познающая семенная душа», как огонь, не может существовать без топлива («Лунь хэн», гл. «Лунь сы»). У Сюнь Юэ (II в.) син [2] — синоним человеч. тела, к рое наряду с «духом» составляет человеч. «природу» (син [1]).
Особую остроту проблема соотношения «формы» и «духа» приобрела в III–VI вв., в период наиболее жесткого противоборства буд. и контрбуддийской пропа ганды. Буддист Хуй юань, защищая тезис о «неуничтожимости духа» (шэнь бу ме), утверждал, что дух переносится в «[телесную] форму», как пламя на новую порцию хвороста. Отстаивающий положение об уничтожимости духа Фань Чжэнь в своем соч. «Шэнь ме лунь» выдвинул тезис «[телесная] форма — субстанция, дух — ее применение» (син чжи шэнь юн), акцентировав «взаимо дополнение (нерасторжимость) формы и духа» (син шэнь сян цзи).
В неоконфуцианстве проблема соотношения «формы» и «духа» отошла на задний план, но в целом господствовала идея их нерасторжимости. Наиболее отчетливо указанная проблема была выделена в построениях Чжан Цзая (XI в.), его последователя Ван Тин сяна и Хэ Тана (оба — кон. XV — XVI в.). Чжан Цзай, отождествляя вещи с «концентрированной [телесной] формой», а форму — с «концентрированной пневмой», сформулировал положение о «раз ложении формы и возвращении к истоку» (син куй фань юань), связывая утрату формы с рассеиванием ци [1] и возвращением ее в исходное субстанциальное состояние «Великой пустоты» (тай сюй). «Дух» у Чжан Цзая имеет гл. обр. функциональное значение — как условие способности вещей к «взаимовос приятию», тем не менее не утрачивая субстанциальности. Он «пронизывает [пневму] чистотой, не способной [к созданию видимых] образов»; в то же время все природные явления суть «выжимка (сгущение) превращений духа», к рый как субстанция и функция неуничтожим. Хэ Тан четко интерпретиро вал син [2] и «дух» как разные состояния «пневмы», поэтому его концепция получила назв. «учение о форме и духе как двух началах» (син шэнь эр юань лунь). Если син [2] может концентрироваться и рассеиваться, становясь соот ветственно видимым и невидимым, то «дух» лишен такой возможности и все гда невидим, проявляясь лишь в познавательной активности человека. «Форма»
уХэ Тана соотнесена с силой инь [1], а «дух» — с силой ян [1]. Ван Тин сян, полемизируя с ним, характеризовал «дух» как гл. обр. функцию («утонченное применение» — мяо юн) субстантивированных в «пневме» сил инь–ян или отождествленной с ними «оформленной пневмы» (син ци). «Дух», по Ван Тин сяну, «исходит из оформленной пневмы и утонченно [проникает] в нее» бла годаря неуничтожимости «духовной пневмы» (шэнь ци) — субстантивации «духа», дифференцированно присутствующей во всем сущем («земля имеет земной дух, человек — человеч. дух, вещь — дух вещи»).
Существ. место в построениях неоконфуцианства получила тема различения «надформенного» (син эр шан) и «подформенного» (син эр ся). Неоконф. трак товки этой проблемы были во многом подготовлены толкованиями коммента тора VI–VII вв. Кун Ин да, к рый противопоставлял «субстанциальное» (ю чжи) син [2] «бестелесному» (у ти) дао. Соответственно, «надформенное» — дао
унего генетически предшествует «формам» — «орудиям» (ци [2]). Чжан Цзай, перенося проблему «над » и «подформенного» в этич. плоскость, сопоставлял «отсутствие форм» (дао) с «щедростью Великой благодати/добродетели» (да дэ [1]; см. Дэ [1]), а «имеющие форму» «орудия» — с «благопристойностью» (ли [2]) и «долгом/справедливостью» (и [1]), конкретно и в разной степени воплощен ными в «реальности [человеч.] дел». Чэн И, определяя «пневму» ци [1] как «подформенное», а дао — как «надформенное», объединял эти понятия отож дествлением того и другого с силами инь–ян. Гл. основоположник «учения о принципе» (ли сюэ) Чжу Си развил эту мысль, квалифицировав «надфор менное» дао как синоним структурообразующего «принципа» ли [1], а «под форменные орудия» — как «пневму» ци [1], имея в виду логич., а не онтологич. первичность «принципа», неотделимого от «пневмы». Ван Фу чжи (XVII в.), подчеркивая телесность, субстанциальность видимого и невидимого миров,
389

их субстанциальное единство, объявил и «надформенное», и «подформенное» относящимися к сфере «имеющего формы» (ю син). «Форма» — условие суще ствования «надформенного», а «подформенное» — условие существования «форм». Т.о., он акцентировал неуничтожимость мира и нескончаемость про цесса воспроизводства космоса. По мнению Дай Чжэня (XVIII в.), син [2] — это «оформленное вещество» (син чжи), «надформенное» — то, что было «прежде [существования] форм», «подформенное» — ситуация после их появления.
Категория син [2] широко применяется в теории традиц. кит. медицины и систем психофизиологич. тренинга, где она означает «плоть», «основой» к рой является кровь, а также подразумевает положения тела и зависящее от них состояние «плоти».
* Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990, указ.; ** Коб зев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002, указ.; Гэ Жун цзинь. Чжунго чжэсюэ фаньчоу ши (История категорий китай ской философии). Харбин, 1987, с. 202–215; Чжунго чжэсюэ ши цзюань (Том по истории китайской философии) // Чжэсюэ да цыдянь (Боль шой философский словарь). Шанхай, 1985, с. 314–316.
А.Г. Юркевич
СИНЬ [1] Синь [1] — «сердце», «сердце/разум», «сердце/сознание» (также психика, сердцевина, субъективное, дух, сознание). Категория традиц. кит. филосо фии. Имеет четыре осн. смысла: 1) функциональный орган — средоточие сознания и психич. возможностей, в т.ч. чувств и воли; 2) сердцевина, квинт эссенция возможностей любой «вещи», живой и неживой, в т.ч. человека; 3) функции сознания, психики и познания; 4) обозначение в совр. терм. иде ального (стандартная оппозиция — у [3], «вещь»; ср. вэйсиньчжуи — «идеа лизм», вэйучжуи — «материализм»). Графич. элемент «сердце» как ключевой знак иероглифа обычно свидетельствует о его отношении к психогносеологич. и эмоциональной сфере (ср. тезис Чжу Си: «Иероглиф синь [1] — это только мать знаков. Поэтому иероглифы „природа“ (син [1]) и „чувственность“ (цин [2]) производны от синь [1]»).
Уже в древних протодаос. памятниках понятие синь [1] сопряжено с «духом» — шэнь [1]) — субстанцией, отвечающей за деятельность сознания и психики. Согласно «Гуань цзы» (IV–III вв. до н.э.), «сердце» — это «дворец духа»; лишь при условии «очищения сердца» и освобождения от страстей дух возвращается в свое обиталище (синь шу шан). Синь [1] — своего рода окно в духовное про странство мироздания. Это подразумевается, в частности, у Чжуан цзы (IV–III вв. до н.э.), к рый говорит о возможности «странствия сердцем по началу вещей», по «гармонии благодати/добродетели (дэ [1])», по «беспре дельности». «Очищение сердца» («Гуань цзы») корреспондирует с тезисом о «промывании сердца, удалении желаний»: лишь при этом условии реализу ются возможности, к рые дает сущностное единство мира и человека (см. Ци [1]; Син [1]), осуществляется полноценный контакт их «духовных» субстанций. Благодаря этому «сердце мудреца может взращивать в себе Поднебесную» («Чжуан цзы»). С данным утверждением одного из основоположников дао сизма перекликается заключение из конф. трактата, гласящее, что «исчерпа ние своего сердца» равносильно познанию собств. «природы» (син [1]) и, т.о., Неба (тянь [1]), т.е. собственно природы («Мэн цзы», VII A, 1).
В конфуцианстве качество «сердца» рассматривалось как критерий отличия человека от животных и показатель уровня личных достоинств. Согласно «Мэн цзы», человеком может считаться только тот, кто имеет «соболезную щее и сострадающее», «стыдящееся [за себя] и негодующее [на других]», «отка зывающее [себе] и уступающее [другому]», «утверждающее и отрицающее сердце». Эти качества синь [1] суть начала «гуманности» (жэнь [2]), «долга/ справедливости» (и [1]), «благопристойности» (ли [2]), «разумности» (чжи [1]) (VI A, 6). Тезис «Чжоу и» о «постоянстве сердца» как основе «совершен ного мужа» соответствует положению «Лунь юя» (V в. до н.э.) о постоянстве
390
