
Dukhovnaya_kultura_Kitaya_Tom_1_-_Filosofia
.pdf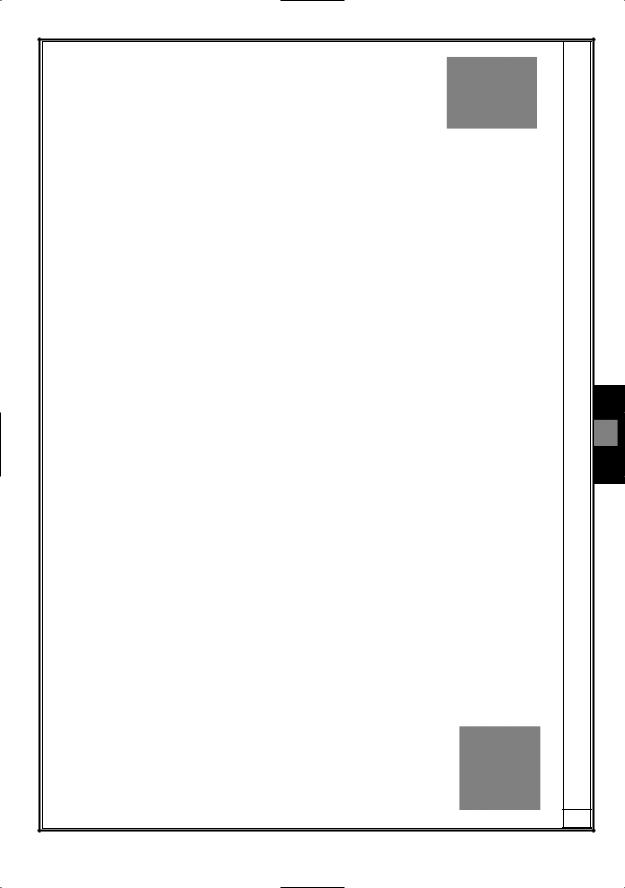
тельности человека и ставили вопрос о создании альтернативы зап. ценностям посредством возрождения конф. теории. Лян Шу мин, Чжан Цзюнь май и ряд других китайских философов для обоснования соответствия их неотрадицио налистской позиции общему направлению развития совр. им мировой куль туры обратились к антисциентизму иррационалистич. учения А. Бергсона. Др. источником возрождения традиции стало обращение к буддизму. Оно воплотилось в учении Лян Шу мина и в системе «новой йогачары» (или «новом учении о только сознании» — синь вэйши лунь) Сюн Ши ли. Созданная последним метафизич. система выходила за пределы дискуссии о подходах
кантропологии и включила в себя проблемы онтологии, гносеологии, вела
кпереосмыслению связи фундаментальных понятий кит. философии. Ключевой темой нового конфуцианства на втором этапе его развития (30–70 е гг.) стала проблема соединения «аналитич.» культурно филос. сознания Запада с «синтетич.» конф. сознанием. В 30–40 е гг., когда появи лись учения Фэн Ю ланя и Хэ Линя, широко опирающиеся на зап. филосо фию, больше внимания уделялось разъяснению связи практич. достижений зап. цивилизации с ее культурно филос. и духовными основами. Кит. интелли генции тех лет было присуще стремление к возрождению нац. культуры в целях политич. консолидации Китая перед лицом агрессии со стороны Японии. К этой цели были обращены и разработки независимых ученых, и отражавшие офиц. позиции правящей партии Гоминьдан доктрины Чэнь Ли фу и Чан Кай ши. После прихода в 1949 к власти КПК новое конфуцианство прекра тило свое существование в континентальной части Китая. Оставшиеся на родине Фэн Ю лань и Хэ Линь много лет подвергались непрерывной критике как представители «реакционной буржуазно помещичьей философии», отка зались от своих первоначальных позиций и перешли на сторону марксизма. Лишь Сюн Ши ли опубликовал в 1956 книгу «Основы конфуцианства» («Юань жу»), развивавшую его прежние взгляды. В начале 50 х гг. эмигриро вавшие на Тайвань и в Сянган (Гонконг) представители нового конфуциан ства — Цянь Му, Моу Цзун сань, Тан Цзюнь и, Сюй Фу гуань и др. — возоб новили свою науч. деятельность. Трагичность и неопределенность судьбы традиц. культуры в КНР наложили отпечаток на их творчество, отличавшееся большим консерватизмом и эмоциональностью в восприятии традиции, чем это было свойственно представителям нового конфуцианства в 20–40 е гг. Важный вклад в развитие нового конфуцианства в среде кит. «филос. зару бежья» внесли основанная в 1949 в Сянгане Академия новой Азии, журналы «Миньчжу пинлунь» («Демократическое обозрение») и «Жэньшэн». Основ ным программным документом нового конфуцианства стал опубликован ный в 1958 Моу Цзун санем, Сюй Фу гуанем, Чжан Цзюнь маем и Тан Цзюнь и «Манифест китайской культуры людям мира». Они призвали подхо дить к кит. культуре не как к музейному экспонату, а как к живому, хотя и боль ному человеку, требующему сочувствия и уважения. Дискуссии представите лей нового конфуцианства с «западниками», к рые были представлены Ху Ши, а также обществоведами и культурологами во главе с Ли Ао, группиро вавшимися вокруг журнала «Вэньсин», продолжались и на Тайване.
Третий этап развития нового конфуцианства начался в 80 е гг. Его основными представителями являются кит. ученые, получившие образование на Западе и имеющие с ним тесные духовные связи. Их отличает прежде всего интер претационно аналитич. подход к традиции, объективность и тенденция к уст ранению политико эмоциональных факторов из своей науч. деятельности. Наиболее видными представителями совр. нового конфуцианства являются Ду Вэй мин, Лю Шу сянь (филос. факультет Китайского ун та Сянгана), Цай Жэнь хоу. Хотя в центре внимания представителей нового конфуцианства остаются культурно историч. судьбы Китая, успех индустриального развития гос в Вост. и Юго Вост. Азии вызвал интерес к новому конфуцианству в пер вую очередь в странах т.н. конф. периферии Азиатско Тихоокеанского региона (Таиланд, Филиппины и т.д.). Спецификой третьего этапа развития нового конфуцианства является его выход за пределы Тайваня, Сянгана и ориентация
371
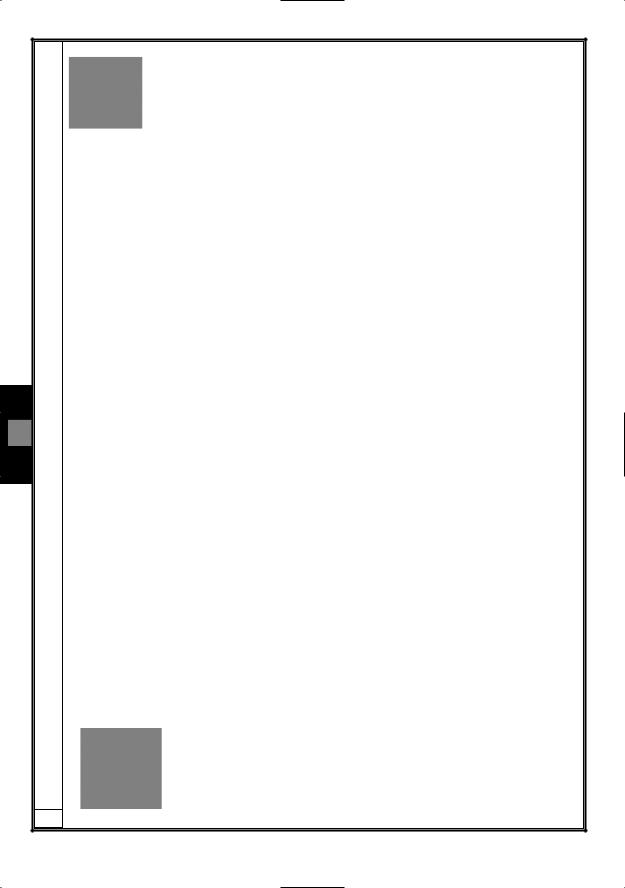
на изучение места и роли конфуцианства в совр. индустриальных гос вах Вост. Азии. С этой целью в 1983 в Сингапуре был создан Ин т восточноазиат ской философии. Перенос акцента с проблемы соотношения «модернизации
ивестернизации» и создания синтетич. филос. систем в сторону глубокого изучения корней культурной традиции обусловил усиление влияния на новое конфуцианство деятельности видных зарубежных исследователей кит. фило софии и культуры, в том числе кит. происхождения, таких, как Чэн Чжун ин, Чэнь Юн цзе, Юй Ин ши.
Осн. отправной точкой в построениях представителей нового конфуцианства является неоконфуцианское «учение о сердце» (синь сюэ) Лу Цзю юаня (XII в.) и Ван Ян мина (кон. XV — нач. XVI в.), как и давшее этому течению базовые положения учение Мэн цзы (IV–III вв. до н.э.). Из зап. философии помимо учения А. Бергсона на новое конфуцианство большое воздействие оказала нем. классич. философия, прежде всего Гегель и Кант, повлиявшие на взгляды Хэ Линя, Моу Цзун саня и Тан Цзюнь и. Осн. цели нового кон фуцианства выражены формулами: «вернуться к корню и открыть новое» (фань бэнь кай синь), «исходя из учения о внутр. совершенной мудрости (нэй шэн), решить проблему внеш. царственности (вай ван)», где под «корнем»
и«внутр. совершенной мудростью» подразумевается традиционное конф. отношение к человеку как субъекту моральной практики, а под «новым»
и«внеш. царственностью» — формы зап. науки и демократии. Признавая отсутствие науч. ментальности зап. типа в старом Китае, большинство пред ставителей нового конфуцианства считают демократич. идеал исконно при сущим конф. традиции, подтверждая это мнение идеями Мэн цзы о праве народа на свержение плохого правителя, о первостепенной ценности народа
ит.п. В то же время они признают, что учение Мэн цзы о равенстве человеч. «природ» в их «доброте» (см. Син [1]) и о «возможности каждому стать Яо
иШунем» (см. Шэн [1]) говорит лишь об идеале морального, но отнюдь не политич. равенства. Проблема актуализации обоих идеалов с опорой на тра дицию является одной из центр. в учении нового конфуцианства о «трех син тезах». «Теоретич. синтез» (дао тун) призван модернизировать идущую от Конфуция и Мэн цзы традицию приоритета аксиологии («как должно быть») над фактами, учения о моральном субъекте над учением об объекте (познания и практики). На основе «теоретич. синтеза» строятся «науч. син тез» (сюэ тун) и «политич. синтез» (чжэн тун), к рые должны создать соот ветствующие требованиям совр. развития познающий субъект для науч. дея тельности и политич. субъект демократ. об ва.
Современному новому конфуцианству остается присущей идущая от Лян Шу мина и Сюн Ши ли тенденция к антипозитивистскому разделению науки и философии, признанию науки неспособной изучать реальность в модусе единства добра и истины. Это затрудняет решение проблемы «науч. синтеза». Признавая справедливость критики зап. форм метафизики, пред ставители нового конфуцианства нацелены на создание системы «мораль ной метафизики», трактующей философию и моральное сознание не как формы знания, а как формы жизненного опыта. Понимание морального субъекта в новом конфуцианстве тесно связано с традиц. концепцией «бла гого знания» (лян чжи), сообщающего человеку некий инстинкт добра, к рый позволяет интуитивно выбирать морально верное поведение. Универсалист ские претензии нового конфуцианства на решение проблем не только Китая, но и всего мира обретают большую весомость с ростом экономич. мощи стран т.н. конф. региона. В числе предложений нового конфуцианства не только снятие характерной для совр. капитализма проблемы отчуждения человека и его «овещения», но и решение вопроса о преодолении разрыва между человеком и миром природы, исходящее из традиц. идеи «единства Неба и человека» (тянь жэнь хэ и; см. Сань цай).
Во 2 й половине 80 х гг. обозначился значительный рост интереса к новому конфуцианству в КНР, где стали признаваться его заслуги в области культурно филос. синтеза и развития нац. культурной традиции.
372
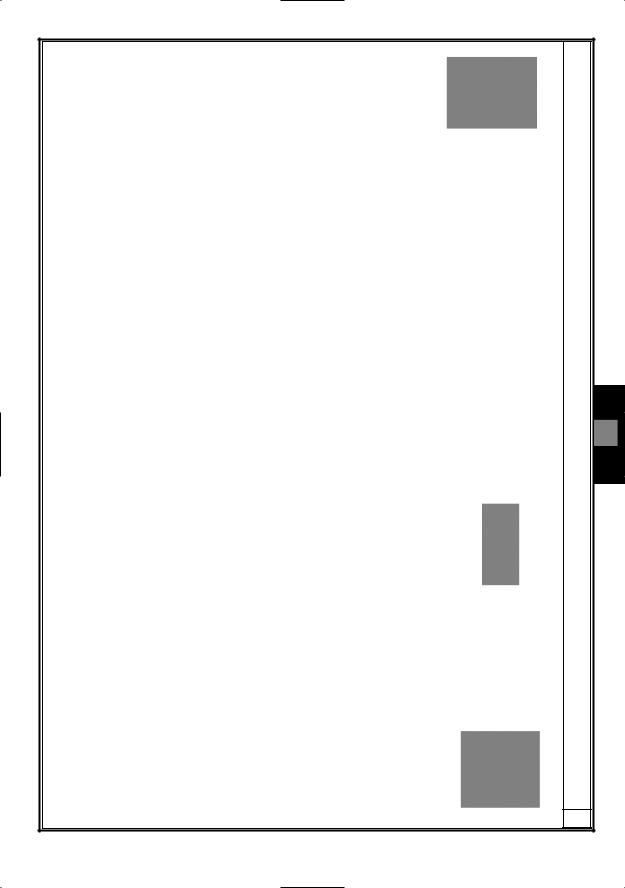
** Зайцев В.В. Конфуцианская концепция человека в философ ской мысли КНР // Философия и религия на зарубежном Востоке ХХ века. М.–Новосиб., 1985; Кобзев А.И. Современный этап в изуче нии и интерпретации неоконфуцианства // НАА. 1983, № 6; он же. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002, с. 6–49, указ.; Ломанов А. Постконфуцианская философская мысль Тайваня и Гон конга: 50–70 е годы ХХ в. // ПДВ. 1993, № 5; он же. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М., 1996; он же. Судьбы китайской философской традиции во второй половине ХХ века: Фэн Юлань и его интеллектуальная эволюция. М., 1998; Ли Цзэ хоу. Чжунго сяньдай сысян ши лунь (Очерк истории мысли современ ного Китая). Пекин, 1987, с. 265–310; Ту Ю гуан. Сяньдай синь жу цзя гайнянь чжии (О понятии современного нового конфуциан ства) // Лилунь синьси бао. 01.02.1988; Цай Жэнь хоу. Синь жу цзя ды цзиншэнь фансян (Духовное направление нового конфуциан ства). Тайвань, 1984; Чжэн Цзя дун. Сяньдай синь жу сюэ гайлунь (Очерк современного нового конфуцианства). Наньнин, 1990; Briеre O. Fifty Years of Chinese Philosophy, 1898–1950. L., 1956; Chang C. The Development of Neo Confucian Thought. Vol. 1–2. N.Y., 1957–1962; Cheng Chung ying. Birth and Challenge of Chinese Philosophy in Today’s World of Man // JCP. 1984, vol. 11, № 1; Contemporary Chinese Philosophy / Ed. by Chung ying Cheng and N. Bunnin. Malden (Mass.) — Oxford, 2002.
А.В. Ломанов
Новое учение о принципе см. Фэн Ю лань
Номиналисты см. Мин цзя
Нумерология см. Сяншучжи сюэ
Нун цзя — «школа аграриев». Одна из десяти филос. школ древнего Китая, впервые перечисленных в трактате Лю Синя (I в. н.э.) «Ци люэ» («Семь сво дов») наряду с конфуцианством, мо цзя, даосизмом, мин цзя, легизмом, иньян цзя, цзунхэн цзя, цза цзя и сяошо цзя («школы литераторов»). В библиографич. разделе «Хань шу» (I в. н.э.) нун цзя возводится к чиновникам, ответственным за земледелие: они считали сельское хоз во основой «восьми дел управления», очерченных в гл. «Хун фань» («Великий план») «Шу цзина», т.е. основой упо рядочения гос ва и об ва. В «Мэн цзы» (IV–III вв. до н.э.; см. Мэн цзы), гл. «Тэн Вэнь гун» (IIIA, 4), говорится о ведущем мыслителе нун цзя — Сюй Сине (V в. до н.э.), к рый подвергал критике филос. направления, не ставив шие земледелие во главу угла, призывал правителя «вместе с народом возде лывать [землю] и [собирать] зерно», т.е. класть в основу управления решение вопросов сельскохозяйств. производства. Агротехнич. опыт нун цзя и взгляды школы отражены в гл. «Ди юань» («Земледельцы») трактата «Гуань цзы» (IV–III вв. до н.э.), главах «Жэнь ди» («Пользование землей»), «Бянь ши» («Ораторы»), «Шэнь ши» («Своевременность») трактата «Люй ши чунь цю» (III в. до н.э.). Сочинения нун цзя утрачены.
А.Г. Юркевич
Орудие см. Ци [2]
Основа и проявление см. Ти–юн
Основа и уток см. Цзин–вэй
НУН ЦЗЯ
373
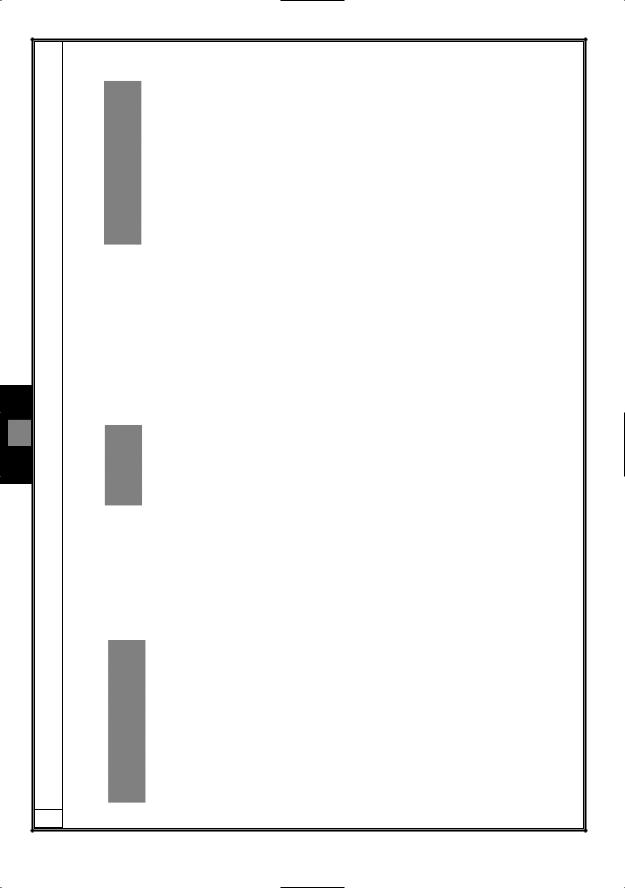
ОУЯН ЦЗИН У
ПУ СЮЭ
САНЬ ГАН У ЧАН
374
Оуян Цзин у, Оуян Чжэ, прозвище И хуан да ши («Великий учитель из Ихуана»). 1871, Ихуан пров. Цзянси, — 1944. Ученый буддист мирянин. В юности полу чил конф. образование, впоследствии принял буддизм. В 1895 приехал в Нан кин, где изучал буд. доктрины под руководством Ян Вэнь хуя, ученого буддиста мирянина, основателя буд. учебного заведения для мирян. Несколько месяцев учился в Японии, по возвращении на родину преподавал в Высшей педагогич. школе провинций Гуандун и Гуанси, по болезни подал прошение об увольне нии. В 1910 продолжил учебу у Ян Вэнь хуя в Нанкине, в 1922 (или 1920) создал там свое учебное заведение — Чжина нэй сюэ юань (Китайский буд. ин т; Чжина — санскр. Китай, нэй сюэ — «внутр. учение», одно из обозначений кит. буддистами своей доктрины). После начала Войны сопротивления Японии в 1937 создал отд. Ин та в Цзянцзине, пров. Сычуань. Осн. соч. — «Цзин у нэй вай сюэ» («Цзин у о внутр. и внеш. учениях»).
В 1917 издал в своей ред. и со своим предисл. классич. трактат виджнянавады (см. Вэйши цзун) «[Юй цзя ши] ди лунь» в 50 цзюанях (свитках). Готовил к изда нию свою редакцию «Да цзан цзина» (Трипитаки). Доказывал, что вэйши цзун и фасян цзун суть разные школы буддизма, тогда как школы фасян цзун и фасин цзун не имеют доктринальных расхождений. Буддизм, по Оуян Цзин у, не является ни вероучением, ни философией, он представляет собой особую систему жизненных принципов. Пропагандировал путь буддиста в миру, вне монашества. Среди многочисленных его учеников были видные деятели буд дизма, известные философы, в т.ч. Сюн Ши ли.
** Сахирова Е.Ф. Обновленческое движение буддистов Китая на рубеже
XIX–ХХ веков // XIV НК ОГК. Ч. 3. М., 1983.
А.Г. Юркевич
Пу сюэ — «учение о естестве», «конкретное учение», «первозданное учение», также хань сюэ — «ханьское учение». Впервые встречается в «Хань шу» (I в. н.э.), разд. «Жу линь чжуань» («Жизнеописания конфуцианцев»). Оба названия используются в двух основных значениях: 1) традиция лексико грамматич. и историко филологич. проработки конф. канонов в русле гл. обр. «школы текстов древних письмен» (гувэньцзин сюэ) эпохи Хань (кон. III в. до н.э. — III в. н.э.) и соответствующие ей особенности идеологии (см. Цзин сюэ); 2) идеологич. и филос. направление, зародившееся в XVII в. и апеллирующее к указанной традиции и идеологии как к образцу. Основоположником пу сюэ эпохи Цин (1644–1911) считается Гу Янь у, крупнейшими представителями – Янь Жо цюй, Ху Вэй, Хуй Дун, Дай Чжэнь и др. В период правления импера торов Цянь луна и Цзя цина (XVII–XVIII вв.) традиции пу сюэ придержива лось направление каноноведения, известное как «школа [периода правления]
Цянь[ луна и] Цзя[ цина]» (цяньцзя сюэпай).
А.Г. Юркевич
Сань ган у чан — «три устоя и пять постоянств», сокр. ган чан — «устои и посто янства». Традиц. для конфуцианства обозначение нормативных отношений между гл. социальными ролевыми позициями и нормативных этич. качеств.
Словосочетание сань ган («три устоя», «тройственная норма») впервые про звучало в соч. реформатора раннего конфуцианства Дун Чжун шу (II в. до н.э.) «Чунь цю фань лу» («Обильные росы „Вёсен и осеней“»), где «три устоя» опре делялись как атрибуты «пути правителя» (ван дао) и требования, исходящие от Неба (тянь [1]) (гл. «Цзи и»). Истоки этого определения прослеживаются в конф. каноне «Ли цзи» (V–II вв. до н.э.), где говорится, что «устои» (ган, букв. «осн. канат рыболовной сети»), о к рых заповедали помнить «совершенномудрые» (шэн [1]) правители древности, — это должные отношения между отцом и сыном, правителем и сановником, мужем и женой (гл. 19).
Словосочетание у чан («пять постоянств») у Дун Чжун шу обозначало качества «Пути» дао, над совершенствованием к рых должен трудиться правитель (ван [1]): «гуманность» (жэнь [2]), «должная справедливость» (и [1]), «этико
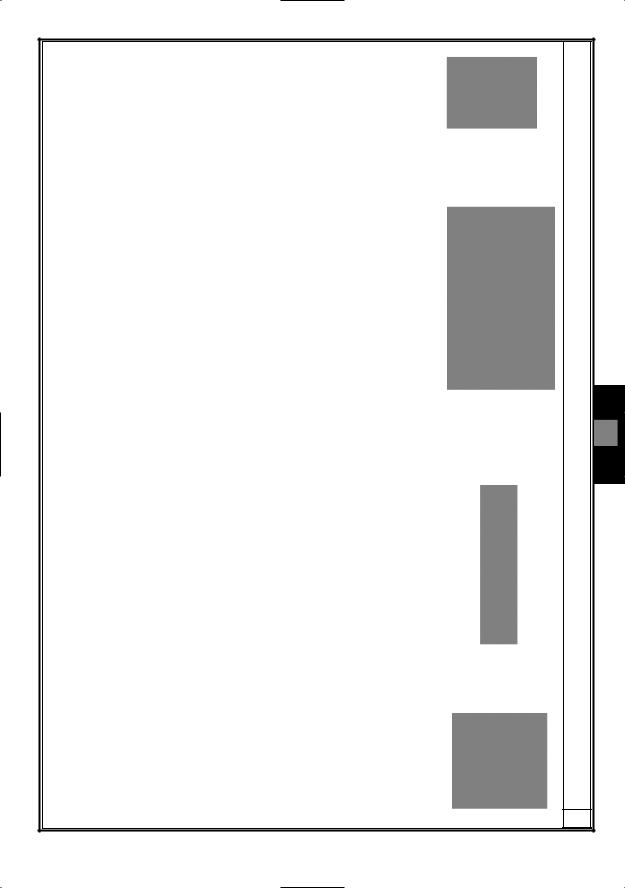
ритуальная благопристойность» (ли [2]), «разумность» (чжи [1]), «благонадеж ность» (синь [2]). Если сочетание сань ган восходило к троичной матрице (ср. триграммы «Чжоу и», триада Небо–Земля–Человек — сань цай и т.п.), то у чан — к пятеричной («пять элементов» — у син). Термин у чан предполо жительно апеллирует к неким «пяти классич. образцам» (у дянь), «послуша ния» к рым требовал конф. канон «Шу цзин» (гл. «Шунь дянь» — «Образцы Шуня»). В «Предисловии» («Сюй») к «Шу цзину» эти «образцы», передающие суть «постоянного дао» (чан дао), связывались с содержанием пяти книг, якобы оставленных пятью древними правителями и мудрецами, жившими до эпохи Ся (до XXIII в. до н.э.). Кун Ань го (I в. до н.э.) определил «пять образцов» как «почитание пяти постоянств» (у чан чжи цзяо); оно реализуется в том, что «отец [руководствуется] должной справедливостью, мать — милосердием, старший брат — дружбой, младший брат — почтительностью, сын — сынов ним благочестием». В «Цзо чжуани» (V–III вв. до н.э.) аналогичная система принципов поведения определена как проявление дао в человеч. чувствах и основание для классификации видов человеч. «природы» (син [1]) по назва ниям позиций системы элементов у син (металл, дерево и т.д.).
Основоположник неоконф. «учения о принципе» (ли сюэ) Чжу Си (см. Нео конфуцианство) первым применил словосочетание сань ган у чан как единое понятие: предвечно существующие и неуничтожимые «устои и постоянства» — ган чан («Чжу цзы юй лэй» — «Высказывания Чжу цзы, классифицированные по родам», цз. 24), тождественные неизменному «небесному принципу» — тянь ли (см. Ли [1]) («Чжу Вэнь гун вэнь цзи» — «Собрание произведений Чжу — князя Культуры», гл. «Ду да цзи» — «Читая великие записки»).
* Чжунго чжэсюэ ши цзюань (Том по истории китайской филосо фии) // Чжэсюэ да цыдянь (Большой философский словарь). Пекин,
1985, с. 31, 38.
А.Г. Юркевич
Сань ди юань жун — «полная гармония трех истин». Важнейшее понятие буд. философии, разработанное в школе тяньтай (см. Тяньтай цзун). Оно является дальнейшим развитием теории двух истин в ее тяньтайском варианте (см. Эр ди). Гл. содержанием теории трех истин была идея их единства.
Своими истоками учение о «полной гармонии трех истин» восходит к тради ции школы мадхьямиков. В «Мадхьямика шастре» (кит. «Чжун лунь» — «Шастра о срединном [видении]») говорилось о том, что все дхармы, рожденные при чинностью, суть пустота, условность и срединность. Преломив онтологич. содер жание данного высказывания через гносеологич. призму теории двух истин, тяньтайские адепты выдвинули три истины: истину пустоты (кун ди), истину условности (цзя ди), истину срединности (чжун ди).
Истина пустоты трактовалась как абс. истина. Согласно ей, все вещи «устано вились» благодаря причинности, они пусты и не имеют своей природы. Эту истину называют также «истиной несуществования» (у ди).
Истина условности (цзя ди, букв. «искусственная») понималась как условная, или мирская, истина. Содержание ее сводилось к тому, что все вещи хотя и при знаются пустыми и не имеющими своей истинной природы, тем не менее не отрицаются как не существующие вообще или не имеющие абс. сущест вования.
Третья истина — чжун ди — называется также «высшей истиной срединного пути». С т.зр. этой истины все вещи рассматривались одновременно и как пус тота, и как условность. При этом истина срединности полагалась чем то внеш ним по отношению к предыдущим двум. Она составляла с ними единство.
Все три истины пронизывают друг друга, составляя гармонию. Ни одна из них не может рассматриваться в отрыве от других. Вещи обладают условным суще ствованием, т.к. они пусты, т.е. условность вещей определяется их пустотнос тью. И наоборот, они пусты, т.к. существование их условно, т.е. пустота вещей определяется их условностью. Оба этих аспекта неотделимы друг от друга
САНЬ ДИ ЮАНЬ ЖУН
375
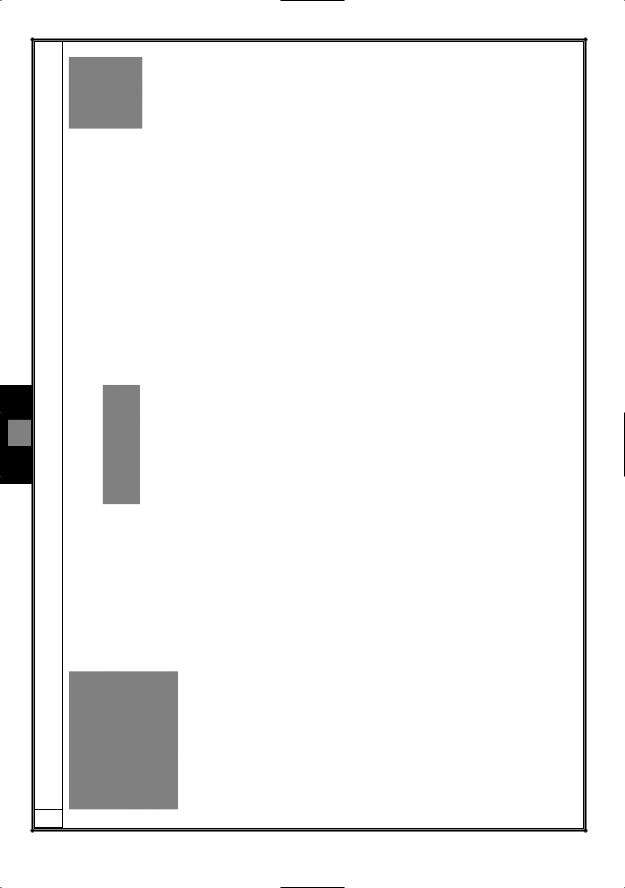
САНЬЛУНЬ ЦЗУН
376
исуществуют одновременно, а это составляет содержание срединности. Сре динность тождественна обоим, т.к. срединность — это состояние условности
ипустотности. Т.о., все три истины составляют одну истину — три в одной, одна в трех. С т.зр. «полной гармонии трех истин» истинносущее не является чистым бытием, находящимся в отрыве от иллюзорного бытия. Истинный вид сущего — это сосуществование абсолютного и условного. Иначе говоря, вне иллюзорного (феноменального) нет абсолютного (истинного).
Третья — срединная истина — это истина о единстве и гармонии условного
иабсолютного. Отражая это единство, она сама составляет с ними единство. Учение сань ди юань жун, т.о., не противореча теории двух истин, не коррек тируя ее содержание, лишь делает акцент на единстве абс. и условной истин, на их гармонии и непротиворечивости друг другу. Единство трех истин, в свою очередь, отражает единство и гармонию мира, что является лейтмотивом уче ния школы тяньтай, на к рый ориентирует ее теория трех истин.
**Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайско го буддизма. Новосиб., 1995; Хуан Чань хуа. Фо цзяо гэ цзун да и (Основ ное содержание учения буддийских школ). Тайбэй, 1973; Chen K.K.S. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ., 1964; Takakusu J. The Essentials of Buddhist Philosophy. Honolulu, 1956.
Л.Е. Янгутов
Саньлунь цзун — «школа трех шастр», «школа трех трактатов». Учение школы базируется на трех шастрах (сань лунь): «Мадхьямика шастре» (кит. «Чжун [гуань] лунь» — «Шастра о срединном [видении]», включающая в себя «Му ла мадхьямика карики» — «Коренные строфы о срединном [видении]» Нагарджуны с коммент. Пингалы), «Двадаша никая шастре» («Ши эр мэнь лунь» — «Шастра двенадцати врат») Нагарджуны и «Шата шастре» («Бай лунь» — «Шастра в ста [стихах]») Арьядевы. К трем шастрам примыкает чет вертая — «Махапраджняпарамита шастра» («Да чжи ду лунь» — «Шастра о вели кой праджняпарамите»), также приписываемая Нагарджуне. Большое внима ние в школе саньлунь уделялось также изучению и комментированию еще четырех сутр: «Махапраджняпарамита сутры» («Да пинь божэ [боломидо] цзин» — «Сутра великой праджняпарамиты»), «Саддхарма пундарика сутры» («[Мяо] фа [лянь] хуа цзин» — «Сутра Лотоса благого Закона», сокр. «Лотосо вая сутра»), «Аватамсака сутры» («Хуаянь цзин» — «Сутра цветочной гир лянды», «Гирляндовая сутра»), «Махапаринирвана сутры» («[Да бо] непань цзин» — «Сутра о великой паринирване»). Школа саньлунь является кит. вари антом инд. школы мадхьямики («[учение о] срединности»), основатели к рой глубоко почитаются — Нагарджуна как 1 й патриарх и Арьядева — как 2 й пат риарх саньлунь цзун.
В Китае школа саньлунь начинает оформляться в V в. благодаря деятельности Кумарадживы (IV–V вв.), к рый, будучи последователем учения мадхьямиков, перевел на кит. яз. основополагающие тексты школы. Он считается 1 м кит. патриархом саньлунь цзун. В VIII в. школа саньлунь прекратила свое существо вание в Китае, уступив место собственно кит., не имеющим аналога в Индии буд. школам. Начиная с VII в. учение школы саньлунь становится известным и активно развивается в Японии (под назв. санрон).
Главным систематизатором учения и фактическим основателем школы сань лунь считается Цзи цзан (V–VI вв.), написавший многочисленные коммента рии к основополагающим текстам школы.
Наставники школы саньлунь, прежде всего Цзи цзан, не просто восприняли учение мадхьямики, но и развили его отдельные филос. положения, показав возможности негативной диалектики Нагарджуны. В произведениях мысли телей школы содержится богатый фактич. материал по истории и учениям др. школ, что позволяет полнее реконструировать общее развитие и проблематику раннего кит. буддизма. В этих соч. также содержатся материалы, касающиеся истории и проблематики инд. буд. и небуд. школ, благодаря чему представ
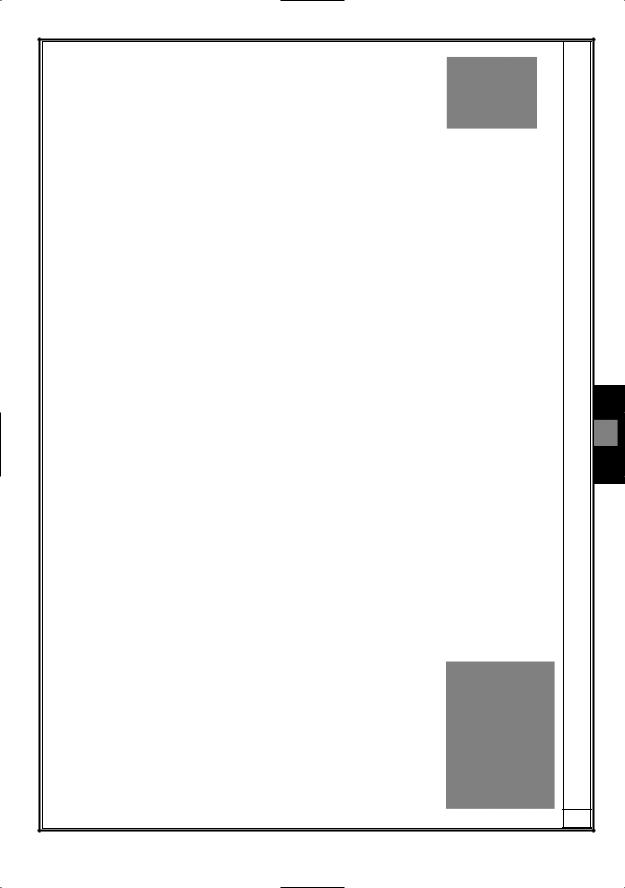
ляется возможным судить о восприятии инд. философии и культуры в Китае в I тыс. н.э.
Офиц. хронология школы изложена в цзиньлинской версии трактата Цзи цзана «Сань лунь сюань и» («Сокровенный смысл трех шастр»). Согласно ей, передача учения происходила по след. линии: Нагарджуна — Арьядева — Рахулабхадра — Пингала — Сурьясома — Кумараджива — Дао шэн — Тань цзи — Дао лан — Сэн цюань — Фа лан — Цзи цзан.
Если в историчности Кумарадживы и его влиянии на формирование школы саньлунь нет никаких сомнений, то последующая линия передачи учения выглядит не вполне достоверной. Скорее всего, от Кумарадживы оно перешло к Сэн чжао. В пользу этой гипотезы свидетельствует, в частности, то, что Цзи цзан неоднократно называл Сэн чжао подлинным основателем школы.
Благодаря стараниям Кумарадживы и Сэн чжао учение саньлунь получило большое распространение в сев. областях Китая, на юге же идеи мадхьямики распространялись усилиями Сэн лана и его учителя Фа ду (V в.). Фа ду был приверженцем учения о «чистой земле» (см. Цзинту цзун) и проповедовал «Апаримитаюс сутру» («У лян шоу цзин» — «Сутра неисчислимого долголе тия»). От Сэн лана учение перешло к Сэн цюаню, к рый известен как автор «Эр ди чжан» («Очерк о двух истинах»), ныне утерянного. Фа лан доба вил к трем сутрам, опорным в учении саньлунь («Да пинь», «Фахуа цзин», «Хуаянь цзин»), четвертую сутру — «Непань цзин». Учеником Фа лана был Цзи цзан.
Наиболее известными учениками Цзи цзана были Хуй юань, Чжи ба, Чжи кай, Чжи мин, Учитель Шо фа (Шо фа ши), Хуй гуань. Гаолийский (корейский) монах Хуй гуань (кор. Пикван, япон. Экван) в монастыре Цзясян сы перенял от Цзи цзана учение и в 624 отправился в Японию проповедовать его, поэтому пер вой буд. школой в Японии может считаться саньлунь цзун (санрон сю).
Учитель Шо фа известен как автор сочинения «Сань лунь ю и и» («Общий смысл содержания трех шастр»). Его учеником был Юань кан, написавший «Чжао лунь шу» («Комментарии к рассуждениям [Сэн ]чжао») в трех цзюанях. Школа саньлунь развивала учение мадхьямики о двух истинах (эр ди), пустоте (кун [1]), срединном пути (чжун дао; также см. Ба бу чжун дао), природе будды (фо син) и др. Осн. упор делался на теоретич. обоснование буд. истин.
* Хань Тин цзе. Цзи цзан Саньлунь сюань и цзяо ши («Сокровенный смысл трех шастр» Цзи цзана со сверкой и толкованиями). Пекин, 1987; Chan Wing tsit. A Source Book of Chinese Philosophy. Princ.–L., 1963; ** Буддизм в Японии / Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993; Дюмулен Г. История Дзэн буддизма: Индия и Китай. СПб., 1994; Игнатович А.Н. Буд дизм в Японии (Очерк ранней истории). М., 1987; Фэн Ю лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995; Тан Юн тун. Суй Тан фоцзяо ши гао (Очерки по истории буд дизма [династий] Суй и Тан). Пекин, 1982; он же. Хань Вэй лян Цзинь Нань Бэй чао фо цзяо ши (История буддизма [эпох] Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных династий). Пекин, 1983; Фан Ли тянь. Фо цзяо чжэсюэ (Буддийская философия). Пекин, 1987; Фэн Ю лань. Чжунго чжэсюэ ши (История китайской философии). Пекин, 1961; Хуан Чань хуа. Фо цзяо гэ цзун да и (Основное содержание учения буддийских школ). Тайбэй, 1973; Чжунго сысян тун ши (Всеобщая история китайской идеологии). Т. 3, ч. 1. Пекин, 1959; Чжунго фо цзяо (Китайский буддизм). Т. 1–2. Шанхай, 1989; Чжунго фо цзяо ши (История китайского буддизма) / Под ред. Жэнь Цзи юя. Т. 2. Пекин, 1982; Chen K. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ., 1964; Cheng Hsueh li. Truth and Logic in San lun Madhyamika Buddhism // International Philosophical Quarterly. 1981, vol. XXI, № 3; Fox A. Self Reflection in the Sanlun Tradition: Madhyamika as the “Deconstructive Conscience” of Buddhism // JCP. 1992, vol. 19; Robinson R.Н. Early Madhyamika in India and China. L., 1967.
См. также лит ру к ст.: Цзи цзан.
М.В. Анашина
377
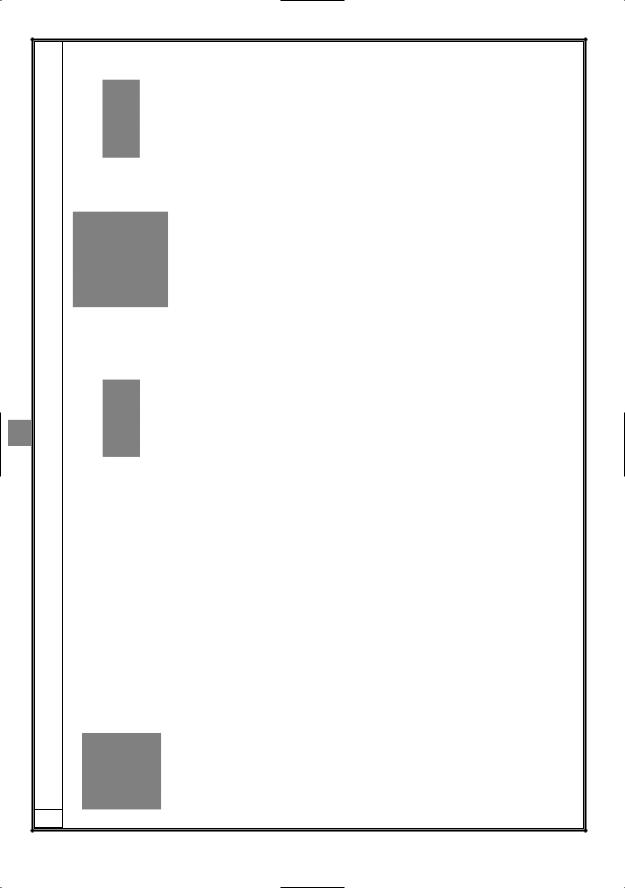
|
|
|
|
САНЬМЭЙ |
|
Саньмэй — самадхи (cанскр.), «сосредоточенность», стабилизация сознания, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
упорядоченность психики, спокойствие, умиротворенность, уравновешен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ность. Буд. термин, обозначающий психич. состояние, в к ром сознание цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ком сосредоточено в едином фокусе («одной точке») и не подвержено хаосу. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Один из важнейших методов буд. практики психич. саморегуляции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восемь звеньев «благородного восьмеричного пути» к просветлению (ба чжэн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дао) объединяются в три группы, обозначаемые соответственно как праджня, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шила, самадхи. Группа праджни включает «правильное видение» и «правиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ную мысль», шилы — «правильную речь», «правильное действие» и «правиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ный образ жизни»; в группу самадхи входят «правильное усилие», «правиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ное внимание» и «правильное сосредоточение». В кит. буддизме различаются |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
два вида самадхи: 1) «спонтанное (врожденное) самадхи» (шэн дэ); 2) «приоб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ретенное благодаря совершенствованию» (сю дэ), под к рым подразумевается |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
самадхи, обретенное посредством развития интуитивной мудрости или «доб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
родетельных заслуг» (гун дэ) и являющееся одной из шести парамит («совер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шенств», букв. «переправ»: милостыня, обеты, терпение, старание, медитация, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мудрость). В буддизме махаяны и хинаяны существует множество классифи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
каций самадхи: «три вида самадхи», «четыре вида», «108 видов» и т.п. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Чжунго фо цзяо (Китайский буддизм). Т. 1–2. Шанхай, 1989. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н.В. Абаев, С.Ю. Лепехов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сань цай — «три ценности», «три основы», «три начала». Обозначение трех |
|
|
|
|
САНЬ ЦАЙ |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гл. вселенских начал: Небо–Земля–Человек. Осн. репрезентант фундамен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тальной для кит. культуры троичной классифицирующей матрицы, имеющей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разнообразные корреляты (напр., син [2] — «[телесная] форма», ци [1] — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«пневма», шэнь [1] — «дух») и широко используемой в нумерологич. построе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ниях и филос. выкладках. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интегрирующую роль в этой триаде играет категория тянь [1] — одна из важ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нейших в кит. философии и культуре. Осн. значения иероглифа тянь [1] — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
небо (в т.ч. в астрономич. смысле), природа, бог, божество, сезон, день. В филос. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и традиц. идеологич. контексте эта категория может обозначать: 1) верховное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
божество, высшую божественную силу; 2) высшее природное начало, соотно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сящееся с Землей — началом более низкого уровня — и производным от них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
человеком, носителем произвольной творческой активности; 3) природу как |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
естеств. целостность, понятие, синонимичное биному тянь ди («небо и земля»), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обозначающему биполярный универсум; 4) гл. природное начало в человеке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(этимологически иероглиф тянь [1] восходит к пиктографич. изображению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
высокого человека). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представление о тянь [1] как верховной божественной силе закрепилось в кит. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуре в эпоху Чжоу (XI–III вв. до н.э.). В начале ее тянь [1], видимо, было |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
синонимично понятию шан ди («Верховный владыка», по др. версии — «верх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ние государи»), обозначавшему первопредка или предков — государей эпохи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шан Инь (XVI–XI вв. до н.э.). Свержение в кон. XII — XI в. до н.э. протого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сударства («династии») Инь племенным союзом Чжоу привело к разрыву |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
понятия тянь [1] с представлением о первопредке, но персонификация Неба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
какое то время сохранялась. На филос. уровне она зафиксирована в трактате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Мо цзы» (V–III вв. до н.э.), где Небо объявляется имеющим желания, а «небес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ная воля» (тянь чжи) рассматривается как инструмент «для определения углов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в Поднебесной» (критерий оценки человеч. действий), подобный циркулю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
или угломеру ремесленника. Небо толкуется как универсальная «порождаю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щая и взращивающая» сила, реализующая возможность использования чело |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
веком миропорядка, установленного дао (смену времен года, выпадение осад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ков, позволяющих вести сельское хоз во, и т.п.). Равной заботой Неба обо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всем сущем моисты обосновывали доктрину «равной любви», объявленной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выражением «небесной воли»: нарушение принципа «равной любви» прави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
телем влечет за собой наказание для Поднебесной (Тянься), понимаемой как |
378
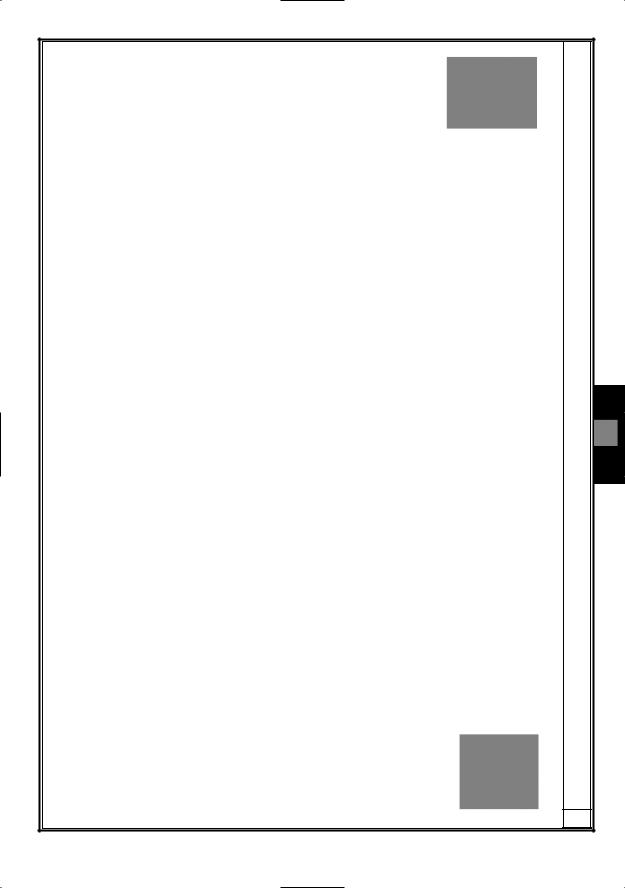
социум с занимаемой им территорией, в виде «болезней, бедствий, злого голода».
Вдр. течениях древнекит. философии Небо было деперсонифицировано. У Кон фуция Небо, «приводящее в движение четыре времени [года]», «рождающее сто вещей», «безмолвствует» («Лунь юй», XVII, 18), т.е. не способно к волеизъ явлению. Основоположники философии даосизма акцентировали вторичный онтологич. статус Неба относительно дао: «Небо берет за образец дао, дао берет за образец само себя» («Дао дэ цзин», § 25).
Вдаос. же памятниках появляется бином тянь ди (небо и земля) как выраже ние природных начал. Этот бином стал подразумевать реализацию двоичной матрицы (инь–ян) в устройстве мироздания. В отличие от человека небо и земля не руководствуются надуманными этич. принципами — они «не гуманны» (бу жэнь) («Дао дэ цзин», § 5). В гл. XII «Тянь ди» «Чжуан цзы» (IV–III вв. до н.э.) они выступают выражением «природности» и фактич. синонимом тянь. В этом значении бином тянь ди использовался в последую щей кит. философии, особенно широко — в неоконфуцианстве.
Согласно «Чжуан цзы», дао порождает Небо и Землю (гл. 6). Там же атрибу том Неба объявлено «недеяние» (у вэй): «Действующее благодаря недеянию называется Небом» (гл. 12). Тем самым подчеркивается отсутствие у Неба воз можности произвольного целеполагания в отличие от человека. В то же время в «Чжуан цзы» понятие тянь впервые применено для обозначения природы отд. человека: «У совершенного человека природа (тянь [1]) сохраняет целост ность». Видимо, там же (но, возможно, в «Ли цзи», V–II вв. до н.э.) впервые прозвучало понятие «небесный принцип» (тянь ли; см. Ли [1]), обозначавшее упорядочивающее начало, имманентное Небу и, т.о., всему сущему, в т.ч. чело веку. Посредством «небесного принципа», согласно «Чжуан цзы», осуществ ляется «[прямое] следование [порядку вещей] (шунь)» (гл. 33), т.е. дао.
Даос. трактовка Неба, содержащая представление о его материально идеаль ной и психофизич. амбивалентности, была воспринята конф. философией (см. Конфуцианство). Гл. обр. в ее рамках получила дальнейшее развитие кате гория тянь [1]. Это было обусловлено особым значением для конф. мысли идеи личной ответственности за нормальное функционирование социума и потому — проблемы разграничения компетенции высших природных сил и человека в их упорядочивающем воздействии на природу и об во. Этот вопрос стал ведущим в рамках комплекса проблем, объединенных установкой на определение специфики и связей «небесного» и «человеч.» дао.
Вкомментирующей части «Чжоу и» появляется понятие сань цай, включаю щее в триаду космич. сущностей Небо, Землю и человека. В «Си цы чжуани» (II, 10) эта триада представляет модусы, или аспекты, дао: дао Неба, дао Земли и дао человека; удвоение триады дает число черт гексаграмм гуа [2], представ ляющих единство «трех ценностей». В «Шо гуа чжуани» с установлением дао Неба ассоциируются космич. силы инь ян, с дао Земли — «мягкость» и «твер дость» (жоу ган), предполагающие их проявленность в веществе, с дао чело века — жэнь [2] — «гуманность», и [1] — «долг», «справедливость». Эти пары равно представляют дуальность «трех ценностей», т.е. сопряженность «троицы» с двоичной матрицей. Введение в триаду третьего члена — человека, порож денного Небом и Землей, во первых, подразумевает его медиативную роль во взаимодействии гл. природных начал, во вторых, обозначает путь к упорядоче нию космич. связей посредством реализации этич. принципов как деонтологич. нормы. Эти идеи восходят к древним представлениям о роли «истинного царя» — вана [1] как медиатора между Небом и Землей.
Осн. тенденции в решении вопроса о функциональном соотношении Неба и человека выразились в формулах: «совпадающее единство Неба и человека» (тянь жэнь хэ и), «взаимный отклик Неба и человека» (тянь жэнь гань ин), «разграничение Неба и человека» (тянь жэнь чжи фэнь).
Тезис о «совпадающем единстве» был выдвинут создателем ортодоксаль ной конф. идеологич. системы Дун Чжун шу (II в. до н.э.) («Чунь цю фань лу», гл. «Шэнь ча мин хао»). Этот тезис основывался на развитии положений,
379
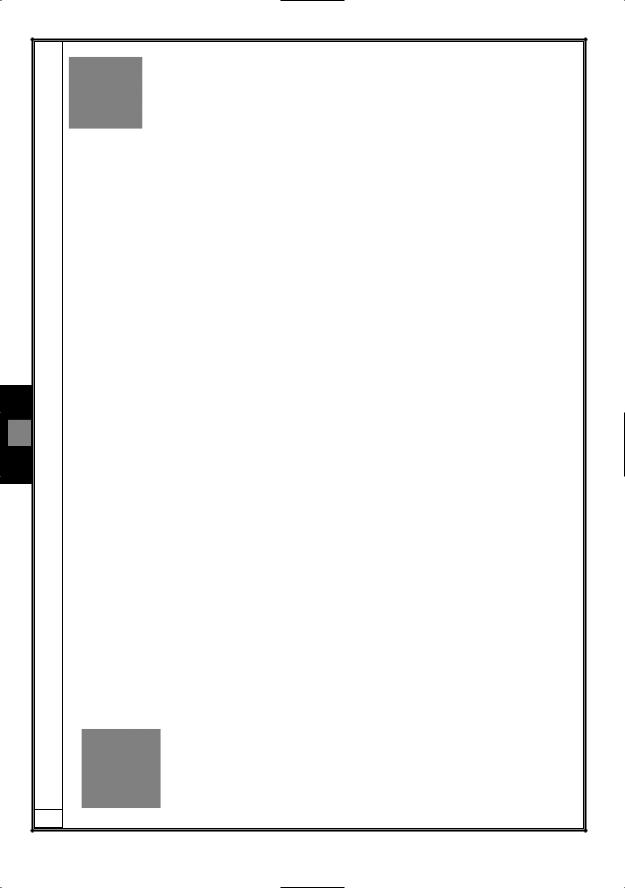
содержащихся в предшествующих памятниках филос. мысли. В комментирую щей части «Чжоу и» утверждается, что «благодать/добродетель (дэ [1]) великого человека» совпадает с «благодатью/добродетелью Неба и Земли» («Вэнь янь чжуань», ч. 1), т.е. человек может иметь равные возможности с гл. природными началами. В предначальной («прежденебесной», или «прежнего Неба» — сянь тянь) реальности великому человеку не препятствует само Небо, в «послене бесном» («последующего Неба» — хоу тянь) — феноменальном мире он «сле дует небесным временам» (там же), т.е. во всем органичен закономерностям космич. циклов. В «Чжун юне» (V–II вв. до н.э.) постулируется возможность «войти в триединство с Небом и Землей» для того, кто способен «исчерпы вающе [раскрыть] свою природу (син [1])». Мэн цзы (IV–III вв. до н.э.) в раз витие этой идеи объявляет «исчерпание собственного сердца (синь [1])», т.е. предельное выявление интеллектуальных, эмоционально волевых и моральных потенций изначально «доброй» человеч. «природы» (син [1]), путем к позна нию последней и т.о. — к познанию Неба («Мэн цзы», VII A, 1), единосущ ного человеч. природе, к «[погружению личности] сверху донизу в общий поток с Небом и Землей».
В отличие от конфуцианца Мэн цзы, подчеркнуто этизировавшего и перево дившего в праксиологич. сферу акт «исчерпания сердца», выступающий как итог личного самосовершенствования, Чжуан цзы акцентировал гносеопси хологич. характер единства человека и универсума. К нарушению этого един ства приводит произвольная объективация окружающего мира, а недопу щение такой объективации или ее преодоление обеспечивает способность «совершенномудрого» (шэн [1]) «действовать [в согласии со] всем в мире, не таясь [от него]» (гл. 25). В «Люй ши чунь цю» (III в. до н.э.; см. Цза цзя) связь человека и Неба обусловлена их онтологич. единством: «Человек и вещи суть превращения [сил] инь–ян, а творчество [сил] инь–ян приводит к формирова нию Неба»; все качества, присущие Небу и человеку в отдельности суть «принципы (ли [1]) вещей, наполняющих Небо» («Чжи фэнь»). Дун Чжун шу, основываясь на предшествующих концепциях, ввел связи Неба и человека в систему всеобщих соответствий — онтологич., этич., психологич. и физио логич. Эти соответствия сопряжены с «образами (символами — сян [1]) солнца и луны», т.е. с универсальными классификационными рядами, позиции к рых — качества, свойства, явления, тенденции — корреспондировали с понятиями ян [1] (ряд «солнца») и инь [1] (ряд «луны»). По Дун Чжун шу, «пневмы (ци [1]) радости и гнева», к рыми обладает Небо, соответствуют человеч. скорби или радости: однородные (тун лэй) человеческим «пневмы» Неба «обогащают» человека, а при полном их совпадении обеспечивают «единство Неба и чело века» («Чунь цю фань лу», гл. «Инь ян и»).
Функциональный аспект концепции «совпадающего единства» акцентируется тезисом Дун Чжун шу о «взаимном отклике Неба и человека». Его истоки помимо тех же пассажей древнекит. памятников, что заложили фундамент концепции «совпадающего единства», прослеживаются также в «Цзо чжуани» (IV в. до н.э.). Там «добрый человек» объявляется «основанием Неба и Земли», т.е. прямо постулируется зависимость гл. природных функций от человека. Согласно «Люй ши чунь цю», Небо и человек проявляют схожие «реакции» («отклики» — ин) в том смысле, что явления природы могут быть сопоста вимы с однородными человеч. качествами и проявлениями, а «благость» или жестокость государей как медиаторов между Небом и социумом ответственны за приведение масс людей к «благу» либо «неправедности». Нарушение же государем и его подданными регулярных закономерностей общения с при родными силами (напр., нарушение ритуальных норм и хоз. установлений, предписанных для определенного сезона) объявлялось возможной причиной сбоя природных циклич. ритмов, стихийных бедствий и т.п. Согласно же кон цепции «взаимного отклика», разработанной Дун Чжун шу, на ошибки в управ лении страной и, соответственно, на дезорганизацию социума (Поднебесной) Небо реагирует сначала предупреждениями в виде стихийных бедствий. Если предупреждения безрезультатны, то Небо посылает чудесные знамения. И лишь
380
