
Агацци Э. Научная объективность и ее контексты
.pdf
332 Глава 4. Онтологическая ангажированность науки
им затруднения при разработке их более утонченных доктрин. Такой случай представляет собой эмпирический структурализм ван Фраассена, ясное понимание которого предполагает, очевидно, удовлетворительное понимание самого понятия структуры. Однако автор не дает никакого такого определения, просто используя неопределяемое слово «структура» и такие выражения, как «абстрактная структура» и «математическая структура». Рассмотрим, например, следующий важный пассаж (van Fraassen 2008, p. 238). Существенным для эмпирического структурализма является следующая базовая интерпретация лозунга «Все, что мы знаем, это структура»:
I. Наука представляет эмпирические явления как вложимые в определенные абстрактные структуры (теоретические модели).
II. Эти абстрактные структуры могут описываться только вплоть до структурного изоморфизма.
Такая манера выражаться наводит на мысль, что эти абстрактные структуры надо понимать как интенсиональные объекты, как ноэмы, используя нашу предыдущую терминологию, но автор –строгий эмпирицист – не хочет признавать эту онтологическую характеристику. В результате читатель не знает, какого «рода реальностью» обладают эти абстрактные структуры, поскольку, в конце концов, они отличны от «ничто» и даже могут вкладываться одна в другую. Более того, почему они являются «абстрактными», если в книге не упоминается ни о каких «конкретных структурах»? Нам говорят, что явления «вкладываются» в абстрактные структуры, но это могло бы иметь нечто вроде аналогового смысла, если бы у явлений тоже была структура, но несколькими сроками ниже это явным образом исключается. Напротив, мы сказали бы, что модели и математические структуры суть абстрактные объекты, которые могут экземплифицироваться явлениями, благодаря некоторым операциям становящимися их референтами.
Ван Фраассен, однако, четко отвергает такую идею. Например, обсуждая пример утверждения, что столешница квадратная, он говорит: «Это верно, но только потому, что эта столешница квадратная – c’est tout (и все! – фр.)! Это верно, потому что стороны столешницы имеют одинаковую длину и углы между ними прямые. Это можно было бы перефразировать как «столешница экземплифицирует форму Евклидова квадрата», но наличная стоимость этого утверждения не несет никакой метафизической ангажированности: просто столешница квадратная» (2008, p. 249). Можно было бы возразить, что операция измерения сторон и углов столешницы может позволить мне сказать, что столешница квадратная, потому что они приводят к экземплификациям свойств, закодированных в понятии квадрата, а не, например, круга. Нам кажется, что эмпирицист мог бы принять такую позицию, если бы можно было бы предложить некоторые приемлемые (для него) объяснения того, как можно прийти к таким абстрактным понятиям, но тогда обсуждение ограничилось бы областью эпистемологии и не касалось бы онтологии. Следовательно, в позиции ван Фраассена ясно

Примечания 333
просматривается онтологическая установка, в которой можно различить черты номинализма, и если еще учесть его аллергию к «метафизической ангажированности» (которая провозглашается и в других местах его работы), его позицию можно охарактеризовать как развитие неопозитивистской традиции. Это никоим образом не отрицательная оценка; напротив, разумные, оригинальные и творческие идеи, выдвигавшиеся в течение многих лет этим философом, свидетельствуют о внутреннем богатстве этой традиции – богатстве, которое охотно готовы признать и те, кто критикует эту традицию, указывают ее ограничения и выдвигают альтернативные идеи.
17Заметим, что это признание «интенциональной» природы когнитивных актов и их продуктов (т.е. репрезентаций) может ограничиваться признанием «направленности» таких актов и их продуктов, так что к этим продуктам может даже применяться определение «интенсиональный» без следующего шага – признания интенсиональной реальности как таковой. Это типично для радкальных эмпирицистов, что хорошо видно в van Fraassen (2008), где интенция и интенсионал очень скупо упоминаются в этом ограниченном смысле (pp. 21–22), в то время как «онтологический статус» таких интенсиональных единиц (entities), как репрезентации и модели, не определяется, и это является критическим моментом их доктрины, который мы рассматривали в предыдущем примечании.
18В первой главе Zalta (1988) можно найти обсуждение некоторых дополнительных причин, поддерживающих слияние «интенциональности» и «интенсиональности» в современных логических исследованиях.
19См., напр., Agazzi (1969, 1976).
20Самый значительный пример этого – Zalta (1988). В его книге впервые дана подробная и строгая формальная трактовка отношений, задающая, в частности, условия наличия отношений и их тождества. Таким образом, традиционная теоретико-множественная трактовка (для которой отношения совпадают с их экземплификацией-экстенсионалом) уже не является единственным строгим инструментом исследования отношений, не говоря уже о том, что исключительное использование этого инструмента укрепляло ошибочное представление, будто отношения «сильно экстенсиональны», тогда как интуитивно ясно, что даже логически эквивалентные свойства или отношения не тождественны с интенсиональной точки зрения, т.е. с точки зрения их смысла.
21Залта, например, тоже их отождествляет.
22Заметим, что мы здесь собираемся использовать понятие «знание» в его самом широком смысле, т.е. включая как «знание путем ознакомления», так и «пропозициональное знание», признавая тем самым существование также и субъективного знания, а также тот факт, что знание не обязательно влечет за собой включение конкретного во всеобщее. Мы выбрали это «терпимое» отношение, поскольку нам здесь не требуется входить в подробности, которые могли бы потребовать более тонкого анализа.

334 Глава 4. Онтологическая ангажированность науки
23Анализ фрегевской «трихотомии» дан в Thiel (1965), где автор усматривает взаимно-однозначное соответствие между различением «знак, смысл, референция» и различением «субъективно реальное, объек- тивно-нереальное, объективно-реальное», и обвиняет Фреге в том, что он ввел «совершенно неприемлемое смешение» своим «допущением участия онтологии в учение о смысле и референции» (pp. 151–152 английского издания). Убедительную аргументацию того, что Фреге не допускал такого смешения, вместе с оправданием законности рассмотрения онтологических эквивалентов семантического анализа, см. в критическом разборе работы Тиля в Carl (1982), pp. 61–65.
24Мы тем самым не упускаем из виду то, что подчеркивал Фреге по поводу «ненасыщенного» характера понятий в противовес насыщенному характеру объектов, но в то же самое время объясняем онтологическую черту, в какой-то мере затуманенную чисто лингвистическим анализом Фреге, а именно то, что свойства часто обладают довольно-таки несомненной внутренней определимостью. (С другой стороны, Фреге признавал, что понятия тоже могут становиться объектами, насыщающими понятие второго порядка.) Что же касается онтологического анализа, мы полагаем, что традиционное различение esse per se и esse per alio все еще остается подходящим орудием для онтологического анализа свойств, наделяющего не только индивиды онтологической релевантностью. Укажем, кстати, что наш семантический анализ частично согласуется с теорией Фреге, по крайней мере в том смысле, что предикат, как ненасыщенное выражение, не может иметь референтом объект и потому должен обозначать понятие. Но поскольку понятие есть то, род существования чего состоит в том, чтобы быть истинным или ложным относительно какого-то объекта, в результате для Фреге понятие оказывается свойством или функцией (в нашем словаре – атрибутом). В результате и семнтика Фреге, и наша говорят, что референтом предиката является атрибут. Однако наше согласие с Фреге лишь очень частичное, поскольку понятия для него – референты, а не смыслы, предикатов (в противовес нашей позиции). Фреге вынужден поддерживать эту позицию, чтобы не противоречить своему фундаментальному различению понятия и объекта. Однако, к сожалению, он так и не сформулировал четкого взгляда на онтологический статус понятий, удовлетворяясь тем фактом, что их существование оправдывается возможностью квантифицировать по ним (что есть чисто лингвистическое оправдание). Нас, напротив, онтология заботит, и мы приписываем понятиям онтологический статус интенсиональных объектов (на уровне смысла); и в то же время мы говорим, что они отсылают (или могут отсылать) к конкретно существующим атрибутам.
25Этим объясняется, почему было бы сомнительным (вопреки первому впечатлению) говорить, что референцией предиката является его экстенсионал. На самом деле для Фреге, в то время как смыслом предиката является «способ, каким он задан», а его референцией является понятие

Примечания 335
(приравниваемое к свойству или отношению), экстенсионал (который он называет Umfang) не имеет никакого семантического отношения к предикату. Карнап, с другой стороны, не использует различения смысла и референции. Классическая традиция на самом деле была более утонченной, чем современные подходы: «содержание (comprehension)» понятия (т.е. его «содержание (content)», его «интенция», используя современный словарь) было классом его характеристик, т.е. классом вышестоящих понятий, входящих в его определение (скажем, например, таких понятий, как «животное» или «разумное» в случае интенсионала «человек»). А «экстенсионалом» был класс его нижестоящих понятий (таких, например, как «европеец», «музыкант»), среди которых на нижнем уровне находятся единичные понятия. Следовательно, классические понятия «интенсии» и «экстенсии» обозначали только отношения между понятиями и не подразумевали «онтологического прыжка», происходящего при рассмотрении экстенсионала понятия как образуемого не понятиями, а конкретными индивидами.
26Мы помним, что употребляем термин «данные» в двух разных смыслах. В предшествующих разделах мы считали данными результаты, доставляемые непосредственным применением операциональных средств; здесь мы включаем в число данных также инструменты и вещи, не вызывающие сомнений. Мы делаем так умышленно, чтобы подчеркнуть общий характер «данности» всех этих различных единиц. Этого, однако, не будет в дальнейшем, когда мы вернемся к использованию термина «данные» в более техническом смысле операционально установленных положений дел.
27См. Agazzi (1969).
28Некоторые части этого и следующих разделов вошли в Agazzi 1997b.
29См. особенно Husserl (1913) и Meinong (1904). Решения, предложенные Гуссерлем и Мейнонгом, часто считают несовместимыми. Но на самом деле это не так. Они скорее соответствуют различию только что упомянутых нами подходов, и их можно примирить, дав более позитивную интерпретацию тезисов Мейнонга, обратившись к некоторым элементам его онтологии, которые не очень ясны в его работах, но были полностью разработаны его студентом Эрнстом Малли (см. Mally 1912). Это показано в кратком, но ценном изложении спора об интенциональности на рубеже двух столетий, данном в гл. 6 Zalta (1988). Сам Залта (как мы уже говорили) развивает собственную теорию интенциональности, используя как мейнонговское различение бытия и существования (так что «абстрактные объекты» не существуют), и различение Малли определения (determining) и удовлетворения (satisfying), которые он воспроизводит в своих понятиях кодирования экземплификации. Благодаря этим усовершенствованиям Залта смог создать теорию «абстрактных объектов» (которые не существуют, хотя и кодируют точно определенные свойства) и «обычных объектов» (которые существуют и экземплифицируют некоторые свойства), а также развернутую теорию отношений, которая дает ему возможность устранить

336 Глава 4. Онтологическая ангажированность науки
(самым непосредственным и убедительным путем из нам известных) все обычные трудности, связанные с принципами экзистенциального обобщения и подстановочности в интенсиональных контекстах. Как мы уже иногда отмечали, есть много точек сходства между нашей теорией научных объектов и теорией интенциональности Залты. Однако между нами есть и различия, которые мы скоро обсудим и которые в то же время являются различиями между нашей концепцией и концепцией Мейнонга, несмотря (снова) на некоторые пункты сходства.
30См. Harré (1964), p. 48 ff.
31Страницы указаны по Zalta (1988).
32Мы не хотели бы создать впечатление чересчур критического отношения к Залте. На самом деле его позиция не только имеет явные и признанные исторические корни в работах Мейнонга и Малли, но и вполне созвучна с многочисленными высказываниями по вопросу о «несуществующих объектах» в современной литературе, символическим заголовком для которой могло бы служить название (очень ценной) книги Парсонса «Несуществующие объекты» («Non-existent Objects». Parsons 1980). Мы так подробно обсуждали Залту потому, что его подход, по нашему мнению, представляет собой лучшую трактовку подобного рода проблем и в то же время дает возможность показать, как можно избавиться от этого странного очернения существования некоторых вещей, которые «есть».
33Как пример второй доктрины можно привести схоластическое учение о фантазмах (что мы можем перевести как «чувственные образы»). Они – не id quod cognoscitur (то, что познается), а id quo cognoscitur (то, через что мы познаем), и это несмотря на то, что наш разум неспособен познать вещи иначе, как пройдя через эти образы (nisi convertendo se ad phantasmata). Эта другая доктрина очевидна у Декарта, утверждавшего, что мы знаем наши «идеи» и рассматривающего их как нечто, происхождение чего должно иметь причинное объяснение. Он полагал, что логическим анализом этих идей можно вывести существование вещей (например, Бога и внешнего мира) из их причин. Только мыслящий субъект избегает этой судьбы, поскольку он предстоит самому себе в акте cogito. Этот подход, как мы уже говорили, сохранило большинство философов Нового времени вплоть до Канта, и он составляет философскую доктрину, которую мы назвали эпистемологическим дуализмом, или репрезентационализмом. Как мы уже сказали в предыдущим примечании, к этим темам вернулись в современной теории интенциональности, но их можно найти, например, и в фрегевском различении Sinn (смысла) и Bedeutung (значения), в нескольких работах Рассела и т.д. (иногда в «репрезентационалистском» смысле, как у Рассела, иногда нет). В дополнение к уже упомянутой литературе упомянем Серла (Searle 1983) и Дрейфуса (Dreyfus 1982).
34Заметим, однако, это отождествление очень отличается от того, которое характеризует референциалистскую и экстенционалистскую семантики, обсуждавшиеся в предыдущем разделе. В этом случае интенсионал
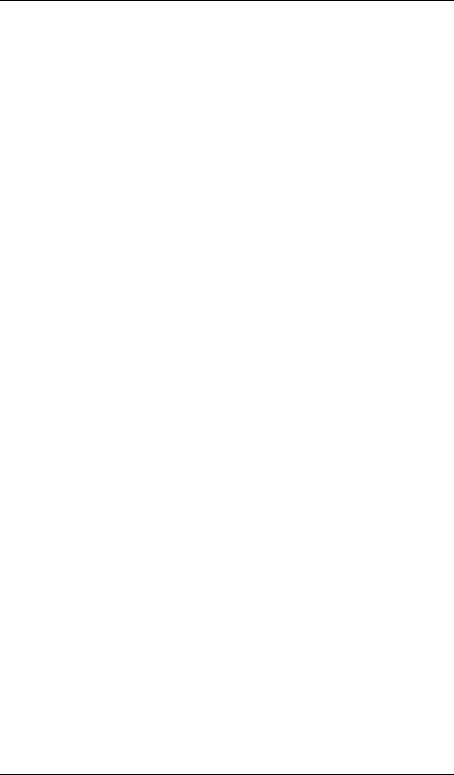
Примечания 337
фактически исключался, и утверждалось, что значение совпадает с референцией. В случае же эпистемологического дуализма вместо этого интенсионал присутствует и даже настолько доминирует, что препятствует доступу к референту и сам становится референтом.
35 Благодаря этому факту ноэмы могут в то же время быть «объективным», т.е. независимы от субъективного акта «мышления» и от ментальных или психологических образов разного рода. Но они не могут не быть в то же время для реальности «способами представления ее мышлению» в различных ее аспектах. Это хотел выразить Фреге, когда пытался объяснить, в каком смысле не только конкретные референты, но и мысли обладают объективным существованием: «Я понимаю под объективностью независимость от наших восприятий, интуиций и идей, от формирования внутренних образов, от воспоминания прежних восприятий, но не независимость от разума: ведь сказать, что вещи независимы от разума – значит судить их, не судя, вроде как стирать мех, не замочив его» (Frege 1884, p. 36). В этом высказывании Фреге мы можем обнаружить краткую, но значимую формулировку духа ненаивного реализма, т.е. реализма, не сводящего реальность к простым идеям, но и не упускающего из виду, что мы можем утверждать существование только известных реальностей.
36Сказанное здесь есть краткое представление традиционного различения intentio prima и intentio secunda, о котором мы уже упоминали в предыдущем разделе.
37Мы признаем, следовательно, что высказывания о существовании могут выдвигаться и действительно часто выдвигаются на основании веры или мнения, т.е. на основаниях, которые мы здесь называем некогнитивными.
38См. обсуждение кантовской теории ноумена в разд. 1.7. Интересно отметить в этом контексте, что Гуссерль, поскольку он был антидуалистом, не мог признать, что если внешний мир существует, он может состоять из вещей в себе, в принципе непознаваемых. Это, возможно, одна из причин, по которым на последнем этапе своей философии он стал идеалистом. Одним из возможных объяснений этого факта (который, однако, не признается некоторыми интерпретаторами Гуссерля) является то, что он считал реализм незащитимым, поскольку внешний мир может быть познан людьми только частично, в том смысле, что такое знание никогда не может быть полным. Мы об этом можем сказать, что такой вывод был бы логически некорректным. На самом деле неполнота нашего знания о внешнем мире объясняется, вероятно, не тем, что есть, так сказать, части мира, эпистемологически недостижимые, а скорее тем фактом, что наши объектификации этого мира потенциально бесконечны и что в результате этого наше знание неистощимо, даже хотя оно всегда реалистически отсылается (is referred to) к этому миру. Мы вернемся к этому вопросу при обсуждении проблемы реализма (и во всяком случае мы не утверждаем, что это целенаправленная критика доктрины Гуссерля).

338 Глава 4. Онтологическая ангажированность науки
39Чтобы не осложнять наше изложение, мы не будем упоминать здесь те специфические образы, которые могут получаться путем абстрагирования и которые могли бы привести нас к применению наших рассуждений к абстрактным объектам (entities), таким как в математике. Так что мы не примыкаем к базовой позиции эмпиризма, как можно было бы думать на основании приводимых нами элементарных примеров.
40См., напр., Ingarden (1964/1965), vol. 1: Existentialontologie, p. 33.
41Некоторые авторы настаивали на том, что реализм (будь то повседневный или научный реализм) является «метафизической» позицией и как таковой не должен смешиваться с эпистемологической или семантической точкой зрения, ни ставиться в зависимость от какой-либо конкретной теории истинности (такой как теория соответствия). Такую позицию,
вчастности, отстаивал Девитт (Devitt 1984). Мы до известной степени можем согласиться с этим взглядом, особенно поскольку знакомство с литературой по реализму и антиреализму показывает, что антиреалистические позиции часто занимаются как следствие принятия конкретных семантических или эпистемологических тезисов. Этот факт, однако, не может помешать признанию того, что простой «метафизической» защиты реализма, такой как предпринятая Девиттом в форме очень общей «натуралистической защиты», недостаточно для того, чтобы представить убедительные аргументы в пользу реализма (хотя он часто бывает достаточно убедительным в своей критике конкретных форм антиреализма). Вот почему мы убеждены, что для правильного понимания проблем, которым посвящен «спор о реализме», и для верной оценки «аргументов», выдвигаемых разными его сторонами, нужен серьезный семантический анализ (и в том числе прояснение проблемы референции), также как и пристальное рассмотрение понятия истины.
42На этой «холистической» концепции значения особенно настаивали, как мы видели, те новейшие философы, которые сделали из нее точку опоры в отстаивании нагруженности теорией каждого научного термина, несоизмеримости теорий, связанной с изменчивостью значений и т.д. Справедливо будет, однако, признать, что эта доктрина не слишком нова. На самом деле она уже содержится в концепции, которую сам Фреге считал главным новаторством своей логики по отношению к его предшественникам и даже причиной того, почему его логика (до известной степени) находилась в оппозиции Аристотелю и традиции. Эта концепция утверждала приоритет пропозиции перед понятием. Простейшей единицей является пропозиция, в которой выражается суждение (т.е. содержание мысли), и, только анализируя это простейшее значение, можем мы определить, какие понятия встречаются
впропозиции, и определить их значения. Традиционно эта ситуация понималась наоборот: путем абстрагирования мы сначала получаем понятия, а потом соединяем понятия, чтобы получить суждения. Отказ от этой концепции начинается – в философии, – конечно, с приоритета суждения, в явном виде подчеркнутого Кантом; но Кант неспособен был перевести эту точку зрения в свой способ понимания логики

Примечания 339
(его логика остается структурированной по традиционной схеме, как
иего учение о суждении, которое он все еще рассматривает как приписывание предиката субъекту). И только с Фреге кантовское новшество нашло признание в логике (и в том факте, что отношение субъект– предикат было заменено у Фреге на отношение функция–аргумент). Понятия рассматриваются как ненасыщенные логические единицы
икак таковые не могут быть первичными носителями значения. Конечно, это не помешало тому, что на последующих шагах построения языка сложные понятия получались путем сочетания смыслов уже имеющихся понятий и, аналогично, что смысл пропозиции определялся на основе смысла его составных частей, в том числе понятий.
43Как указывал Шопенгауэр, немецкое слово Wirklichkeit, означающее «реальность», включает в себя идею действия (Wirkung). То же относится и к английскому actual.
44Эта концепция прагматической и операциональной природы референции, которую мы предложили и отстаивали в течение многих лет, имеет определенное сходство с с некоторыми предложенными позднее доктринами. Например, не случайно, что «новая семантика», или «антифрегеанская семантика», о которой мы говорили в разд. 4.1 и которая есть типичная семантика референции в противоположность семантике смысла, открыто утверждает, что референция в конечном счете сводится к остенсии, поскольку все, что имеет значение применительно к референту, – это отождествить его. Это отождествление имеет место в контексте социальной коммуникативной практики, задача которой, однако, состоит не в улучшении понимания нами некоторого значения: «обстоятельства высказывания (произнесения – utterance) помогают нам добиться идентификации референта, но не путем какой-либо дескриптивной его характеризации» (Wettstein 1991, p. 26). Более того, контекст высказывания (произнесения) лишь отчасти языковый, не только потому, что естественные языки понимаются как социальные институции, управляемые сложной системой правил и соглашений, но и потому, что в конкретных ситуациях идентификация референта в первую очередь связана с материальными жестами: «жесты указания не только наводят на референцию, но и фактически ее определяют» (Wettstein, op. cit., p. 78; вообще, его работа дает хорошо разработанную трактовку этих понятий).
Но и Ром Харре высказывал подобное понимание референции: «Референция – человеческая дейктическая практика, посредством которой с помощью любых подручных средств одна личность старается при-
влечь внимание другой личности к чему-то имеющему место в их общем публичном пространстве» (Harré 1986, p. 97; гл. 4 этой работы имеет многозначительное название: «Референция как материальная практика»). Мы можем сказать, что по сравнению с этими и другими подобными позициями наше теория более разработана и имеет ту существенную характеристику, что соотносит референцию с более точным понятием операции, а это гораздо больше, нежели простые жесты

340 Глава 4. Онтологическая ангажированность науки
или общее «выхватывание», как в примере Харре. Вот почему, в частности, мы полагаем, что наша позиция лучше подходит для трактовки проблемы референции в науке и лучше вооружена для обеспечения устойчивости референта – невзирая на «переменчивость (variance) значения», – которую мы уже обсуждали.
45Этим объясняется, почему в «Основаниях арифметики» (1884), где Фреге интересовало значение математических понятий, он мог отстаивать чисто контекстную теорию значения, тогда как в тех случаях, когда он рассматривал более общие задачи, он расширял пространство рассмотрения референтов, например в в его статье «О смысле и референции» (1982).
46Напомним, что согласно взгляду, предлагаемому в данной работе, всякая научная дисциплина характеризуется специфической «точкой зрения», с которой она рассматривает реальность, что влечет за собой принятие некоторых специфических предикатов. Они составляют «специфику» языка данной дисциплины, присутствие в котором некоторых элементов повседневного языка служит просто для общения и референциальности. Поэтому «дискурсы», формулируемые в некоторой дисциплине, непременно содержат много выражений обыденного языка, но они «дисциплинарны» только в той мере, в какой содержат предикаты, специфические для данной дисциплины.
47Очевидно, возможно, что некоторая «точка зрения» оформляется в рамках другой точки зрения, так что два соответствующих языка связаны друг с другом более значимым образом, чем только общностью референции; но мы не заинтересованы в обсуждении этого вопроса здесь.
48Во «Второй день» «Диалогов о двух главнейших системах мира» Сагредо (выражающий позицию Галилея) приветствует использование математики при исследовании природных явлений, на что аристотелианец Симпличио возражает, что использование математики ошибочно, поскольку в области материальных вещей никакие геометрические свойства не выполняются из-за несовершенства материи. Например, в физическом мире сфера никогда не касается плоскости в одной точке, как того требует геометрия. На это Сальвиати отвечает, что это происходит потому, что в материальном мире не существует идеальных сфер и плоскостей, но это не опровергает геометрических рассуждений, ибо «и в абстракции нематериальная сфера, которая является несовершенной сферой, может касаться нематериальной, также несовершенной плоскости не одной точкой, а частью поверхности. Так что то, что происходит конкретно, имеет место и в абстракции». (Галилей. Г. Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой / Пер. А.И. Долгова. М. — Л.: ОГИЗ, 1948. С. 161).
Здесь мы видим, что в то время, как признается, что никакой абстрактный объект не может кодировать абстрактные свойства, но только экземплифицировать их до известного предела, возможно также отображать свойства, экземплифицируемые некоторым конкретным объектом, в некоторый абстрактный объект, где они могут изучаться

Примечания 341
в полной общности и в терминах логической необходимости. В работе Галилея дискуссия продолжается утверждением, что «философ-гео- метр», желая проверить конкретно результаты, полученные путем абстрактных доказательств, должен сбросить помеху материи, и если он сумеет это сделать, то, уверяю вас, все сойдется не менее точно, чем при арифметических подсчетах» (там же). Здесь мы находим указание на необходимость нетривиальных усилий для нахождения экземплификации закодированных «абстрактных свойств» в области «конкретных объектов».
49 Соображения, изложенные в этом разделе, позволяют нам предложить критическую оценку знаменитого различения, отстаиваемого Уилфридом Селларсом в его статье «Философия и научный образ человека» (Sellars 1963, pp. 1–40). Согласно Селларсу, самосознание, посредством которого человек-в-мире осуществляет идентификацию своей собственной природы, зависит от сложного идеализированного взгляда,
вкотором элементы восприятия, концептуализации, классификации, категоризации и разного рода теории глубоко взаимосвязаны, образуя глобальный «образ», развивавшийся постепенно с доисторических времен до настоящего времени, который мы принимаем как данное и считаем очевидным. Это «явный (manifest)» образ мира. Однако с возникновением современной науки быстро развился новый образ мира – «научный образ», который не соответствует явному образу мира, разделяемому здравым смыслом, а расходится с ним. Согласно Селларсу, однако, явный образ (хотя и неизбежно являющийся общепринятой системой отсылок в нашей повседневной жизни) ошибочен и должен быть заменен научным образом, который дает нам истинное представление о реальности.
Против этой доктрины выдвигались различные возражения. В том числе, что сам явный образ есть основа, на которой построен научный образ; что разные науки предлагают разные образы мира, так что вряд ли имеет смысл говорить о научном образе; и что наука находится
всостоянии непрерывного пересмотра, так что научный образ, способный заменить явный образ, есть в лучшем случае идеал, утопическое конечное состояние, чьи черты и сроки осуществления мы не можем даже представить себе.
Мы не заинтересованы в обсуждении здесь этих (и подобных) возражений, поскольку видим некоторые более глубокие основания для несогласия с Селларсом. Первое – то, что его различение не учитывает различия между вещами и объектами и, в частности, игнорирует тот факт, что науки исследуют только ограниченное число специфических атрибутов вещей (например, физические атрибуты). Но и здравый смысл не может действовать иначе: явный образ мира вырабатывался, начиная с достаточно большого, но все же ограниченного количества атрибутов, и содержит те концептуализации и теории, которые считаются адекватными для понимания и объяснения мира как характеризуемого этими атрибутами. Более того, и наука, и здравый смысл не
