
Уайт Л. Избранное. Эволюция культуры (Культурология. XX век). 2004
.pdf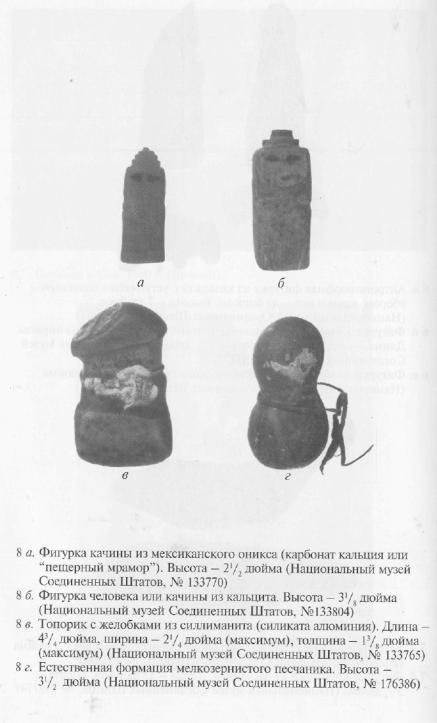
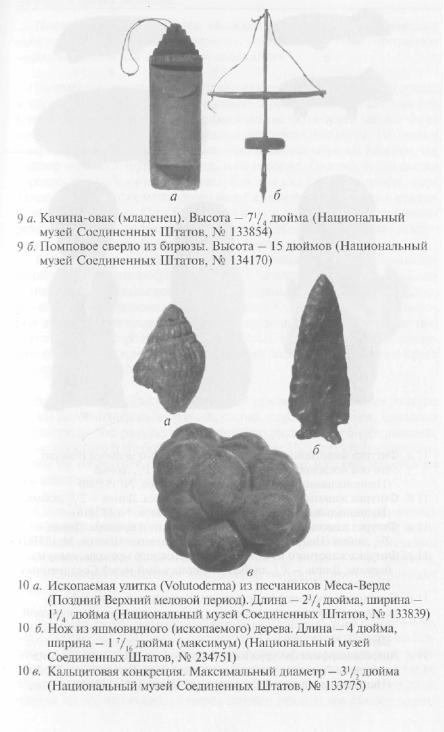
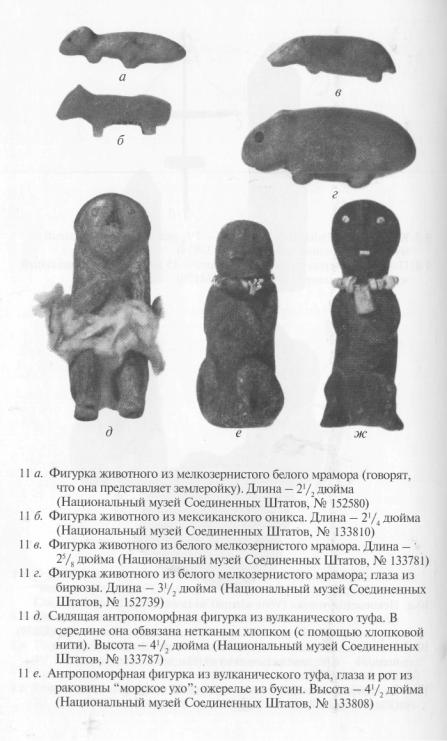
Вновь процитируем Боаса: «Каждая культурная группа обладает собственной уникальной историей». Это приводит его к отрицанию «единообразной для всего мира эволюции»37. Разумеется, каждый народ обладает своей собственной историей, и эта история уникальна. Совершенно справедливо, что, как говорит Стерн, культурную историю народа можно объяснить только через нее же, а не при помощи эволюционистской формулы. Но дело в том, что ни один эволюционист - по крайней мере ни Морган, ни Тайлор — ничего другого никогда и не говорил. Они знали это так же хорошо, как и сторонники Боаса. Как мы уже говорили ранее, эволюционистские формулы описывают культурные процессы, стадии развития культуры. Они не приложимы к истории культуры конкретных племен и не предназначались для этой цели. Давайте послушаем, что по этому поводу говорят Морган и Тайлор.
Начнем с цитаты из Тайлора, где он открыто и определенно заявляет, что его интересует культура, а не племена или нации: «Если сузить исследовательское поле от Истории,
понимаемой как целое, к той ее ветви, которая называется здесь Культурой, то есть к истории не племен или наций, а состояния их знаний, религии, искусства, обычаев и т.п. [коротко говоря, культуры], то окажется, что исследовательская задача лежит внутри гораздо более ограниченного круга (курсив мой. — Л. .К)»38.
Вдругом месте Тайлор говорит: «В целом представляется, что где бы ни встречались развитое искусство, глубокие знания, сложные институты,— это результат постепенного развития из
более раннего, более простого и грубого состояния жизни. Ни одна стадия цивилизации не возникает спонтанно, но вырастает или развивается из предшествующей ей стадии»39. Снова Тайлор: «Детали Культуры поддаются разбивке на множество этнографических комплексов, составленных из явлений, которые связаны соответственно с искусством,
верованиями, обычаями и всем остальным; следом идет анализ того, в какой мере явления, составляющие указанные комплексы, эволюционно происходят одно из другого»40. Позиция Тайлора совершенно ясна. Его интересует культура и то, каким образом одна стадия «развивается из предшествующей ей стадии», а также каким образом один комплекс культурных черт «эволюционно происходит из другого». Вопреки обвинениям Боаса он не только напрямую не утверждает, но в его высказываниях нет даже намека на то, что «каждый народ должен пройти все стадии разви513
тия». В сущности, народы — племена или нации — упоминаются у Тайлора лишь в связи с тем, что они исключаются им из сферы исследования.
Сходным образом и Морган отслеживает направление культурного развития от дикости — через варварство — к цивилизации. И он говорит о культуре, а не о народах, когда пишет: «Архитектуру жилища... можно проследить от хижины дикаря, через общинный дом варваров, к дому отдельной семьи у цивилизованных наций...». «Обеспеченность существования возрастала и совершенствовалась в результате навыков, последовательно возникавших на
протяжении больших временных периодов, то в большей, то в меньшей степени связанных с изобретениями и открытиями»41.
Морган утверждает, что «род прошел через последовательные стадии развития» и что «семью можно со всей определенностью зафиксировать в нескольких последовательных формах»42. Но нам не известно, чтобы он хоть где-нибудь говорил, будто каждое племя должно пройти все эти стадии, чтобы развиваться в культурном отношении. Наоборот, как стало видно из ранее приведенных цитат, Морган считает, что элементы систем родства распространяются от одного народа к другому.
Вэволюции письменности Морган различает пять стадий: «1. Язык жестов... 2. Рисуночное
письмо... 3. Иероглифика... 4. Иероглифы, обозначающие фонемы... 5. Фонетический алфавит»43.
Нигде, насколько мы знаем, Морган не утверждает и даже не подразумевает, что каждое племя где бы то ни было должно проходить одни и те же цепочки стадий культурного развития. Напротив, он старается показать, что «под влиянием, исходящим от более высоких рас, у многих племен развитие собственной культуры было приостановлено и так долго искажалось, что его естественное течение нарушилось. Их институты и социальный облик вследствие этого видоизменились (курсив мой. — Л.У.)»44. Он отмечает, что древние бритты знали железо, но развили ремесло металлургии не сами, а приобрели его от «более продвинутых племен, живших на континенте»45.
В конце концов, из приведенных нами моргановских цитат явствует, что он считал диффузию настолько распространенным явлением, что многим племенам не было нужды самостоятельно развивать различные виды деятельности, а можно было заимствовать их у своих соседей в готовом виде. По словам Моргана, благодаря именно «этому постоянно воспроизводящемуся процессу более продвинутые племена поднимали уровень племен, стоявших ниже их»46. Приписывая эволюционистам представление о том, что все народы должны проходить через одни и те же последовательные стадии
514
культурного развития, школа Боаса выставила их как группу удивительно ненаблюдательных и неумных людей. Мыслимо ли, чтобы Морган, близко знавший множество индейцевирокезов, мог не увидеть, что они восприняли от своих белых соседей многие черты куль-
туры, не пройдя через стадии эволюции, необходимые для того, чтобы самостоятельно произвести эти черты? Разве Морган не видел, как они учатся пользоваться алфавитом, календарем и таблицей умножения; как усваивают различные орудия, предметы одежды, элементы архитектуры; как принимают понятия денег, общественной жизни и христианства? Можно ли поверить, чтобы Морган был настолько одержим какой-то формулой, что мог закрыть глаза на очевидные факты и настаивать, будто прежде, чем индейцы-сенека смогут воспринять алфавит, им необходимо пройти стадию иероглифической письменности; будто прежде, чем суметь воспринять арабские обозначения, им нужно какое-то время использовать римские цифры; что им нужно самостоятельно разработать календарь, металлургию и монотеизм, чтобы когда-нибудь иметь все это? Даже если бы Морган не дал нам свидетельств противоположного, нужны были бы серьезные факты и доказательства, чтобы убедить нас, что он или кто-либо еще мог быть столь слеп, упрям и глуп, как его выставляют антиэволюционисты47.
Тот же аргумент будет справедлив и для Тайлора, и нет нужды повторять его. Заявлять, что он защищал теорию, согласно которой каждый народ должен самостоятельно пройти одну и ту же последовательность стадий культурного развития, не используя ресурсов своих соседей, было бы абсурдом.
Смешение эволюции культуры и культурной истории народов находит выражение среди приверженцев Боаса и в другой форме: они часто не в состоянии отличить эволюционный процесс от процесса исторического. Это различие можно пояснить на простом примере.
Рассказ о письменности, в котором говорится, что первым возникло рисуночное письмо, из него выросла иерогли-фика, а из нее развился алфавит,— это пример эволюционного процесса. Речь здесь идет о письменности в целом, безотносительно ко времени и месту. Затрагиваются классы явлений, а не единичные и уникальные события. История письменности - совершенно иное дело. Например, говорится, что в определенном месте в определенное время обнаружилась определенная форма письменности. На Синайском полуострове в некое данное время некий конкретный народ придумал алфавит. Этот алфавит впоследствии распространился в такую-то страну и к такому-то народу в такое-то время; там с ним произошли определенные изменения, и т.д. В истории акцент делается на единичное событие, уникальное с точки зрения времени и пространства48.
515
Итак, школа Боаса попыталась заставить эволюционистские формулы исполнять обязанности истории. Например, Боас говорит: «Казалось бы, приемлемая общая теория развития цивилизации должна отвечать тому требованию, чтобы под нее подпадали исторические со-
бытия в любом конкретном регионе (курсив мой. — Л.У.)»49.
Согласно этому рассуждению, общая теория развития письменности должна была бы соответствовать историческим событиям, происходившим в племени сенека (запад штата Нью-Йорк) в промежутке между XVII и XIX вв. Однако общая теория не «соответствует»: сенека напрямую переходят от начальной стадии рисуночного письма к законченной системе письма алфавитного. Стало быть, заключают сторонники Боаса, общая теория несостоятельна. Логика их своеобразна. Это все равно, что пытаться использовать теоремы геометрии Евклида для установления формы и размеров луга у фермера Хокинса. Когда же вы убеждаетесь, что эти теоремы не дают вам искомую информацию («не соответствуют историческим событиям в данном регионе»), вы заявляете, что теоремы эти несостоятельны. Вы зайдете еще дальше, если будете рассуждать в логике Боаса: вы станете утверждать не только, что данные конкретные теоремы несостоятельны, но и что геометрия как таковая есть заблуждение, ибо Боас сделал вывод, что не только некоторые эволюционистские формулы ошибочны, но и самого эволюционного процесса не существует.
Проф. Рут Бенедикт тоже смешивает историю с эволюцией, когда говорит: «Никакая концепция эволюции власти не помогает историку, когда он реконструирует Англию времен Плантагенетов, точно так же для антрополога, по твердому его убеждению, является избыточной любая схема культур, построенная в духе восходящей эволюционной шкалы»50. Теоремы Евклида не помогают нам измерить луг, следовательно...
Эдвард Сэпир, называя эволюционизм «псевдоисторией», выказывает свое заблуждение51. Эволюционизм — не псевдоистория; это вообще не история. Очерк эволюции письменности
— определенно не то же самое, что история письменности.
Гольденвейзер венчает их аргументацию таким вот острым суждением: «Если бы эволюционисты были историками, а не антропологами-любителями, классическая теория социальной эволюции, вероятно, не вышла бы за пределы своих ранних этапов»52. Достигнут замечательный вывод: если бы первые антропологи были историками, а не эволюционистами, теория эволюции не получила бы столь серьезного развития. Мы можем, разумеется, только согласиться с Гольденвейзером. Если бы эти любители были историками, а не эволюционистами, они, естественно, создали бы
516
историю, а не эволюцию. В этом мало сомнений. К тому же, если бы Бетховен был сапожником, а не композитором, он создавал бы ботинки, а не симфонии. И если бы Наполеон был бухгалтером, а не солдатом...53 Гольденвейзер, подобно Сэпиру и другим приверженцам школы Боаса, не в состоянии разглядеть эволюционный процесс в культуре и отличить исторический процесс от эволюционного. Для них эволюция — это просто история, «идущая неправильно» («псевдоистория», как называет ее Сэпир). В сущности, такие ранние «любители», как Морган и Тайлор, были историками, а также эволюционистами. Но они были способны отличить один процесс от другого; они не пытались выдавить историю из эволюционистских формул.
Перед нами тем не менее встает вопрос: каким образом школа Боаса впала в такую ошибку? Почему они обвинили эволюционистов в игнорировании диффузии, в неспособности оценить ее значимость или в презрительном отношении к ней, в то время как два выдающихся представителя эволюционной школы продемонстрировали близкое знакомство с процессом диффузии и полное понимание той роли, которую она играет в культурной истории? Почему они заявили, что эволюционная теория постулирует для всех без исключения племен необходимость проходить одни и те же последовательные стадии развития, когда такие люди, как Морган и Тайлор, не только никогда не высказывали ничего подобного, но определенно и недвусмысленно выступали против такого утверждения? И наконец, почему сторонники Боаса использовали примеры диффузии для опровержения эволюционистской теории, тогда как ясно, что - как показал Морган — эволюция и диффузия суть культурные процессы, работающие в гармонии друг с другом? Мы здесь не станем пытаться давать полные и адекватные ответы на поставленные вопросы. Мы лишь попытаемся отчасти пролить на них свет. Во-первых, Боас и большинство его учеников всегда были ярыми антиэволюционистами. Как сказал по этому поводу Пол Радин, эволюционному взгляду был брошен вызов «главным образом Боасом... значительную долю энергии ему и его последователям приходилось тратить на разоблачение названного взгляда»54. Гольденвейзер писал статью за статьей против эволюционизма. По-видимому, многих приверженцев школы Боаса одушевляло нечто подобное тому пылу, который так сильно бушевал в груди стойкого противника эволюции и науки Уильяма Дженнингса Брайана. Бертольд Лофер однажды подвигся на то, чтобы заклеймить теорию культурной эволюции как «наиболее бессодержательную, бесплодную и вредную теорию из всех когда-либо создававшихся за всю историю науки»55. Брайан заявлял, что «человек никогда не провозглашал более омерзительной
517
доктрины», чем доктрина эволюции56. При таком философском кругозоре вполне можно было ожидать, что школа Боаса расположится в пользу любой теории, противостоящей эволюции. Поэтому, когда появилась концепция, которая, как казалось, «подрубает корни любой теории исторических закономерностей», адепты этой школы были достаточно некритичны, чтобы принять ее и, по выражению Гольденвейзера, использовать «как оружие в борьбе с некритичным [sic] эволюционизмом». И все это — на протяжении десятилетий.
Во-вторых, мы могли бы задать вопрос: а читали ли Боас и его ученики работы тех, кого они критикуют? Такое подозрение может показаться недостойным, но оно возникает не первый раз. Патер В. Шмидт, к примеру, решительно обвинил двух адептов школы Боаса - Эдварда Сэпира и Пола Радина — в том, что они критикуют Гребнера, не прочитав его работ (это если не хотеть, как он говорит, «прийти к еще менее благоприятным выводам»)57. На правомерность нашего вопроса указывает тот факт, что один из сторонников Боаса — Бернхард Стерн
— в написанной им биографии одного из выдающихся эволюционистов заявил, что «Морган
нигде в своих книгах не использует слова "эволюция"», тогда как данное слово появляется на самой первой странице главы 1 керровского издания «Древнего общества» и дважды — на первых четырех страницах хол-товского издания. Слово это обнаруживается также и в других книгах и статьях Моргана58. Трудно понять, каким образом человек, прочитавший Моргана, мог сделать подобное заявление. В очерке «История антропологии» Франц Боас не находит сил даже упомянуть имя Моргана, хотя замечает, что «набросок истории основных тенденций в антропологии был бы неполон без нескольких упоминаний о людях, которые сделали эту науку такой, какова она есть»59. Пол Радин утверждал, что «для всех учеников Боаса Морган до сих пор остается проклятым и непрочитанным»60. Это, несомненно, преувеличение, поскольку Лоуи явно прочел Моргана. Тем не менее трудно понять, как мог Лоуи, прочитав те отрывки из Моргана, которые цитировались в нашем очерке, прийти к выводу, что диффузия отрицает эволюцию.
Наконец, в-третьих, мы считаем, что к неразличению эволюции культуры и истории народов школу Боаса привело некритичное использование таких выражений, как «культура» и «данная культура».
Мы видели, как сторонники Боаса заявляли, что эволюционистская теория требует, чтобы «каждый народ», «разные расы» и т.д. проходили через одни и те же последовательные стадии культурного развития. Тут смешение понятий народы и культура достаточно очевидно, и оно, несомненно, стало бы ясным и для приверженцев Боаса, если бы не обуявшее их желание разрушить такую неприятную доктрину, как эволюция. Но иногда они подают свою аргумен518
тацию в других выражениях, говоря, что требование эволюционистской теории о прохождении через определенную последовательность стадий развития относится к «той или иной конкретной культуре». С этим аргументом, однако, не все так просто, ибо что есть «та или иная конкретная культура»? Это культурная категория или этническая^ Ее предметом является культура или народ! Если приглядеться, мы увидим, что данная категория неоднозначна: она подразумевает в одних случаях одно, в других — другое. Она облегчает незаметное соскальзывание с изучения процессов развития, происходящих в культуре, на рассмотрение культурного опыта того или иного народа — при этом не осознается, что по ходу доказательства изменилась посылка. Покажем это на примере.
Лоуи утверждает, что «необычайная распространенность, которой достигла такая диффузия, доказывает, что реальное развитие той или иной конкретной культуры не соответствует имманентным законам, обязательно приводящим к определенным результатам, тем гипоте-
тическим законам, которые сводятся на нет контактами с другими народами (курсив мой. -
Л.У.)»61.
Ральф Линтон говорит о «вере в однолинейную эволюцию всех институтов и культур, то есть в то, что все культуры в своем восхождении наверх прошли или проходят одни и те же стадии (курсив мой. — Л.У.)»62.
А что есть та или иная культура? Обычный ответ, как правило, бывает таким: та или иная культура - это культура, принадлежащая племени или региону, как, например, культура индейцев-сенека или культура Великих равнин. Культура сенека поэтому должна быть той частью культуры человеческого рода, которой обладает племя под названием сенека; культура Великих равнин должна быть той частью человеческой культуры, которая обнаруживается в определенном географическом регионе. Некая характерная особенность не является элементом культуры сенека, если ею не обладает (или не обладало) племя сенека; сходным образом некая характерная особенность не является элементом культуры Великих равнин, если она не обнаруживается в районе Великих равнин (или не пришла оттуда). Мы видим, таким образом, что в каждом случае определяющим фактором служит нечто, лежащее за пределами культуры как таковой. Если какая-то характерная особенность распространяется от чужого племени на западную часть штата Нью-Йорк и воспринимается племенем сенека, то она становится элементом культуры сенека; точно так же, если какая-то черта культуры — например, лошадь — проникает в область Великих равнин и приживается там, она становится частью культуры Великих равнин. Пока все хорошо. «Сенека» и «Великие
519
равнины» используются здесь всего лишь как условные обозначения для комплексов явлений.
Но некоторые антропологи на этом не остановились. Они осмыслили и представили культуру сенека так, как если бы она была самодостаточным культурным целым. Они сказали, например, что эволюционистская теория требует, чтобы культура сенека или культура Великих равнин прошли определенную последовательность стадий развития. И вот здесь они впали в ошибку и запутались.
Поскольку культура сенека может означать только ту часть человеческой культуры, которая ассоциируется с племенем сенека, из этого явствует, что культура сенека может означать лишь деяния и жизненный опыт народа сенека. Короче говоря, сказать, что культура сенека должна пройти определенную последовательность стадий — это лишь скрытый способ заявить, что народ сенека должен пройти через такую-то и такую-то стадии. Или же в случае с Великими равнинами — что такой-то и такой-то регион должен пройти через такую-то последовательность. В этом смысле эволюционисты никогда не говорили ничего подобного. Они говорили, что культура—в целом или в определенных своих аспектах, таких, как письменность, металлургия или социальная организация,— должна пройти через определенные стадии. Но они никогда не утверждали, что это должны делать определенные племена или регионы.
Строго говоря, не существует такой культурной категории, как культура сенека или культура Великих равнин,— они существуют не более чем такие явления, как английская математика, канзасские лошади или климат Великих равнин. Разумеется, если под культурой сенека вы понимаете исключительно «ту часть человеческой культуры, которая ассоциируется с племенем под названием сенека», то никаких возражений против этого возникнуть не может. Наоборот, вас следует похвалить за краткость и экономию. Точно так же никто не стал бы возражать против «английской математики», «канзасских лошадей» или «климата Великих равнин», если бы было понятно, что то, что обозначено подобным образом, представляет собой, соответственно, «ту часть математики, созданной человечеством, которая ассоциируется с народом, называемым англичанами», «тех представителей Equus caballus, которые находятся в пределах штата Канзас», и «те метеорологические условия, которые существуют в регионе, известном как Великие равнины». Но совершенно очевидно, что «английский» не есть категория внутри класса математики; Канзас не является категорией внутри класса лошадей, а Великие равнины — не метеорологическая категория. Есть породы «першерон» и «арабская», есть ломовые и верховые лошади, пятипалые и копытные, но нет лошадей канзасских, которых можно отличить от лошадей из Небраски по зоологическим критериям. Существует за520
сушливый, жаркий, холодный, влажный, умеренный климат, но нет климата Великих равнин. Но некоторые антропологи говорят о культуре сенека и культуре Великих равнин, как если бы это были культурные категории, а не этнические и географические сущности. Как следствие это приводит их к тому, что они применяют эволюционистские формулы культуры к указанным сущностям, говоря: «Культура сенека, согласно эволюционистской формуле, должна пройти такую-то и такую-то стадии». Поэтому, когда обнаруживается, что индейцысенека изменяют свою культуру путем заимствования и как народ минуют определенные стадии, эти ученые говорят, что эволюционистская формула показала свою несостоятельность. Эволюционистские формулы при-ложимы к таким вещам, как «длинный дом», конфедерация или другие элементы культуры, но не к самим народам.
Одной из доминирующих черт этнологической теории последних десятилетий, конечно, является антиэволюционизм. Подобно тому как в эпоху Моргана, Спенсера и Тайлора доминировала философия культурной эволюции, в наши дни на первое место вышла реакционная философия антиэволюционизма. Отрицание эволюционизма и отказ от него являются одним из главных теоретических достижений школы Боаса63. Долгое время среди наиболее мощных видов оружия в антиэволюционистском арсенале был аргумент о том, что диффузия отрицает эволюцию. Этот довод, как мы показали, ложен. Он покоится на логической ошибке, смешивающей несхожие по форме и по сути вещи: эволюцию культуры и культурную историю народов. С разоблачением этой ошибки устраняется и основная опора антиэволюционистской позиции.
Для того, кто исследует поведение ученых и развитие научной традиции, триумф аргумента,
заключенного в тезисе «диффузия отрицает эволюцию», а также его успех в течение стольких лет представляют собой интересную проблему. Как могла ошибка, которая, будучи раскрытой, предстает почти до абсурда очевидной, иметь такое хождение? Беспристрастного наблюдателя удивляет, как человек (Боас), которого звали «главным поборником научного метода полевой работы»64, «величайшим из ныне живущих антропологов»65, мог совершить такую ошибку. Удивляет также, как могли приверженцы Боаса принять ее и воспроизводить на протяжении более чем одного поколения. Это и в самом деле примечательный феномен - из тех, что заставляют задуматься о природе научной традиции.
В предыдущей статье66 мы показали, как ошибка, однажды утвердившись в антропологии, может воспроизводиться до бесконечности. С еще одним примером такого рода, как представляется, мы имеем дело здесь. Студентов годами учат, что факты диффузии «подрубают корни любой теории культурной эволюции». Они вырастают, 521
пишут книги и учат новые поколения студентов тому, что диффузия отрицает эволюцию. И так эта ошибка растет, с каждым годом становясь все более авторитетным мнением. А чтобы никто не думал, что данная ошибка потеряла свою силу, что с уменьшением влияния Боаса значение ее ослабло или что она исчезла со смертью учителя, мы хотим привлечь внимание к недавней статье в «Американском антропологе». В очерке, озаглавленном «О понятии культуры и некоторых связанных с ней заблуждениях», Дейвид Бидни сообщает: «Как установили Боас и другие американские антропологи, диффузия обычаев и артефактов на протяжении истории плюс наличие эмпирических данных о разнообразии последовательностей культурных форм показали непригодность эволюционной теории с ее естественными законами культурного развития»67.
Ошибка, о которой идет речь, еще жива и, похоже, цветет пышным цветом. Остается только задаваться вопросом, как долго еще это будет продолжаться.
Примечания
Перевод выполнен по изданию: White L.A. Diffusion vs. Evolution: An Anti-Evolutionist Fallacy // American Anthropologist, 1945. V. 5. № 47. P. 339-356.
' Lowe R.H. Primitive Society. N.Y., 1920. P. 434. 2 Idem. Culture and Ethnology. N.Y., 1917. P. 95. 5 Idem. The History of Ethnological Theory. N.Y., 1937. P. 60.
4 GoldenweiserA. Cultural Anthropology // The History and Prospects of the Social Sciences. N.Y., 1925. P. 226.
s Idem. Anthropology. N.Y., 1937. P. 516.
6 Idem. Early Civilization. N.Y., 1922. P. 26-27.
' Idem. Anthropology and Psychology // The Social Sciences and Their Interrelations. Boston, 1927. P. 79.
8Stem B.J. Lewis Henry Morgan: Social Evolutionist. Chicago, 1931. P. 135.
9Herskovits M.J., Willey MM. The Cultural Approach to Sociology // American Journal of Sociology, 1923. V.
29.P. 195.
10Hallowell A.I. Anthropology: Yesterday and Today // Sigma Xi Quarterly, 1936. V. 24. P. 164.
11Linton R. The Study of Man. N.Y., 1936. P. 382-383.
12GoldenweiserA. Four Phases of Anthropological Thought: An Outline // Papers and Proceedings, American Sociological Society, 1921. V. 16. P. 53.
13Idem. Diffusion and the American School of Historical Ethnology // American Journal of Sociology, 1925. V. 31. P. 20.
14Древняя игра мексиканских индейцев по типу игры в кости. — Прим. пер.
15Lowie R.H. Primitive Society... P. 6.
16Ibid. P. 15.
17TylorE.B. Primitive Culture. V. 1. L., 1871. P. 53.
18Lome R.H. Obituary of E.B.Tylor // American Anthropologist, 1917. V. 19. P. 264.
19GoldenweiserA. Evolution, Social // Encyclopedia of the Social Sciences, 1931. V. 5. P. 661.
2(1 Morgan L.H. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family // Smithsonian Contributions to Knowledge. 17, 1871. P. 62, 181, 188, 198, 471.
21Idem. Ancient Society. N.Y., 1877. P. 40.
22Ibid. P. 530.
23Ibid. P. 508.
24Idem. Houses and House-Life of the American Aborigines // United States Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region. Contribution to North American Ethnology. V. 4. 1881. P. 44.
25Idem. Systems of Consanguinity... P. 448.
26GoldenweiserA. Early Civilization... P. 25; см. также: idem. Anthropology... P. 513-514.
21 Lowie R.H. Culture and Ethnology... P. 81; idem. Primitive Society... P. 437. 28 Morgan L.H. Ancient Society... P. 463.
я Lowie R.H. American Culture History // American Anthropologist, 1940. V. 42. P. 371.
523
30TylorE.B. Anthropology// EncyclopaediaBritannica, 1910-1911. V. 2. P. 118.
31Idem. Anthropology. L., 1916. P. 280.
32В этой связи можно было бы напомнить, что Тайлор однажды заметил: «Это еще вопрос, что человек стал обрабатывать раньше: медь или железо»
33Boas F. The Mind of Primitive Man. N.Y., 1938. P. 178.
34Ibid. P. 182.
35Lome R.H. Social Organization // Encyclopedia of the Social Sciences, 1934. V. 14. P. 142; idem. Primitive Society... P. 441.
36Stern B.J. Lewis Henry Morgan: Social Evolutionist. Chicago, 1931. P. 136.
37BoasF. The Methods of Ethnology//American Anthropologist, 1920. V. 22. P. 317
38TylorE.B. Primitive Culture. V. 1... P. 5.
39Idem. Anthropology. L., 1916. P. 20.
40Idem. Primitive Culture. V. 1... P. 14.
41Morgan L.H. Ancient Society... P. 5, 6.
42Idem. Houses and House-Life... P. 3; idem. Ancient Society... P. 5.
43Idem. Ancient Society... P. 529.
44Ibid. P. 463. «Ibid. P. 11.
46Ibid. P. 530.
47Замечания наподобие приводимого ниже отнюдь не редкость в антиэволюционистских сочинениях сторонников Боаса: «Можно категорически утверждать, что даже в наихудшие времена Морган не сотворял более явной чепухи (и это еще слабо сказано)» (Lome R.H. Primitive Society... P. 389).
48Крёбер в 1923 г. высказывается и об эволюции письменности, и о происхождении и истории алфавита. Он начинает с утверждения, что «в развитии письменности логически выделяются три
стадии» (Kroeber A.L. Anthropology. N.Y., 1923. P. 263; курсив мой. - Л.У.). Описав эволюцию письменности, он кратко излагает историю алфавита.
49Boas F. Ethnological Problems in Canada // Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1910. V. 40. P. 536.
50Benedict R. The Science of Custom // The Making of Man. N.Y., 1931. P. 810.
51Sapir E. Anthropology and Sociology // The Social Sciences and Their Interrelations. Boston, 1927. P. 101.
52GoldenweiserA. Evolution, Social... P. 661.
53Заметим, кстати, что Гольденвейзера называют «философом американской антропологии» (Lome R.H. Review of: Goldenweiser A. Early Civilization // The Freeman, 1922. V. 6. P. 235).
54Rodin P. The Method and Theory of Ethnology. N.Y., 1933. P. 4.
55Laufer B. Review of: Lowie R.H. Culture and Ethnology // American Anthropologist, 1918. V. 20. P. 90.
56Bryan W.J., Bryan M.B. The Memoirs of William Jennings Bryan. Philadelphia, 1925. P. 547.
57Schmidt W. The Culture Historical Method of Ethnology. N.Y., 1939. P. 39, 55; такое же обвинение в адрес американского антрополога, который не был учеником Боаса, см. на с. 43.
58См.: White L.A. Morgan's Attitude Towards Religion and Science // American Anthropologist, 1944. V. 46. P. 224-225.
59Boas F. The History of Anthropology // Science, 1904. V. 20. P. 522.
60Rodin P. The Mind of Primitive man // The New Republic, 1939. V. 98, P. 303.
524
6i Lome R.H. Culture and Ethnology. N.Y., 1917. P. 95.
« Linton R Error in Anthropology // The Story of Human Error. N.Y., 1936. P. 314. « Антиэволюционизм,
разумеется, не сводится к школе Боаса. Школа «культурных кругов», или, как предпочитает говорить ее лидер, патер В. Шмидт, «культурно-историческая школа», тоже имеет резко антиэволюционную направленность. Многие, если не большинство видных деятелей этой школы, - римско-католические священники, которых, как указывает Клайд Клакхон, в силу их приверженности догматам своей церкви
«почти принуждают отказываться от 'Evolutionismus'a» (Kluckhohn С. Some Reflections of the Method and Theory of the Kulturkreislehre // American Anthropologist, 1936. V. 36. P. 173). Антиэволюционизм группы «культурных кругов», таким образом, покоится на твердом фундаменте католической догмы. Совсем не так очевидны источник и основание для антиэволюционистской философии школы Боаса. Однако сходство антиэволюционистского духа и взглядов двух этих школ хорошо видны в том энтузиазме и удовлетворении, с какими Альберт Мунч и Генри Спал-динг цитируют нападки
